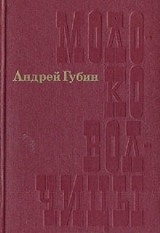
Текст книги "Молоко волчицы"
Автор книги: Андрей Губин
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 41 (всего у книги 44 страниц)
Из черепа выползла змея, нежится на первом солнце. Внезапно выпустила раздвоенный язычок, поплыла по роднику, опустилась на дно, смешалась окраской с малахитовыми камешками – к колесам подошли люди. Отбросили кости, покатили останки арбы наверх. Дмитрий Есаулов увидел на колесах свою фамилию, вспомнил арбу отца, и тогда Мария и Спиридон Васильевич предположили, чьи это кости.
Спиридон сложил в мешок останки брата и отнес в родовую могилу, как оклунок с зерном или картошкой, на плече. Гадает Спиридон, как погиб брат, и смотрит на старый родник, на сухой, закостеневший пень. Тут купались они, сидели в саду. Вот – вспоминает – пробился звонкой головой родниковый ключ, побежал к речке, серый пень вернулся в зеленую иву, скелет одевается плотью, в арбу с новыми колесами впряжены меднорогие быки. Глеб встает от родника, вытирает губы, поправляет кнут за голенищем, прыгает на ярмо, держась за рога быков, ступает по их спинам и, ухватившись за гнет, взбирается на воз свежего шелестящего сена. Заскрипели, запели колеса, скрытые наполовину цветами и травами. Смотрит Спиридон вслед призрачной арбе, вслед прошлому, вспоминает брата, и вот так все кончилось – сумкой серых костей...
А прах Михея перевезли на пушечном лафете и под артиллерийский салют опустили в могилу Коршака. Посмертно Михея наградили орденом Ленина. Старый памятник с изображением первых коммунистов восстановят. К сожалению, через двадцать лет он покажется новым людям бедным и примитивным, его снесут и поставят несколько помпезный мраморный обелиск, расширив площадь и сменив ясени, на которых Шкуро вешал красных, вечнозелеными туями и елями.
Жена и дочь Спиридона убереглись. Встречался он и с Марией, но встреч этих боялся – в ту весну Мария вместе с другими бабами пахала на себе и коровах: зрелище страшное, хоть и не отмеченное в иске, предъявленном гитлеровцам.
Иван Иванович отремонтировал арбу, сделанную его отцом. Возили на ней лес с гор, делали фургоны. Тракторов не было. Хлеборобам приходилось действовать снарядом библейским. Огонь и металл служили смерти. Землю пахали танки и самоходки. Жизни служило многотерпивое дерево.
Следующей весной колеса развалились окончательно и валялись в канаве.
Настал ликующе-трагический День Победы. Войне конец и конец надеждам на воскресение из мертвых, конец надеждам на ошибку в извещении. Часа в четыре утра станица и город раскололись залпами. Палили из всего наличного оружия – от гаубиц до берданок: получена весть о полной и безоговорочной капитуляции Германии – финал плана "Барбаросса". Раздались крики, песни, стоны, рыдания, смех. Комендант города, старый, чопорный, еще царский офицер, пришел к директору рынка и самовластно, под дулом "ТТ", приказал выкатывать из подвалов бочки с вином, а денег с людей не брать. Никто коменданта не осудил – он отделался замечанием – в истории России такой день был один со времен татаро-монгольского ига.
В этот день Спиридон Васильевич шел в группе офицеров, открывающих парад, с поверженным немецким флагом. Потом пил с офицерами. Блистая золоченой грудью, хвастал, что и его сыны молодецки били немца, всем показывал вырезку из газеты, что дал ему Михей, в которой рассказывалось о подвиге Героя Советского Союза Василия Спиридоновича Есаулова.
– Под Москвой лежит! – гордился отец. – Гвардии сержант. Другой орел, Сашка, повыше будет чином, капитан бронетанковых войск, кавалер пяти орденов и семи медалей! Посылки присылал из Восточной Пруссии, а теперь должно, вернется со дня на день.
Молодые офицеры уважительно чокались с партизанским полковником. Под вечер загулявший казак побеседовал с греком, продающим жареные семечки, и встретил почтальона-горбуна.
Когда Спиридон еще бегал мальчишкой по пыльным улицам, выменивая гусиные яйца на лакомые кружочки мороженого у кондитера-тележника, грек уже сидел на Пьяном базаре перед ситом с семечками и двумя стаканами, большим и маленьким. Уже тогда он был немолод. Желудевое, иссеченное морщинами лицо, черные руки и заросшая белой шерстью грудь. Прошло полвека. Грек продолжал сидеть на том же месте. Только один стакан оклеен по трещине бумагой. Все волны и бури пронеслись через него, и он не заметил их. Удивительно, что птицы не свили гнезда в его волосах.
Почтальон-горбун с незапамятных лет ежедневно обходил улицы с тяжелой сумкой письмоносца. Никто не помнил его молодым, не замечал в нем перемен. Будто шел он вне времени. Имя его не осталось в истории, но каждый день творил он подвиг марафонского вестника, навьюченный газетами и письмами, в которых писали о подвигах, любви, ненависти и заблуждениях. Горбун с выпяченной грудью свершал свой бег с точностью маятника, не болея, не бывая в отпуске. Наверное, много раз успел бы обойти земной шар. В мирные годы ему часто выносили чарку и бутерброд, он не отказывался, брал и чаевые, расспрашивал в тени яблонь и акаций о детях и внуках, что разбрелись по белому свету в поисках счастья, – и все равно к обеду успевал разнести почту.
В годы войны горб его словно вырос. Теперь он был и вестником смерти – сумка несла непомерное бремя коротеньких извещений.
Его стали бояться. Он и сам не поднимал глаз от земли.
– Есаулов, пакет...
Пакет был казенный, с печатью и штампами. Вскрыл его Спиридон дома, в сарайчике, – жили они в станице, получив жактовский дом.
Бланк стереотипный, слова нужные вписаны чернилами.
Извещение
Сообщаем вам, что ваш муж, _сын_, отец, брат (нужное подчеркнуть) к а в а л е р о р д е н о в Л е н и н а, К р а с н о г о З н а м е н и, С л а в ы и С у в о р о в а Е с а у л о в А л е к с а н д р С п и р и д о н о в и ч, в боях за Социалистическую Родину, проявив мужество и геройство, _убит_, ранен, контужен, пропал без вести (нужное подчеркнуть) 2 м а я 1945 г о д а.
П о х о р о н е н в г о р о д е Б е р л и н, с е в е р н а я о к р а и н а, ч е т в е р т а я б р а т с к а я м о г и л а, н о м е р 356.
Данное извещение дает право ходатайствовать о пенсии.
Командир в/ч г в а р д и и п о л к о в н и к И в а н о в.
Вот, значит, и Москва, и Берлин ему родные: в Москве – Васька, в Берлине – Сашка лежит... Дочка растет в Париже, в Мадриде друзья остались – вот какая большая станица – родина у казака. В сарайчике прохладно. Ярко зеленеет кипа сена в яслях. Пружинно вошла кошка, поводя горящими зелеными глазами, мурчит, хвалится перед хозяином – в зубах живой мышонок.
– Мурка, – уронил голову полковник Есаулов, – нету у нас ни Васьки, ни Сашки.
Кошка по-тигриному бьет хвостом по бокам, отпускает мышонка, одним прыжком настигает его, подбрасывает лапами и опять отпускает.
Ночь, как волшебный стекольщик, застеклила окна домов янтарными, лунными, алыми стеклами – маскировка кончилась. Спиридон вяло встал, высморкался, спрятал бумагу в потрепанный немецкий бумажник, пошел в хату.
Жилистой рукой бабка крутила каменную мельницу. Она барышевала покупала кукурузу, молола и продавала на баночки. Дочь шила обнову и шушукалась с востроглазой подружкой, долетали слова: "Тогда он перевстречать меня стал... а Гришка написал: в конце мая демобилизуется". Отец повесил шапку, молодцевато огладил красную бороду:
– Вечерять пора, мать.
Но проглотить куска не мог. Выпил араки и забыл закусить. Фоля говорила о посевах – договорилась с объездчиками посадить в Чугуевой балке картошку, а за Лермонтовской горой кукурузу. Спиридон согласно кивал головой и пытался представить немецкий город Берлин, северную окраину, братскую могилу. Спать пошел в сарай, чтобы дать волю сердцу.
Только задремал, явился сын Васька, что под Москвой, и стал выговаривать отцу: почему он прячет их от матери, в дом не пускает, а держит в дальних, хотя и прекрасных городах.
Разбудили громкие причитания жены и дочери. Фоля имела слабость, проверяла казну мужа, шарила по карманам, особенно у пьяного, и прятала добытые рубли в сундук. Спиридон спрятал бумажник в потайной карман пиджака. А она как раз давно не проверяла этот пиджак. И полезла. И наткнулась на страшную бумагу.
Спиридон обнял женщин, и так сидели они ночь, день и снова ночь, плача и стеная. Еды в эти дни никакой не требовалось.
Письмо "эдельвейса" он тоже носил в бумажнике. Теперь пошел на почту и отослал его немецкой матери – дал последний выстрел в сторону Германии.
Так кончилась в станице Великая Отечественная война.
У ВОРОНЦОВА МОСТА
Покатилась телега Спиридона с горы.
Силы стали покидать его. Совсем сдал после того, как дедушка Исай сказал Спиридону на улице, что только что видел его сына Сашку, вон за угол завернул. Спиридон кинулся догонять сына, все затрусилось на нем. За углом видит: сын шагает скоро, по-офицерски, в руках чемодан и шинель. Кричит Спиридон – голоса нету. Взрослым он никогда сына не видел. Бежит из последних сил, догоняет, схватил за руку, офицер оглянулся. Нет, он не Александр и не Есаулов – обознался дедушка Исай. Спиридон зашатался, повалился на землю. Вызвали "скорую помощь", забрали в больницу.
Он не поседел, не растерял зубов, но мучала его "задышка" – воздуха не хватало, – стал задыхаться, как мать Прасковья Харитоновна к старости. Пенсия у него хорошая, бабка добытная, но без дела скучно. Исхлопотал себе должность смотрителя подкумских мостов. Резиденцию поставил, шалаш, у Воронцова моста, сооруженного солдатами графа за одну ночь для переправы горной артиллерии. Каменная однопролетная арка в стороне от главных дорог, мостом почти не пользовались многие годы, зарастал он незабудками и гиацинтами, наступали кусты облепихи. Немцы взорвали его. Мост собирались восстанавливать – поэтому и поставил тут шалаш. Вокруг шумят сады, волнуются камыши, синеют горы, плывут облака – томительная беспредельная красота мира от цветной песчинки до звездного небосвода.
Пришли машины, и началось массовое вымирание лошадей.
Смотритель ездил на коне – имел эту привилегию наравне с объездчиками. Конь был с ленцой, колхозный, и Спиридон завел казачью плеть. Сам запасал коню корм. Машинное сено не так вкусно, как ручного укоса, под машинными Граблями в жару облетает цвет, листочки, самый вкус. Конь – последнее напоминание того мира, который навсегда ушел с казачьей земли, о котором никто решительно не жалел, но вспоминали, как вспоминают все, связанное с молодостью. Ходил и пешком. Походка у него легкая, оттого что на ходу Спиридон Васильевич напевал про себя песни и марши, и поэтому жизнь прошел, как на параде.
О старине напоминала и речка. Есть что-то магическое в ее непрестанном из века в век течении. Что бы ни происходило, она безостановочно текла и текла. В зной смотритель обмывался бурной, стремительной влагой, вспоминая ледяной грот Эльбруса, откуда вырывается река. В ином месте ее ширина не более десяти метров – зато и быстрина здесь, коня сбивает! В своих скитаниях Спиридон немало повидал рек величественных, безбрежных, спокойных. Они звали поселиться на ровных берегах. А небольшая кавказская речка лишает покоя – куда она торопится? заставляет вскакивать, бежать, догонять упущенное – утекают годы, уносится жизнь. Стали понятны слова заключенного астронома: нельзя дважды вступить в одну и ту же воду. Поистине – здесь нельзя.
Казачья река имела мощное родниковое начало, выливаясь из подземного озера. Разбивалась на рукава, уходила почти вся под землю, вырывалась, грозно ревела водопадами, намывала песчаные косы, поила людей, скот, сады и виноградники, теряя силу, вливалась в Куму. Ездил Спиридон на Черные земли – стрелять сайгаков и видел печальный конец казачьей реки – глохнет в песках и лиманах, но в иной год докатывается до самого синего моря.
Буруны в вечной атаке бьют и бьют позеленевший гранит графского моста. Звенят прутья ивняка. Мелькнет в траве длинная белая ласка-мышеедка, на ветках прыгают черные дятлы, яркие снегири, прошуршит ушастый еж. В плавнях подстерегает диких голубей камышовый кот. Извиваются гадюки, медянки, большие изумрудные ящерицы. Все это постепенно отступает, ширятся посевы, сады, вырастают фермы, поселки, линии высокого напряжения. Уходят камыши, редеют заросли – при ветре шумят они не угрозой, как в старину, а затаенной лаской умирания.
Спиридон пережил братьев и почти всех казаков его присяги. И новое зерно падет в землю, чтобы по истечении времен стать новым колосом.
Дождь развесил мелкий бредень над речной долиной. Дождинки шелестели по балагану, похожему на огромную желтую бабочку, залетевшую в сад и поднявшую усики кольев, высунутых из сена. Гулко падало переспелое яблоко. Мокрая трава нахолодала. Смотритель глубже залез под немецкий камуфляж эльбрусский трофей, подкинул дровишек в костер. Посапывал на огне медный чайник. Собака свернулась клубком под снизками яблок. Звякает железными путами мерин. Дождь заволакивал горы, река темнела, вздувалась, выплескивалась из берегов. Спиридон гадает: придут или нет бабы обрывать фрукты в садах? Наверное, нет, сыро, а одному скучно, хоть и много дней провел в одиночестве.
Наведывался к дяде племянник Дмитрий Глебович, ставший председателем укрупненного колхоза – когда-то в станице была одна, первая артель коммунаров, потом семнадцать колхозов, теперь снова один колхоз-гигант, получающий доходы в шестьдесят миллионов рублей. Заочно Дмитрий окончил сельскохозяйственный техникум, стал членом партии.
Любовь с Любой Марковой кончилась – устарел казак. Иван Сонич говорил Спиридону, что баба сохнет по нему, вспоминает жизнь в горах, и выступал сватом. Спиридон отвечал:
– На бабу, Иван, смотри, как вор, попавший в ювелирный магазин, хватанул в обе горсти и тягу. А я отворовался уже.
Иван тоже навещал бывшего командира, лепился к нему. Роднился он и с Марией, которая жалела его, обстирывала, хранила тайные от жены деньжонки. Очутившись на свободе после сотни Спиридона, Иван попал в тягчайшую кабалу к ловкой бабенке-баптистке. Она родила от него троих детей и больше к себе не подпускала. Определила его жить в чулан, кормила остатками обеда, сама получала его заработок. Иван восстал. Она подала в суд, брала на детей алименты – остальные деньги он отдавал сам, утаивая малую толику. Работать она его приправила в горы на ручное бурение – на длинные рубли. Зарабатывал много, но праздничные сапоги еще те, которые справлял ему хозяин Глеб Васильевич. Беспрестанно курил, ел всухомятку – открылся туберкулез. Пошел пастухом мясокомбината, пил буйволиное молоко, барсучий жир, ходил на чистом горном ветру в бурке, с сумкой из-под противогаза, мерз на сырой земле, отбивался от волков винтовкой, умывался в ледяных родниках, грелся дымом – и туберкулез отступил, каверны закрылись, врачи только качали головой: они бы не решились на такие средства, прописанные беспощадной, жизнелюбивой природой. Дмитрий Есаулов переманил его к себе кучером, послал на полгода в лучший горный санаторий Теберды. Одет Иван всегда одинаково: стеганка, брезентовые брюки, кирзовые сапоги. Бритая голова седа. Щеки впалые. Жокеи местного ипподрома завидуют его весу пятьдесят два килограмма. Свободное от работы время проводит во дворе председателя колхоза – то огород полет, то деревья белит, то кабана с Дмитрием потрошит. Дома бывать не любит – там баптистские сборища, неистовые моления. Есть у него и страстишка – помешан на лотереях и облигациях, играет и выигрывает. Медали свои и орден хранит у тетки Марии, а номера облигаций в голове держит.
Жучка навострила рыжее ухо, заворчала, залаяла. "Кого это бог принес?" – вылез Спиридон с дробовиком. За мостом – "Победа". Приехавшие перешли речку по висячему мостику. Один военный, канты на штанах генеральские, двое других в шляпах и макинтошах, с тросточками, как в старину ходили господа.
– Здорово, отец!
– Милости просим.
– Яблочком угостишь?
– Можно... пошла, окаянная, сейчас я ее...
Привязал собаку за обрывок к сливе, проводил гостей в балаган, наполненный смоляным дымком костра, разложил на чистом рушнике груши.
– Кости отсырели, не возражаешь – погреться?
Нет, он не возражал, сам уже не пил – задыхался, но любил смотреть, как пьют другие, – умел радоваться чужой выгоде. Чертова память – все трое знакомы, а кто, не вспомнит. Один сколупнул целлофановый колпачок с бутылки, извлек пробку, разлили пахучий коньяк.
– Вы кто ж будете? – не утерпел Спиридон.
– Синенкиных знаешь? – засмеялся высокий, как каланча.
– Федька! Черт в шляпе! То-то я все думаю: где я этот портрет видал? Да в своей сотне – и батька твой со мной казаковал, и ты быка погонял с пушкой! Где ты теперь?
– В Москве, на авиационном заводе, инженером в войну стал. А это брат двоюродный, Александр Тристан, посол в Аргентине...
– Не совсем посол, – поправил веснушчатый, выхоленный, одетый с иголочки Тристан. – Секретарь посольства. Когда-то мы с Федором кулачили казаков, а теперь тянет песни казачьи послушать, вот и вспомнили тебя, Спиридон Васильевич, и о делах твоих при немцах много наслышаны. Говорили, что ты полковник, а сидишь вроде сторожа...
– Я полковник в бою, а бои теперь кончились. Вы, товарищ генерал, обращается он к военному, – тоже мне припоминаетесь. Здравствуйте, товарищ Быков, не ошибся?
– Нет, – улыбнулся Быков. – И могу засвидетельствовать ваш полковничий чин, как вы показали мне на допросе в Чугуевой балке.
– А вы теперь, генерал-полковник, не в милиции?
– Нет, начальник школы.
– Школы? – удивился Спиридон, забыв, что бывают разные школы – и ракетчиков, и разведчиков.
За балаганом зашуршало, будто мешок по траве тянут. Грек в козьих штанах гнал овец. Спиридон обрадовался – только он думал, чем угостить гостей, а тут и баранина шествует. Сторговал упитанного барашка заплатить гости не дали. Достал ножик с костяной в меди ручкой, оттянул голову барану, наступил коленом на живот – секретарь посольства торопливо отвернулся – и полоснул по горлу. Разделав тушку на суку, нанизал на палочки мясо с колясками лука, помидоров, яблок, облил вострокислым вином и положил румяниться над углями костра.
Первую выпили чинно, как люди. После третьей Федор запел. А секретарь посольства, как с цепи сорвался, закинул в кусты дорогой пиджак, засучил рукава, сбросил иностранный галстук, взял вместо шашки и кинжала нож и вилку, опустился на колени:
На горе стоял Шамиль,
Он молился богу.
Русский барышня идет
Давай дорогу.
Да не мы ли казаки?
Да не мы ли терны?
Да не нас ли под горой
Разбили чеченцы?..
Вскочил, раскинул воображаемые крылья башлыка и пустился в пляс. Вспотел, а душе тесно. Распутали мерина, вскочил Сашка на него, поскакал по саду, выпугав дальнего сторожа несуразным видом, – голову обмотал мешком, в зубах ножик. Вернулся – нет раздолья широкой русской душе. Прыгнул в речку прямо в одежде американского покроя. Вот теперь программу выполнил. Натянул на себя холстинные штаны Спиридона, годные лишь на чучело, и белую войлочную шляпу, приступил к шашлыкам. Быков смеялся, покуривая и разбирая рыболовные снасти.
К вечеру дождь усилился. Федор и Александр захотели кончить день, как начали, – в казачьем балагане. Расстелили бурку, принесли из машины надувные подушки, укрылись макинтошами. У костра с бездымно тлеющим пеньком беседовали Быков и Есаулов. Шумела, прибывая, вода. И всю ночь стонала столетняя ива – ныли старые кости, – шумели редкие, с облысевшими макушками груши, уцелевшие в годы войн и голодовок. Потом к костру подсел продрогший американский посол, как он называл себя во хмелю, опохмелился и стал расспрашивать про старину вплоть до графа Воронцова.
Утром их ожидал божественный завтрак – ржаные сухари с ключевой водой под сенью слив и яблонь. Пылало солнце. Над горами плыл ватный месяц. Быков, страстный рыбак, возился с вершами. Федор пошел на охоту в камыши. Александр и Спиридон неспешно тянули по маленькой – как тут не выпьешь? и пели.
Уж вы, горы, да вы мои горы,
Горы темные Кавказские...
Как с-под этих из-под гор
Течет речка быстрая...
Как на той на быстрой реченьке
Стоял куст ракитовый,
Как на том кусту ракитовом
Сидел орел сизокрылый...
После ухи загорали.
Потом стали прощаться. Защемило сердце. Александр подарил Спиридону часы, а Быков – табакерку.
ХУТОРЯНЕ
Председатель колхоза имени Ленина ехал в "газике" по полям. Шофер сидел пассажиром, а сам Дмитрий Глебович за рулем. Глаза уперлись в старую болячку на колхозной земле – одинокий хуторок у Губина лимана. Давно бы пора переселить хуторян в станицу, да хуторяне – родня, дядя Александр Федорович Синенкин. Все же заехать, намекнуть надо.
Александр Федорович смолоду мечтал обнести Синие горы кольцом садов и виноградников. Задачу эту выполнял теперь колхоз. Вернувшись в начале тридцатых годов из эмиграции, Синенкин учительствовал в станице, потом уехал, каким-то образом очутился чабаном в моздокском овцесовхозе. Зачугунело от ветров лицо. Стал непомерно много есть. На поясе ножик, бутылка с овечьим лекарством, на ярлыге целый день тлеет веревка – так и древние люди сохраняли огонь. Обнаружилось, что он неплохо разбирается в растениеводстве; поставили полевым агрономом. Жил с пожилой калмычкой, ездил на двуколке по магаровым полям, проверял посевы суданки и люцерны, ни с кем не откровенничал, о политике не говорил, на заем подписывался без волокиты, в праздничных колоннах ходил в середине, одевался в тон коллективу. В анкетах указывал: родственников нет, тем более за границей, образование начальное. Дипломы куда-то пропали, а французский язык постарался забыть. Но проговорился. Сажали сад. Александр Федорович не утерпел, шел с парторгом меж саженцев и восторженно пояснял:
– Ранет шампанский, бельфлор китайский, груша бонлуиз, – последнее с чистейшим французским прононсом да еще перевел: – Добрая Луиза.
– Вы французским владеете? – приятно удивился парторг.
– Что вы! – испугался агроном. – Так, по садоводству.
После войны Мария перетащила брата на родину, поселила на хуторе, принадлежавшем ей. Пошел он в колхоз садоводом. Человек изумительной честности, с детски ясными глазами, он не сработался с жуликоватым завхозом, посчитал этого завхоза за эталон новых хозяйственников и ушел из колхоза "по зрению". Занимался своим садиком. Жил один – калмычка осталась в моздокской степи.
Однажды на хутор забрела ягодница Февронья Горепекина, когда-то расстрелявшая отца Александра и давно бывшая не у дел. Он угостил ее яблочком, она ему постирала, до сумерек не управилась и осталась ночевать.
После исключения из партии Февронья лепилась к родне, а родня богу молится, новую власть клянет. Постепенно она стала ходить на похороны и свадьбы, но в церковь все же не заходила. В сорок лет Февронью засватал больной маляр, приехавший на курорт с Севера. Тихий, невеселый, непьющий, он целыми днями рисовал ангелов, угодников, спасителя. В войну этот товар нашел сбыт. Пришлось жене продавать иконы. Она расцвела, как зазеленевший пень, пропал басок, облезла ржавчина глаз, но муж обманул ее надежды умер. Ее утешили родные и священники – теперь она зашла в церковь с гробом мужа.
Александр Федорович ей чем-то приглянулся, а она – ему, баба толстая, пунцовая, здоровая, только грубовата. Ей в нем не нравилась научная восторженность. Расписались. Засучили рукава, нарыли глины, замесили с соломой, приделали к старой хате Глотова еще одну из самана. Самостоятельный агроном омолодил деревья, подсадил новых, связался с плодопитомниками, добился высокой урожайности, применяя новейшие достижения мичуринской науки. Жизнью оба довольны. Встанут на зорьке рано вставать полезно, копаются в саду или за кизилом и орехами идут в чудесные балки – небо светлеет, птичий гомон, земля пух, бархат, изумруд. В полдень поспят в дремотной дубраве, она обласкает его, он расскажет ей нечто о консистенции проплывающих облаков, а кизил и орехи охотно покупают на базаре приезжие курортники.
Он лобастый, она скуластая, оба с сильно развитыми челюстями, с длинными чернеющими зубами – у него в передних дырочки костоеда. Жили, как сурки в норе. Пили сыворотку Мечникова, продлевающую жизнь, читали брошюры о долголетни и бессмертии. Она в рваной юбке, засаленной кофте, открывающей мощные груди, босая. Он в ветхой белой рубахе без воротника, ватных штанах – боялся простуды, брезентовых сапогах и в соломенной, проеденной мышами шляпе – шик от старого времени. В сезон оба стояли с утра на базаре в яблочном ряду – торговали скороспелками. Фартук профессора несвеж, латан, дурно пахнет изо рта. Но фрукты великолепные.
С базара Февронья возвращалась с торговками. Те по дороге заходили в церковь. Зашла и она – раз, другой, служба понравилась. И, поседев, она уверовала в бога – подпевала в Николаевской церкви, которую предписывала Михею снести, на правом "крылосе", прислуживала дьячкам, приносила цветы на украшение храма. Мыла в церкви полы вместе с Гришей Сосой, которого ссылала в Сибирь. Дочь Васнецова Крастерра с матерью не зналась.
Хуторяне обрадовались высокому гостю, председателю колхоза, с ними почти никто не знался. Мария жалела брата, но избегала. Дмитрий Глебович присел, хозяев не обидел – выпил с ними стакан яблочной браги. Профессор захмелел, затянул старую о московских студентах:
И всю ночь по Москве они шатаются,
И Владимир* с высоты им улыбается.
Они курят и пьют, громко песни поют
И еще кое-чем занимаются...
_______________
* Владимирский собор в Кремле.
Прослезился старый студент. Глянул в дали, в пшеничные поля, на фермы и горы, на табуны и тригонометрические вышки, на палатки геологов и строителей, долил мутные хуторские стаканы – один с отбитым краем.
Не два века нам жить, а полвека...
Повел племянника показывать владение. Сузился мир Александра до семнадцати сотых гектара. Восемьдесят деревьев, тридцать кустов крыжовника, двадцать черной смородины, два редкостных, скороспелых ореха. Под деревьями кустится фасоль, плетутся цепкие плети тыкв – иная пламенно зреет на вершине дерева, густо насажена картошка, хозяин упивается названиями сортов: "американка", "мажестик", "лорд Опекур", "красная роза". А когда-то сей ученый доказывал, что занимать землю под фруктовыми деревьями вредно. Родник собственный протекал через владенья. Уборной, извини, как в старину у казаков, нету.
– Потому как земля удобрения любит, – пояснял хозяин и цитировал Горация и Гесиода о натуральной, на природе, жизни, говорил о ее преимуществе перед жизнью городской, скученной. – Надо яблочком воспользоваться не из магазина, а с дерева.
Пожаловался – жмет колхоз, наступает, два раза уже отрезали землю. Повел гостя показывать старые границы. Любовно останавливался возле каждого дерева, подолгу, со старческой назойливостью пояснял сорт и происхождение, лез собеседнику чуть ли не в рот. Смаковал слова, словно добела обгладывал сочный, пушистый в загаре персик с морщинистой косточкой.
– "Сен-Жермен", груша, по имени парижского предместья! "Любимица Клаппа" – был такой католический священник! "Кюре" – по-французски священник, имени не оставил! "Бон-Луиз" – Добрая Лиза!
Уже Л и з а!
Дмитрию тошно слушать – уже и не рад, что заехал. А хозяину надо выговориться перед свежим человеком, люди его боятся – заговорит насмерть о деревьях, а их восемьдесят корней! Раза два председатель начинал говорить свое – напрасно, хозяин не воспринимал чужих слов, придется известить его письменно с соответствующими резолюциями стансовета.
В хате, крытой камышом, низко, тесно. Кривые суковатые балки – из соседней рощи. Окошки, как в бане. На стенки налеплены размытые фотографии, картинки из журнала "Огонек". В переднем углу иконы с лампадкой. При госте хозяева стыдливо перекрестились, без молитвы. Пол земляной, вмятый, вымазан светлой глиной – в одном месте отпечатки пальцев Хавроньи, коротких и растопыренных. Это новая пристройка, а в большой хате, построенной Глотовым, хранятся фрукты по научным условиям.
Семилинейная лампа освещала засиженный мухами "Портрет молодого человека с небесным глобусом", писанный маслом Невзоровой до революции. На трагических и музыкально-нежных пейзажах, невероятно перспективных, в стиле Пуссена, Александр изображался в мантии ученого, задумавшимся над звездным шаром Вселенной с древним Млечным мостом. Невзорова была талантлива – она мало думала о сходстве с натурой и написала лицо страстного гения эпохи Возрождения, а может, модель была такой. На портрете еще видны слова: "Будем же пристально смотреть на небо".
И под конец жизни Александр Федорович не согласился бы с утверждением, что на Луне господь запечатлел убийство Авеля Каином, но теперь он не стал бы спорить об этом, это не интересовало его. Он давно не смотрел на небо, разыскивая под ногами корм, звучно жевал яблоки, уписывал колхозные караваи душистого хлеба с утятиной да парным молочком. А Луна, что же, она не мешает. Пускай светит. Как и звезды. Тем более что новый взлет науки каждый раз порождает новые тайны и мифы.
Дмитрий торопливо распрощался с хуторянами – вставать им рано, ей в церковь, ему на базар, пока ранние сорта в цене, стоять в латаном переднике, расхваливая католических священников и их товар.
Однако план Дмитрия Глебовича в дальнейшем не осуществился – возле хуторка, который он хотел ликвидировать, стансовет разрешил селиться пенсионерам, выросла целая улица, открыли там ларек, протянули свет и радио, но потом и эта затея оказалась напрасной: новый хутор оказался неперспективным, больше его не развивали, и там доживали век в основном старухи, коих заботливые дети спровадили на чистый воздух и тихую сельскую жизнь.
Александр Синенкин жил долго, пережил и Федьку и Марию, дряхлый старичок с черным личиком и ослепительно белой бородой, отпущенной не по умыслу. Он давно и потихоньку сходил с ума. Его мать Настя еще в детстве называла Сашку дурачком, усматривая в нем признаки идиота, как и станичники, но тогда это было благороднейшее из безумств, божественное безумие – исступленная тяга к наукам, ученью, свету далеких звезд. В старости же он обычно раскладывал две-три бумажки, найденные на улице, и целыми днями что-то шептал над ними, высчитывал, искал нечто, Февронья извелась с ним, замыкала на сутки, как в карцер, в холодном нужнике, била чем попадя. Да и как не бить – вот он изрезал брючный ремень, собираясь, по примеру погибающих от голода путешественников, варить эту кожаную лапшу. Часто Февронья приводила его в станицу, оставляла сестре, Марии, и Мария тоже немало помучилась с братом.
В ночь его смерти в хате была только Февронья. Потом на нее косились: кто-то доглядел, что кисти рук покойника в синяках, будто крепко держали, а он, мол, вырывался. Мало ли от чего бывают синяки, а обузой для Февроньи он был точно. Похоронили его тоже на неперспективном кладбище – теперь его нет, давно запахали.








