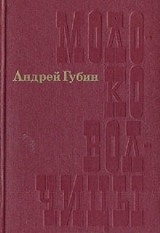
Текст книги "Молоко волчицы"
Автор книги: Андрей Губин
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 37 (всего у книги 44 страниц)
– Горбом наживал – и вселился. И тебе пора в него переходить, а то женюсь на молоденькой.
– Не дай бог, кто за тебя пойдет, погибнет, тяжелый ты. Мне твоя мать сказала: "Ой, Маруся, какая же ты несчастная – какого ты зверя полюбила!" Не женись, тебе нельзя жениться, не губи людей. Как колесом переезжаешь.
– Еще и свадьбу какую закачу! У меня две квартирантки, по двадцать годков, розочки, сами на шею вешаются.
– Это глухонемые? Ты же хотел на хромой венчаться, бери немую – то-то будет тебе воля!
Она говорила спокойно, с издевкой. Глеба бесили ее слова. Незаметно переступил ниже, на другую дорожку, чтобы лучше видеть беззащитно открытую шею Марии Зачесались лапы – так бы и задушил. Но лапы заняты – топор держит, чтобы не потерять. Языком прикрывал во рту зубы – не впиться бы в затылок! Поднималась старая любовь-ненависть, любовь-злость, любовь, располосованная, как шашкой, надвое.
Стоят бывшие возлюбленные с топорами в руках под тем самым ясенем, где миловались. Мария сказала:
– Вот бы мне намекнули тогда, как мы встретимся тут через тридцать лет, не поверила бы!
– Помнишь? Вот и имена наши ножиком вырезаны, чернеют еще. А стаканчик спрятан ниже, у трех камней. Посидим?
Земля под высоким ясенем равнодушная, ничья, не принимала их, и нет доказательства, что они лежали тут и резали кору ножом.
– Не хочу помнить!
– Маруся, ты же была женой, троих родила!
– От тебя нет, это Глотовы дети, померещилось тебе.
– И родинки под соском у тебя нет? – ревниво придвигался к белой тонкой шее, пульсирующей голубыми жилками, отчего солонело во рту. Покажи родинку! Сними одежу!
– Откомандовался ты мной! – отодвинулась Мария. – Долго я на коленях стояла, теперь – кончено!
– Задушу и закопаю гадюку под этим ясенем!
– Души! – со слезами выкрикнула она. – Зверь!
Он потерял власть над собой, запуская пальцы-когти в хрупкое белое горло. Она с трудом икнула, наливаясь смертной бледностью. Тут же он содрогнулся и жарко целовал синие вмятины от пальцев.
– Сядь, я себя не помню, не могу без тебя, на – ударь топором, все равно нет жизни, – шептал он возлюбленной сердца своего.
– Нас видят, – утирала она обидные, детские слезы.
– Кто? – оглянулся по сторонам.
– Люди. Много их тут.
Он глянул на бутыль из-под молока, на сизые хребты лесистых взгорий. Трепетной волной прокатился ветер. Лес ожил, придвинулся. Глебу стало страшно. Выдавил из себя:
– Ладно, встретимся еще...
Мария пошла вверх, без дров, как и братец Спиридон.
Лесоруб притаился в чаще кувшинок и гигантских лопухов, которыми раньше казаки пользовались как зонтиками в дожди. Ветер бежал по верхушкам дерев, стриг из буграх травы. Женщина скрылась. Стало сиротливо, словно потерял мать в лесу накануне темной ночи. Почувствовал себя слабым и несчастным, и ее до слез жаль – тоже крест нелегкий несет всю жизнь. С гневом смотрел на свои пальцы, душившие Марию. Надо догнать ее, упасть в ноги, бросить все, вымолить прощение, ведь матери не бросают детей!
Спокойно пасся Яшка, напоминая о деле. Глеб стер пот страха, который выступает уже после того, как человек прошел над пропастью. Ведь он силой хотел принудить ее к любви – и тогда получилось бы смертоубийство, а она ему самый дорогой на свете человек.
На другой стороне балки, верстах в пяти ниже, вспыхивал на солнце топор. После долгого промежутка долетал звук удара. Кто-то рубил лес. Это успокоило. Хозяин пожалился Яшке на горькую свою судьбину. Когда же разорвутся червонные путы любви? За что ему это наказание? Ему надо хозяйство налаживать, а она опять поперек дороги стоит, блажь всякую в голову вносит.
Посверкивая топором, поднялся в крутом зеленом тоннеле горной дороги. Еще круче взял в сторону. На крутизне наметанным глазом приметил пару ясеней-близнецов – превосходные оглобли для арбы. Но кто же назовет его хозяином, если он день целый проваландался ради двух древесин? А тут еще то мечтал, то с братцем, то с бывшей супругой перекуривал, лясы точил. Лес теперь немецкий – чикаться нечего!
И он валил кавказский дуб, великолепную чинару, орех с плодами. Приглянулся стволик кизила – на ярлыгу пойдет, на костыль, старость подходит, на кнутовище хорош, Трепещет высокий ровный бук – на возовой гнет годится. Вырубил семью белолистин с нежно-зеленой корой – под ними вроде могила с камнем. Сами напросились под топор гладкие липы – лес нестроевой, но идет на ложки, табакерки, иконы. Орех – на колы для плетней. Чинара – на ружейные ложа и ярма. Дуб – на срубы колодезные. Но больше прихватывал ясеня – вечное дерево в любом деле – и на стропила идет, и на мебель полированную. Надо было давно сокращаться – бычиный воз получается, не потянет Яшка, а глазами бы все захватил.
После обеда вытаскивал сырые очищенные стволы к дороге, где ишак щипал травку. Уложился, стянул воз укрутками – стволы аж засочились под цепью янтарными слезами. Встретил куст дикой малины, вскипятил в кружке чайку, потрапезовал и потуже затянул ремень. Дорога из балки прямехонько в небеса – готовься, Яшка!
С богом у Глеба отношения неясные – вроде он и верил, и не верил, а ведь почти старостой церковным ходил. Ударит гроза – крестится, тихо – и бог не нужен. Поэтому самого беспокоить не стал – у вседержителя дел хватает! – а помолился Николе Угоднику, покровителю нашей станицы. Не преминул молвить словцо Казанской божьей матери, заступнице сирот и страждущих. Долго раздумывал, как погонять ослика, ведь он не конь и не бык. Припомнил гортанные крики погонщиков мулов в Азии:
– Ай-да!
Ослик дернулся, но арба не тронулась, колеса в землю ушли. Глеб сек животное – от кнута с серенькой спинки поднималась пыль, как из столетнего ковра. Яшка покорно натягивался до мутной слезы в глазах – тщетно. Истощив запас матюков, хозяин сам подпрягся рядом, соорудив себе хомут. Колеса шевельнулись, пошли. Давно не ездили по дороге – кустики одичавшего клевера, терновник, рытвины, колдобины, хомячья земля. Только ясен след Спиридоновой телеги – дуракам везет: таких коней приобрел! Через три-четыре шага останавливались отдыхать. На полянке желтых примул женские следы...
Шли часы, а лес неотступно близко за спиной. Хрипел Яшка, поводя мокрыми кошачьими боками. И хозяин честно тянет свою арбу – в горле свистулька застряла. Наконец впереди остался самый трудный перевал, крутой, как крыши немецких колонистов, выселенных из станицы в начале войны. Потом дорога пойдет под гору. Тут полагалось вывозить груз по частям, но время не ждет. Погладил Яшку, пошептал товарищу на ухо, дал отдохнуть. На косогоре стоял широкогрудый волк.
– В пристяжку бы тебя, серого! – сказал Глеб волку и вспомнил, как в этой балке скалечилась жена Оладика Колесникова, что хвостосвязничала в станице – так и шлендала по дворам с новостями и сплетнями. Приехали с Оладиком рубить дрова, а был праздник – божья сила и направила топор в ногу бабе. Тогда еще радовался дядя Анисим: "Не греши, не хапай!" Нынче вроде бы нет праздника, и с богом Глеб уже переговорил. Он живет теперь как ласковый теленок, что две сиськи сосет. Вот и с квартирантами поладил, и немецкая филюга на дом в кармане.
В обед брызнул дождичек, а сейчас разветрило, ободняло. В балке скопилась сырая, душная жара. Наверху станет прохладно.
– Трогай, серенький! – и сам налег, да так, что арба резко пошла в гору. – Давай! Давай! Еще малость!..
Тупо полоснула боль в паху. Сгоряча тянул арбу еще и – свалился, посерев лицом, как пыльная шкура осла. Воз съехал назад. Простонав с час, Глеб ощупал новоявленную грыжу, перетянул ее бечевкой, вслух кляня себя:
– Мало тебя, дурака, кулачили! Правильно говорила мать: жид и есть! Братец Михей успокоился, отгостевал. Братец Спиридон колхозом немецким руководит. А кулаки и при новом прижиме в одиночку мучаются. Нету им, горемыкам, покоя. Рай бедняку – все ему, голодранцу, нипочем. Кинжал и бурка – весь пожиток. Живет – не тужит, сдохнет – опять же убытку нет. А кулаку-то, дураку, все не спится да не лежится. Да раньше всех встань, вокруг пальца всех обведи, ухороны свои проверь. Бедняк гол как сокол да волен соколом. Богатым черт детей качает да заодно их примечает: того пожар спалил, того власть извела, иного родные дети по миру пустили. Адский жребий тянут самостоятельные хозяева. А ведь и бедный, и богатый, равно как и мужик, и казак, от смерти не откупятся, разве что каждый на свой манер хлопнется хомутом об землю...
Так фарисействовал он, пока чуть не полегчало. С тоской свалил с арбы лес, оставив малую часть, и Яшка, царапаясь по матовым плитам кручи, повез хозяина.
Вечерело. Молчали Синие и Белые горы. Над курганом реял орел-могильщик – к покойнику. Искривилось дерево Иуды. Плыли ароматы поздних эфироносов. На бронзовых скалах шуршит самшит – барсуки возятся. Ковыль и типчак, прах и горечь.
Колеса стучали по желтому плиточному известняку – юрские меловые отложения, зажелезнившиеся на поверхности, а внутри белые, как зубной порошок. Беззвучно раскрывают пасти ящерицы. В замкнутых балочках, выбегающих к дороге, в гадючьей лени налились соком волчьи ягоды, дурман.
Ослепительно пылала вечерняя звезда, когда он добрался домой.
ЗВЕЗДНОЕ ПРОСТРАНСТВО
Спиридон ближе узнал племянника Митьку Есаулова, сделал его своим заместителем, а Ивана помощником и по совместительству кучером.
Митька Есаулов был молодой, да ранний. Мария хотела, чтобы ее дети стали врачами, инженерами, учителями. Но Митька с детства тянулся к скотине, с большим трудом окончил семилетку, был пастухом, прошел курсы по искусственному осеменению коров. Едва ему вышли года, он женился на толстой и веселой, как котенок, казачке Нюсе Мирной. Нюся родила первенького и работала в детских яслях колхоза. Митька доказал начальству выгоду искусственного осеменения животных. В его ведомстве было четыре зверовидных бугая, каждый весом поболе тонны. Им давали отборную траву, свеклу, промытее зерно. Митька делал им гоголь-моголь – по ведру молока с медом и яичными желтками. Колхозники посмеивались:
– Коров обгуливает, бугай, телят в банке возит.
Митька не чурался вина, с осени брал в библиотеке книжку потолще, чтобы осилить к весне, красивую девку не пропустит – ущипнет, был длинный на язык. Привела к нему молодая баба коровенку.
– Обгуляешь, Дмитрий Глебович?
– Тебя, что ли? Бык не посидит!
– Тю, паразит, корову!
Техник скалит крепкие зубы – доволен шуточкой.
Жили они с Нюсей справно, в хорошем домике, много держали овец, коз, птицы. Случилось Митьке заиметь две сберкнижки – на одной рубль да на другой десятка, и пошла о нем слава как о богатом человеке: "Деньги на двух книжках держит – на одной не помещаются!" Он и сам ревностно поддерживал эту молву, говорил, что и третью книжку заведет.
На бугаев смотреть страшно – свирепые, огромные, а технику хоть бы хны. Однажды бугай Васька кинулся на него, поддел рогом, но верткий казак перевернулся в воздухе, поймал кольцо в ноздре бугая, стиснул ноздри бугай присмирел. Митя закрутил цепь на колу и упал со сломанным ребром. Когда вышел из больницы, старики спрашивали его, отчего кинулся бугай, не бешеный ли.
– Нет, старый, – охотно пояснял техник. – Бык кидается драться, когда на корову залезть не может, как старый муж тиранит молодую жену. Молодые быки играливые, а старые бесноваты и подозрительны.
– Ну и брехать здоров! – недовольно выпрямлялись старики, чтобы глядеть молодцами.
Дмитрий был на передовой, валялся по госпиталям, получил отпуск на лечение и стал в колхозе зоотехником. Эвакуация была столь стремительна, что коров не успели побить на мясо. Какая-то горячая голова привезла зоотехнику ящик яда. Яд он принял, но коров травить жалко. Хотел отступить со стадом, но на пути снеговые горы, а немецкие танки движутся быстрее коров. Злые языки болтали: немцам коров сохранял, не дал, кулацкий сынок, колхозникам разобрать скот по дворам, сатана. Впоследствии ему действительно пришлось немало писать объяснений, почему остался в оккупированной зоне, и, несмотря на заслуги и награды за этот период, одно время в личном деле писал: в оккупации не был.
В первый день оккупации он позвал к себе в помощь названого брата Ивана, кучера Михея Васильевича, знатного пастуха в прошлом. Два дня держали стадо в глухой балке, молоко сдаивали на землю, чтобы коровы не погубились. Станичники, растащив добро в городе, вышли на промысел в степь, пытались разобрать коров. Двоих зоотехник встретил дубиной. Потом подъехали немецкие фуражиры и застрелили десяток коров на мясо. Митька закусил губы от злости и гневно накинулся на пастуха Ивана.
– Говорил тебе, черту, паси в трущобах, так нет – к дороге выгнал!
– Дак ведь поить, Митрий Глебыч, – виновато оправдывался Иван.
Горячий Митька "уволил" пастуха, сам остался, а Иван вернулся доглядать за дядей Михеем.
Спиридона позабавила ссора братьев, о которой он узнал на поминках, помирил братьев, записал их в свой колхоз вместе с коровами. Митька не хотел объединяться с совхозом "Юца", но дядя Спиридон серьезно сказал племяннику:
– Так надо, Митя.
Иван же сразу пошел к новому хозяину. Он старше Дмитрия, но зоотехник для него хозяин, как когда-то отец Митьки. Иван Спиридонович бессловесен и покорен, как рабочий вол. Нет у него царя в голове. Работать – он, а думать за него должен другой – так воспитал его Глеб Васильевич. Он хорошо знал повадки зверей и животных; видел бои старых жеребцов с волками, рассказывал, как родящая змея пожирает собственных змеят. Писать он умел расписываться за зарплату. Его били быки, мочили туманы, дубило солнце. Состоял он на учете в туберкулезном диспансере. К людям относился как собака: покормят – хорошо, забудут – все равно будет лаять, охраняя хозяйское добро. Перед казаками и после батрачества унижался, говорил, что на казачьи юрты попал случайно, благодаря беспутству матери Соньки, а вот деды его смирно сидели себе в своих супесках Смоленщины – и казаки охотно допускали Ивана в свой круг. С родней, Колесниковыми, не общался – мужики, а он ел казачий хлеб.
Крастерра продолжала действовать в городе. Она с группой друзей решила сделать дерзкий налет, взрывая машины. Гранаты у них были, а стрелять в часовых – только кольт Михея. Спиридон выслушал Крастерру и отдал ей два нагана с полными барабанами – от охранников ростовской тюрьмы. Три машины и бензиновый бак удалось взорвать, два партизана погибли. Крастерра осталась. Ночами расклеивала рукописные листовки. Но вот в сотне появился новый боец, родивший новые операции.
В балке хутор невзрачный. Камыши на трясине. Только реки прозрачны. Горы дальние сини. Да стога ветер холит, пожелтевшие, хрусткие, словно в чистом поле терема древнерусские. Под рубашкой кургузой – то крупнее, то мельче – кочанов кукурузы густозубый жемчуг. Постаревшие коршуны на стогах приуныли. Там, где травы не кошены, волки осень провыли. Иней жнивье обсахарил. Ветер тучи носит. Над убитым пахарем в поле буря голосит...
Кони вынесли сани председателя колхоза из Голубой балки на бугор. Открылось безмерное пространство предгорных равнин. Заснеженные синие дали. Направо в белом малахае никак не может очнуться от векового сна Бештау. Налево, сквозь Кольцо-гору, смотрит сонный глаз зимнего солнца. Гаснут тучи заката, разметав по небу божественные волосы. Шуршит мертвый бурьян – жгучий ветерок. Ордынской хмарью ползут сумерки. Противоположная сторона Эльбруса пламенеет солнцем, опускающимся в Черное море, сторона, обращенная к станице, темна – там дуют ветры, клубятся тучи, метет пурга. В снежных просторах равнин притаились хутора, станицы, городки.
Спиридон откинулся на санях, распахнул новый желтый тулуп бараньего меха – жарко. Ванька тоже одет прилично – помощник! – добротные сапоги, полушубок, заячья шапка, связанная на подбородке все-таки по-мужичьи.
Лошади бежали ровно по накатанной дороге. От выпитой араки хорошо горела кровь. Ехали со свинарника, где Иван ждал председателя, удалившегося с Любой Марковой, большегрудой игруньей, на "совещание" в каморку. Кучер не одобрял эти "совещания" и грозился донести тетке Фольке, а любишь Любку – женись!
– Дурак ты, Иван, – спокойно отвечал Спиридон. – Хорошую бабу пропускать грех, на то мы и казаки, а семья дело нерушимое, жениться надо один раз.
Осень прошла ладно. Спиридон нанимал жителей станиц копать картошку уродила силища: копнешь – восемь-десять картофелин как розовые поросята. Давал хорошо заработать людям – седьмой пуд. Картошку буртовали на полях. Чтобы не прела в буртах, ставили по углам сухие стебли подсолнухов, как вытяжные трубы. Следит за буртованием немец-интендант со своей командой. Когда они уехали, председатель послал помощника повыдергать подсолнухи, обломать и воткнуть для видимости лишь верхние части стеблей. Теперь картошка гнила в земле под снегом. Спиридон и сам затаптывал отдушины, как могилы прошлой жизни. На душе было ясно и покойно. А пока немецкие офицеры в госпиталях попивали молочко колхозных коров. План поставки мяса и овощей Спиридон не выполнил, но оправдался. И вот нынче пришла бумага: подготовить к убою свиней и овец. Коров беречь, чтобы и впредь снабжать немцев маслом, сметаной, сыром. И председатель решил: пора играть сигналистам атаку.
Из-за стога вышел человек, направляясь к саням. Иван натянул вожжи. Станичник, Игнат Гетманцев. Неделю назад Спиридон опять посылал к нему Марию с предложением выйти на переговоры.
Поговорили о погоде. Председатель расщедрился, достал из соломы коричневую аптечную бутыль с притертой стеклянной пробкой. Разложил на тулупе хлеб, чеснок и вкусно промерзшее мраморное сало. Выпили, покривили носами, задохнулись, отошли.
– Далеко топаешь? – спросил председатель.
– Немцы меня ищут, – помедлил с ответом Игнат. – Гестапа одного порешил, с черепом на руке.
– За что?
– В законах не сошлись. Решил он поохотиться на заповедных медведей, их всего несколько штук. Я ему толкую: нельзя, господин капитан, сроки охоты не объявлены. Он смеется, не верит. Пришлось доказать. А сильный гад и смелый – один приехал. Чуть руку мне не оторвал, бабка Киенчиха назад вставила.
– Ну и дурак ты, Игнат, малахольный! – катается со смеху председатель. – При немцах применил законы Советской власти!
– Я других не знаю.
– И еще дурак: первому встречному рассказываешь!
– Не первому, чего темнишь, – потянулся к бутыли егерь. – Была у меня Мария, говорила о тебе. Чего ты хочешь? Ты же немцам служишь!
– Тяжелый ты, Игнат, на подъем. Если бы немца не убил, не вышел бы? А теперь деваться некуда?
– Вышел бы. Картошечку-то ты погноил, Спиридон Васильевич...
– Тише ты! – испугался председатель. Но степь огромна, величава, нема. Лишь ветерок шуршит бурьянами. – Афонин колодец знаешь?
– Вместе пахали под ячмень там, еще до первой войны, розовым он цвел, – скупо улыбнулся неприветливый, отчужденный лесник. – И били мы вас там с Михеем Васильевичем, банду.
– Там верба с дуплом.
– Верно, дикая кошка жила в нем с весны.
– Будем держать там почту, я там часто проезжаю...
– Убить я тебя там хотел, уже и в засаду становился, Марии я верил, а тебе нет, самый ты был контра, а потом картошечку разглядел, разгадал твои козыри.
– А теперь слухай, что дальше...
Договорились. Кучер делал вид, что не вникает в дела начальства, оглаживал серых, поправлял супонь и шлеи. Игнат забрал остатки самогона и еду, направился в балки. Председатель повернул назад, в поселок животноводов. Разыскали Митьку, сейчас он жил с женой в поселке совхоза, Митька тоже был под хмельком. Мигом отрезвили ночным планом.
Спиридон сидел на бугре, рассматривал яркие морозные созвездия и угнетался ничтожеством земного мира, невообразимыми пространствами звездных пустынь. В одном лагере напарником Спиридона на рубке тайги был профессор астрономии. Если планета Земля – крохотная тля, букашка, зернинка помета какого-то гигантского звездоящера, некогда промчавшегося по Млечному Пути, то кто же тогда он, Спиридон? Внизу в темноте лежал поселок. Выл волк. Войны, странствия, история томили мизерностью в недосягаемом блеске звезд. Надо это людям – астрономствовать?..
Пока он так размышлял, Иван и Дмитрий привезли яд в цинковом ящике. Поехали к свиньям – рядом с ними овчарник. Теперь председатель серьезно совещался с Любой Марковой. Свиньи лежали на соломе, гладкие, откормленные. Овцы пугливо сбились в плетеной кошаре под крышей, начинавшейся от земли. У дверей черные собаки-волкодавы.
Митька давно не давал овцам соли, и баранта жадно кинулась к белым кристаллам яда. Десяток овец зарезали себе, а остальные двести тридцать околели. Отравили и свиней. Люба вошла в каморку, дверь снаружи привалили огромным камнем и подперли колом. Председатель с кучером пошли домой, к тетке Фольке. Сидели в землянке, млея от печного жара. Фоля ругалась:
– Где тебя черти носят? Должно, по бабам бегаешь, кобель!
Спиридон сонно помалкивал.
Дмитрий замел следы на кошаре и свинарнике, зашел в ларек. Там при свете огарка сидели поздние гуляки. Зоотехник почесал с ними язык – какие бабы слаще, угостил гуляк винцом и позвал их сходить с ним к овцам и свиньям – будто кричали там, а время темное, опасное. Вооружились палками и пошли, петляя по узким и крутым дорожкам балки. Дверь свинарки оказалась припертой. Из каморки слышался плач Любы. Засветили "летучую мышь" и побледнели, слушая рассказ женщины, как егерь Игнат Гетманцев хотел ее убить, но потом запер дверь и пошел в свинарник. Зоотехник первым кинулся к свиньям – они уже остыли. Заглянули в овчарню – овцы дохлые. Была полночь. Побежали к председателю. Еле "добудились" его. "Перепуганный" председатель помчался в станицу, доложил атаману о случившемся.
– Гетманцев? – крикнул Глухов. – Да ты знаешь, он немца ухлопал!
– Да ты что?
– Вот зараза! Нешто попадется он нам! Шкуру теперь спустят с нас!
Постучались к немецкому продовольственному лицу. Сонный немец долго не впускал русских, наконец признал атамана и уразумел, что произошло. Вызвал из комендатуры наряд, поехали на фермы. Светало. Пошел снег.
Увидев огромных волкодавов, интендант опасливо спрятался за солдат.
– Как такие собаки пустили бандита? – спрашивал он колхозников.
– Есть люди, господин майор, – говорил Митька, – от которых собаки бегут – эти люди сосали волчиц.
– Это есть римский легенда, – приосанился майор. – По-русски сказка, брехня.
Митьку бил озноб. Он не понимал, зачем председатель привел атамана и немцев, когда сразу надо было бежать в горы.
– Гетманцева нашли в волчьей норе, – поддержал племянника Спиридон, возили царю показывать в клетке, и он ел сперва только живое мясо и кричал по-волчиному.
Алешка Глухов вылупил глаза, но смолчал, дрожа за свою шкуру.
– Это отшень интересно, пора записать, – сказал немец и черкнул в блокноте пару слов – очередное кавказское сказание.
Митька, Иван, Глухов знали станичное предание – только не Игнат, а Глеб сосал полуволчицу, и собаки его понимали. Да и сам Митька однажды притворился животным – бычок-двухлеток с ревом пошел на него, опустив рога для удара, отступать Митьке было некуда, в загоне, и он, поставив пальцами рога, заревел тоже и пошел на бычка, тот остановился, а Митька успел перемахнуть через плетень. "Чистый бугай!" – смеялись тогда Доярки.
Интендант продрог, ему дали араки, он выпил и стал добродушным. Майор не любил гестапо и полевую жандармерию, сумел скрыть, что в его жилах одна восьмая семитской крови – прабабка дрезденская еврейка, считал, что карать надо воров, коммунистов и евреев, а русские будут неплохими работниками в баронских мызах и поместьях, которые фюрер обещал своим легионерам. В молодости майор собирался стать судьей в родном силезском городке, судьба распорядилась иначе, но он продолжал считать себя превосходным криминалистом.
В два счета он установил, что рабочие не причастны к отравлению ведь именно он нашел в свинарнике трубку с именем Гетманцева на чубуке, чем лишний раз доказал превосходство арийского духа над неарийским.
Добродушие его улетучилось, когда атаман сказал, что убийца офицера гестапо и отравитель скота – одно лицо.
– Найти и повесить хотя бы его семья!
– У него нет семьи, – ответил Спиридон, с волнением поглядывая на многочисленный отряд немецких солдат – тигр в оленьем стаде.
– Вещать знакомых, кунаков, соседи!
– Какие у него знакомые – жил в лесу, молился колесу, дружбу водил с волками, прокусывал людям шеи...
– Безобразие, – возмущался майор, радуясь литературной находке. – Это надо писать большой книга! Головорез, джигит, абрек! – с трудом выговаривал он слова старокавказских времен, майор был грамотным. – А кто есть твой отец-молодец? – подозрительно обратился он к Митьке, у которого зуб на зуб не попадал.
– Отец у него хороший – кулак! – ответил Глухов, пировавший в прошедший вечер у Глеба в доме.
– Кулак – это хорошо, – сказал немец. – Кулак много работает на себя.
Майор приказал пригнать коров с дальней фермы, к вечеру прибудут машины-рефрижераторы и мясники.
– А то нам опять свиней подсунут! – щегольнул майор знанием непереводимого выражения. – Будем вести следствие, никому не уходить. Будьте любезны!
Солдаты сели на машину, майор забрался в кабинку. Спиридон только полюбовался оружием и выправкой солдат – олень в тигровой стае. Атаман тоже было полез в кузов.
– Нет, нет, вы смотреть за порядок! – сказал ему майор.
– Останься, Алексей, боюсь я Игната, – попросил Спиридон.
Немцы укатили в станицу. Снег полепил гуще, начинался буран.
– Где завтракать будем? – трусовато спросил погрустневший атаман. Есть тут надежные люди?
– Есть, давай тут.
– Что это за баба? – покосился атаман на Любу.
– Свинарка, станичница, самый смак, а годов ей немало.
– Вы меня потом оставьте с ней на часок, – бубнил атаман.
– Сделаем, Силантьевич, наше дело служивое.
Расположились в каморке свинарки. Послали Любу за аракой и провизией. Растопили печку. В окно заглядывали черные псы.
– Спиридон, что ты за человек? – спросил Глухов, внимательно глядя на председателя. – Самый ты белый был, а теперь я тебя не разберу.
– Ты к чему это, Силантьевич? – мирно гутарит Спиридон, кидая поленья в огонь.
– А к тому, как Игнашку к царю в клетке возили! Это ведь про твоего братца Глеба говорили. Для чего ты так ловко брехал майору?
– Гнев первый утишал, я сам не пойму, как он собак обошел?
– На следствии ответите, как! А вот где он мог достать столько яда? Глухов вытащил парабеллум.
– Они леса опрыскивали, – Иван загородил побледневшего Митьку.
– А мне известно, что колхозу...
Глухов сидел спиной к окну. Спиридон удивленно, с испугом глянул на окно, будто увидел там нечто ужасное, и Глухов инстинктивно повернулся туда же – что там? И Спиридон выстрелил. Никогда не знаешь, есть или нет оружие у казака. Сгодился браунинг-кастет.
– Митя, Ваня, в ружье! – подал команду Спиридон. – Иван, беги к бабам – пусть незамедлительно идут сюда, уходить будем. Дмитрий, езжай за "максимом" – одна нога тут, другая там!
Снег лепил, как на пропасть, в пояс.
Вернулся Иван с Любой Марковой и Нюсей Есауловой.
– Ленка побегла в станицу – у подруг спрячется, а тетка Фолька сказала, в яме, в картошке, отсидится.
– Вот дура! – ругнулся Спиридон. – Что это ей, Советская власть, что ли, – в яме отсижусь! Беги еще раз, тащи силком, а хату, скотину, сундук пусть бросит. Не то потеряли – Ваську! Или, стой – пусть догоняет нас, а ты дуй в станицу, бери рыжую, боюсь – возьмут девку, горяча, а ей цепы нет, догоняйте по речке Татарке, через Бекетов яр.
– Какую девку? – подмыло Любу ревностью.
– Есть тут одна, дочка моя, рыжая.
– Я не пойду, если будешь секреток своих брать! – уперлась Люба.
– Фолю же беру!
– То жена!
– А ты кто? Живо собирайся!
Подъехал Митька. Труп атамана положили на цинковые ящики с патронами. В ногах атамана пулемет. Сами шли пешком. По дороге тело сбросили в глухую расщелину – не скоро отыщут косточки!
На дальней ферме дед Исай таскал сено коровам.
– Пойдешь с нами, дедушка?
– Куды?
– На кудыкину гору – скотину от немца спасать.
– Не, убегался я, – ответил горбящийся старик.
– Тогда молчок, что мы были. Налетели, мол, какие-то в бурках и башлыках и угнали коров, сам чудом остался, повесить, мол, хотели.
– Вы меня свяжите лучше, – попросил дед.
– Мочой подплывешь, сдохнешь, – не сразу сюда доберутся.
У Монах-скалы сотню догнали Иван и Крастерра. Люба с ненавистью посмотрела на полненькую, гордоглазую девку, а волосы точно – как у Спиридона. И разговор у них промеж себя тихий, секретный. Но вот командир заговорил, подгоняя коров чекмарем:
– Иван, ты почему не женился?
– Чего привязываешься, дядя Спиридон? – отмахнулся Иван, чувствующий силу и старшинство в родной стихии – среди коров.
– А то, что ты плохой кавалер и никудышний казак! Мы с Митькой при бабах, а ты холостякуешь рядом с такой девкой. Пойдешь за него, Краска? спросил Крастерру.
– От него портянками воняет!
– Ишь ты, курсовая! – пыхнул Иван.
– Я больше всего люблю свадьбы! – разговорилась Нюся, румяная, кареглазая, в пуховом платке. – Давайте ид поженим!
– Спиридон Васильевич, а где же сотня? – спросила Крастерра.
– Вот она, – командир показал на себя и других.
Митька моячит. Рыжую эту девку он знает – ее родителя расстреляли его деда Федора Синенкина. На заразу она нужна тут? Харчи только на нее тратить! Бегала еще за братом Антоном, да он живо отвадил ее!
– Вас как зовут? – спросила Крастерра Митьку, познакомившись с бабами.
В ответ Митька загнул такое имечко, что покраснели все. Спиридон виновато посмотрел на медсестру – мол, что с него, дурака, возьмешь казак!
Чуть погодя командир отстал с Митькой, поманив его пальцем.
– Митрий, ты знаешь, в каком я чине?
– В каком?
– Полковник я.
– Это у белых.
– Теперь у красных. А ты рядовой солдат.
– Не рядовой, я был командир отделения.
– Жалую тебя сотником. А ежели матюкнешься еще при женщинах, на одну ногу наступлю, другую выдерну. Как ты, командир Красной Армии, не понимаешь дисциплины? Ты что – бандит, что ли, налетчик или фармазонщик? Ты в армии, на войне, и, будь добр, называй меня не дядей, а товарищ полковник!
– Кто это вам звание присваивал?
– Это не тебе обсуждать, молокососу. Ты порядок держи и равнение. И субординацию понимай. Даю тебе, сотник, три наряда вне очереди.
– Есть, три наряда вне очереди! – повеселел от игры в чины Митька. Иван кто будет, товарищ полковник?
– Иван? Урядником потянет, а выше не прыгнет.
– А бабы?
– Женщины, Нюся и Люба – строевые казаки, а Крастерра – лейтенант.
– Кто же старше – сотник или лейтенант?
– Чины похожие, но дадим тебе старшего лейтенанта. Будешь усерден – в капитаны выбьешься.
В ночь снег перестал. Вызвездило. Не мешкая, гнали стадо в горы, где, по словам Митьки, на альпийских лугах стояли стога довоенного укоса. Коровы, словно чуяли тревогу времени, шли ходко, а может, их подгоняли волкодавы, молчаливо кусающие их за хвосты. Шелест сотен ног по снегу. Зимние балки. Звездная тьма. Сталинградский котел заклепывался наглухо. Немцы еще стояли на Волге, но тетива отступления Советской Армии напряглась до предела – теперь она пошлет огненную стрелу дивизий до самого Берлина. Шестеро казаков не знали этого, но бросили вызов горным батальонам немцев. В пути Спиридон, как обычно, напевал:








