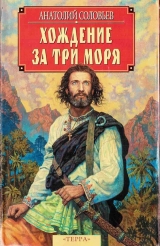
Текст книги "Хождение за три моря"
Автор книги: Анатолий Соловьев
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 30 страниц)
– Надо, чтобы на мечах биться крепок был.
– То, государь, само собой.
Великий князь вновь обратился к Афанасию:
– Подготовим мы вас со всем тщанием, а для пущей тайны к какому-нибудь посольству приставим. Главное – тайну сохранить! Чтоб ни Ибрагим, ни Ахмад, ни кто другой не сведали, иначе перехватят и лютую казнь учинят. Им мои проведчики – поперёк горла кость. Поедете под видом купцов.
Иван грузно поднялся, высокой собольей шапкой едва не задевая за матицу. Поднялись и остальные.
Государь направился к выходу, в дверях приостановился, спросил:
– Почто не женишься?
– Чтоб скучать по мне некому было, – улыбнулся одними губами Афанасий. – Лишние слёзы да плач зачем?
Иван строго сказал:
– Того бояться не надобно. На слезах мир стоит. Испокон веков жены мужей провожают. Воин к своей земле должен сердцем прикипеть, знать, что его дома ждут не дождутся. Окрути его, Степан Дмитрии, до отъезда! Найди девку добрую.
– Исполним, государь.
Афанасий лежал в натопленной горенке, заложив мускулистые руки за голову. Судя по всеобъятной тишине, была уже полночь, но сон не шёл. В тёмном углу за печью, подальше от икон и лампадки, завозился проснувшийся домовой-старичок, закряхтел, надсадно закашлялся. Видать, простыл, бегаючи в конюшню по морозцу. Горенку освещал слабый свет звёзд. Где-то под половицей завозилась мышь. Домовой стукнул босой пяткой об пол – пугнул. Мышь затихла. В дрёме Афанасию привиделось, как из-за угла изразцовой печи высунулась пушистая бородка, глянули на лежанку острые лукавые глаза, проверяя, тут ли хозяин. Домовой жил под печкой много лет, сколько стоит хоромина. Жил не тужил, мышей гонял, был мал, тих, чёрен, пушист и не в меру осторожен. Чуть стук или бряк – он живо в своей угол. Афанасий с ним ладил, в полудрёме любил с озорным старичком побалясничать шепотком. Говорок у домового был подобен посвистыванию ветра в трубе, старичок пугался чужих людей, боялся грозы с её громами и молоньями, тогда забивался под печь, прятал голову в пушистые лапки и обмирал.
Сейчас он весело похихикивал, шевеля мохнатым сморщенным лицом. Выкатился на середину горенки пушистым клубком, перекувырнулся несколько раз на домотканой дорожке, похожий на встрёпанного ёжика, уселся на пухленький задок, сложил лапки калачиком на сытеньком пузце, дружелюбно посвистел:
– Эй, хозяин, просыпайся, скучно мне.
– Не сплю я, дедок.
– Пошто дома долго не был, ай гулял где?
– Дело, дедок, нашлось урочное.
– По хозяйству аль по службе?
– По службе.
– Всё воинствуешь, всё сабелькой о шелома гремишь? Зряшное это дело, по-мирному лучше. Сидел бы на печи, дул бы калачи. Озоровал бы с девками, песни пел с припевками. И ладно бы было. Пошто не женишься-то?
– Далась вам моя женитьба! – с досадой отозвался Хоробрит. – Девок на примете нет, дедок.
– Девок? – изумился старик. – Да по тебе не одна, чай, сохнет. Вон Алёна соком исходит. Я мужичок приметливой, люблю девок за усы снизу дёргать. Возьми Алёну, нарожай детишек. Будет мне забава, я мальцов люблю.
– Некогда, дедок, государева служба роздыху не знает.
– Ах ты ж, – подосадовал старичок. – Ты запропастишься, а мне, бедному сиротинке, и поговорить ладом не с кем. – Домовой жалобно хныкнул, утёр лукавые глаза лапкой. – Эх, завью горе верёвочкой, поозоровать, что ли? Пробегусь-ка на конюшню, твоему сивке-бурке ленту в гриву вплету.
– Орлик тебя боится, дедок.
– А я ему сахарку припас. В трапезной из стола уволок. Скусной сахарок-то! А медок в шкафчике есть?
– Есть. На верхней полке. Смотри, тарелями не забрякай, как в прошлый раз.
– Ужо не забрякаю. Ты когда поедешь на службу, не забудь Алёне наказать, вечерком свежей кашки с медком под печь клала б. Ино осерчаю! Я сердитой буен.
– Не забуду, дедко.
– Ну, я побег. Наозоруюсь, мы ещё побалакаем.
Домовой опять перекувырнулся, пробежал пушистым комочком к двери, прошёл сквозь неё. Сколько его Афанасий помнил, вёл себя старичок, как дитя малое, проказливое. Тем и хорош, главное – безобиден. Если случится тарель разбить – сам плачет. На Руси издревле знают: пока домовой под печью живёт, в избе покой и лад. А исчез запечной соседушко – жди беды.
Без надобности ничто не появляется, даже вошь. Попробуй в лес со злым умыслом пойти, без нужды ёлочку срубить, лешак по гаям да по кракам[68]68
Лес и кусты.
[Закрыть] закружит, заведёт к кикиморам в болото, а синие старушки своё дело ведают, сухой тропочкой среди кочек расстелются, ребёнком малым прикинутся, побредёшь ты по тропочке, а она вдруг пропала, и окажешься ты в трясине зыбучей. Поминай как звали.
Не спится, думы одолевают, текут, цепляясь одна за другую бесконечной чередой, порой заставляя морщиться. Поездил, повидал, пережил немало. Ноет плечо, пробитое татарской стрелой, ломит к непогоде ребро, в которое на излёте впилось стальным лезвием литовское копьё. Меч тверской палец отсёк, сабля рязанца на голове отметину оставила, отчего звон в ушах появился, будто там нескончаемо сверчки поют. Ну почему русские князья не живут в мире? Да сохранит Бог Русь. Да появится в её землях справедливость.
Тем он и живёт – Росию обустроить, сделать её единой и праведной. Потому и мечется по городам и весям, помогает великому князю московскому в богоугодном деле. Тяжёлой рукой Афанасий перекрестился на слабый свет лампадки. «Спаси мя, Господи, от сомнений!»
Лучше бы не думать вовсё, чтобы не чувствовать стыда. Но Господь наделил его разумом в полной мере. А это значит – и совестью. Вроде бы незачем размышлять, за кем идти, – за тем, у кого больше правды. Но в чём добро и в чём зло? Собирает Русь Иван – то добро. Но для кого он радеет? Разве не для себя, не для своих детушек? А без него погибнет Росия, раздираемая усобицами. Ни Тверь, ни Рязань, ни Новгород не заменят Москвы, а тверской князь Михаил Борисович или рязанские князья братья Иван и Фёдор Васильевичи слабы против московского великого государя. Значит, у него больше правды?
Вставал перед глазами Афанасия разорённый Новгород, мост, залитый кровью, люди, убитые на нём, трупы, плывущие по Волхову, плач вдовиц и слёзы архиепископа Ионы. Это ведь тоже правда. Выходит, одной рукой делая добро, другой московский государь совершает зло. А вместе с ним и Афанасий. Кто скажет уверенно, какая чаша перевесит? Найдётся ли такой ум? «Спаси мя, Господи, от сомнений!» Но мысли текут, думы одолевают, нет от них спасения. Задача, заданная самому себе, потруднее, чем у того критянина, который утверждал, что все критяне лгуны. Вспомнив о ней, Афанасий обрадовался отвлечению.
Эту задачку про критянина подбросил Афанасию князь Семён, разыскав её в греческих книгах, за ради крепости ума, как он выразился. Опытному проведчику задачка вначале показалась странной, и он по привычке мгновенно составил умозаключение: если все критяне лгуны, то, следовательно, лжёт и тот, кто утверждает, что все критяне лгуны, ибо он сам критянин, но если он лжёт, значит, все критяне правдивы, но если все критяне правдивы, то правдив и тот критянин, кто сказал, что все критяне лгуны. Хм, изощрённы греки! Афанасий на малое время увлёкся хитроумным софизмом. Решил он его просто. Сказав, что все критяне лгуны, критянин поставил и себя на одну доску с ними, это равносильно, как если пытаться взвесить себя собственным весом. Что невозможно.
Разве не то же и с деяниями людей, которые утверждают, что они добры, честны, благородны, справедливы? Сам себя оценить кто способен? Думая так и зная о причине своих мучений, Афанасий догадывался, что однажды он откажется делать то, что совершил в Новгороде. Поэтому его обрадовало повеление государя отправиться в Индию. Это вроде мирной прогулки.
И тут же вспомнился волхв. Старик-то оказался провидцем. Вот с кем следует ещё встретиться. Там, в лесу, Афанасий спросил волхва, добрый ли он лекарь, имея в виду больную царицу Марью Борисовну. Но Семён Ряполовский сказал, что лекари уже не надобны. Почему?
Безнадёжно больна? Но ведь кудесники могут даже мёртвых воскрешать, у них живая и мёртвая вода есть. Как не использовать надежду? А если то не надобно государю? От этой мысли бросило в жар. Афанасий попытался забыть её. Однако подозрение, как заноза, укололо – и осталось. Господи, скорей бы ночь кончилась!
Вдруг свежим ночным воздухом потянуло от двери. Пробежал по горенке, кувыркаясь и похохатывая, весёлый чёрный комочек. Домовичок уселся возле лежанки, просвистел:
– Ай спишь, соседушка?
– Не сплю, дедко. Орлика не испужал?
– Чего ему пужаться, я его сахарком угостил, мы с ём друзья. Подковывать его когда собираешься? Дело к зиме идёт.
– На днях. Как Москву-реку ледком затянет.
Вдруг заскреблась мышь. Домовой топнул, пугнул.
Под полом затихло. В комнате потемнело, ночные звёзды закрыла туча. Лишь крохотный огонёк лампадки призрачным красноватым светом озарял горенку. Домовой почесал лапкой за ухом, пожаловался:
– Днём девки спать мешают, уж такие балованные, всё бы им хаханьки... – Не договорил, опять взвизгнули и забегали мыши. – Ух, язви, покою от них нет. Ужо вот заберусь под половицы, я им бока-то пошшекотаю.
– Ну, ин заберись.
– Пауков боюсь, – признался старичок. – Шипушшие, аки кикиморы.
– Ты и с кикиморами знался?
– Как жа! У меня жёнка была кикимора!
– Ай не ужились?
Домовой, сложив на пузце лапки, пошевелил мохнатыми бровями, припоминая; вспомнил, сплюнул, просвистел:
– С кикиморами и лешак не уживётся, а уж на что молчун. Всё звала, подь да подь на болотину, ей, вишь, киселика клюквенного хотелось. Ей под кочкой жить – разлюбезное дело, а я тепло люблю. – Старичок чихнул, поглядел в оконце. – Ай уж за полночь? Пойду ещё поозорую. Заберусь-ка к девкам в спальню, пошшекотаю. Я баловной!
– Дедка, а ты лешака видел? – неожиданно для себя спросил Афанасий.
– Лешака-то? Сурьёзный мушшина. Мы с ём друзьями были. Давно, правда, когда здесь ещё лес рос. Бывало, в гости к бабе-яге похаживали. Уж она нас привечала, медком угащивала, на ступе меня катала. Лешак-то грузен, ему в ступу не влезть, а мне впору. Взовьёмся, бывало, над лесом, а деревья нам ветвями машут, радостно им. В тую пору лес люди не жгли, не рубили, дубу молились. У леса разрешение выпрашивали на охоту аль рыбку половить. Лес-то хозяин строгой, озорства не допущал. Я тогда в избе охотника жил, он меня рыбкой угощал, за это я его дитё в зыбке укачивал. Мать, бывало, возьмёт дитё из зыбки покормить, оно закапризничает, хозяйка давай утешать, мол, тише, не плачь, а то прилетит змей-горыныч и унесёт тебя...
– Что, и змей-горынычи тогда были?
– Были, как жа. Трёхголовые. Лесу без змея-горыныча нельзя. Да ты спи, соседушка, оставь думу-кручину. А то уж рассвет грядёт! Дай-ка я на тебя сон навею. – Домовой махнул на Афанасия лапкой, протяжно свистнул, будто осенний ветер в трубе.
И точно. Мысли куда-то исчезли, душе Афанасия стало легко и беззаботно, наплыло вдруг зелёное облачко, и он погрузился в него, как в сон-траву, ощущая запах мяты и молодых листьев.
Домовой посидел возле лежанки, пригорюнившись, увидел, что в оконце уже сереет утро, побрёл под печку. И домовому бывает порой грустно.
Днём исчезают ночные наваждения, растворяются сомнения, уступая место решимости. Лицо Хоробрита вновь было каменно-спокойным.
Он отправился в Тайный приказ и просидел над «Сказанием» до полудня. Перечитав его, он понял, что рукой сочинителя водила надежда. В полдень молчаливая женщина-повариха подала ему обед. Вскоре явился князь Семён и сказал, что на гостином дворе возле пристани вчера поселились купцы, вернувшиеся из Баку, надобно с ними побеседовать. Решили на пристань отправиться пешком, благо день выдался не по-осеннему тихий и солнечный. Орлика Афанасий оставил в конюшне.
Прошли мимо старого Успенского собора. Здание совсем обветшало, соборные своды были подпёрты большими брёвнами, чтобы не рухнули. Князь Семён показал на него посохом, заметил:
– Новый собор решили строить[69]69
Новый Успенский собор был начат в 1471 голу. По замыслу Ивана III он должен был превзойти но красоте и величию Софийский собор в Киеве. Для строительства собора пригласили двух подрядчиков – В. Д. Ермолина и В. Ховрина, но между ними произошла «пря». В. Ховрин стал строить один.
[Закрыть]. Этот вот-вот обвалится. Владыка в нём службы запретил, велел из чужеземного плена выкупить холопов – мастеров по камню. Церкви сборами обложил. Государь надумал весь кремль перестроить, Грановитую палату воздвигнуть, чтоб было где иноземных послов принимать. Новый кремль величие Руси придаст многажды!
Вышли из Боровицких ворот, обогнули кремлёвскую стену, в которой виднелось множество бревенчатых заплат, и по ближней тропинке в густых кустах спустились к пристани. Здесь было шумно, многолюдно, народ толпился возле тесно застроенных лавок, где торговали приезжие купцы. У причала стояли корабли со свёрнутыми парусами на мачтах, покачиваясь на мелкой зыби. По сходням тянулись длинные вереницы грузчиков. Пристань завалена кадями с солониной, бочатами с мёдом, штабелями муки. Под навесами вялилась рыба, на крюках висели туши вепрей, на весах взвешивали матёрых туров. Купцы торговались с перекупщиками, те приценивались, спорили, заключая сделку, хлопали купцов по рукам, звенели монетами, – это была не просто мимолётная, изо дня в день повторяющаяся картина, а вековой уклад жизни. В привычной обыденности таился величайший смысл – свидетельство основательности и прочности. Если бы всё увиденное вдруг исчезло – это могло означать только одно – нашествие чуждых племён, разорение, гибель. Когда в глазах людей светится интерес к обыденному – значит, всё хорошо.
Князя Семёна здесь узнавали, почтительно, но без подобострастия кланялись, он важно наклонял голову в высокой шапке.
В гостином дворе их уже ждали приезжие купцы, три здоровенных нижегородца в долгополых озямах, в грубых сапогах и шляпах из валеного войлока. Сняв из уважения колпаки, робея, потряхивая русыми волосами, стриженными под горшок, они обстоятельно, дополняя друг друга, рассказали о своей поездке на Кавказ, в Баку – главный порт страны Ширван. Добрые молодцы, видать, были наслышаны о князе Ряполовском и робели под его пристальным взглядом. Афанасий сидел молча, слушал с непроницаемым лицом, ни разу не пошевелился, не кашлянул, не опустил глаз. От неподвижного внушительного проведчика исходила некая загадочность, и купцы ещё больше робели, рассказывая о Ширване, о тамошних городах, дорогах, рынках, товарах, ценах, нравах населения, погоде и о многом другом. Князь Семён время от времени задавал вопросы о расстояниях между городами, высоки ли там горы, часты ли на море фуртовины[70]70
Фуртовина – буря, шторм.
[Закрыть], силён ли летом вар[71]71
Вар – жара, пекло.
[Закрыть], как одеваются тезики[72]72
Тезиками называли персов.
[Закрыть], воинственны ли они, как относятся мусульмане к христианам. Купцы отвечали охотно, искренне, понимая, что вопросы задаются не из праздного любопытства. Наконец, князь Семён спросил, не были ли они случаем в Индии.
– Нет, господин, не доводилось, далеко очень ехать, а слыхать слыхали, – степенно ответил старший из купцов.
Второй, с пухлым белым лицом, гордясь тем, что знает больше, приподнявшись на лавке, громко крикнул:
– Господин, я в Баку разговаривал с одним тезиком. Он глаголил, мол, эта страна неподалёку от рая! Очень хвалил её! В той стране нет ни татя, ни разбойника, ни завидливого человека, а реки «текут млеком и мёдом»!
Поскольку купцы про Индию ничего больше сказать не могли, князь Семён отпустил их.
Осенними вечерами темнеет рано. Молодой месяц неярко освещал пристань, где всё ещё толокся народ, прохаживались сторожа в громадных овчинных тулупах, с дубинками в руках. Погода была тихой, к вечеру слегка подморозило, отчего воздух был свеж, приятен. Афанасий решил пойти домой пешком.
Вдоль улицы тянулись сплошные заборы. Месяц поднимался выше, заливал призрачным светом дорогу, спящие молчаливые дома. Под заборами лежали густые тени. Во дворах гремели цепями собаки, басисто взлаивали, предупреждая, что усадьба охраняется надёжно. На перекрёстках дымно светили факелы ночной стражи.
Афанасий прошёл горбатый мостик, углубился в узкий переулок. Здесь заборы угрюмо-тяжеловесны, а хоромы столь высоки, что загораживали месяц, отчего в переулке было темно. Вдруг за спиной Афанасия послышался тихий свист, и тотчас несколько чёрных фигур, отлепившись от тына, метнулись к нему. В Москве во все времена хватало татей. Озоровала не только чернь, но и дети боярские при случае не гнушались раздеть догола припозднившегося прохожего. Нужда ли их заставляла? В холодном воздухе просвистел кистень. Привычный слух воина уловил движение снаряда чуть раньше, чем он взлетел над головой приземистого парня, остановившегося в трёх шагах. Ещё двое, воровато пригибаясь, заходили с боков. Сзади слышался торопливый перестук сапог по подмерзшей земле. Приближались ещё двое. Значит, пятеро на одного. Ах, шарпальники! Афанасия охватил гнев. Напрягшимся телом он ловил то единственное мгновение, когда точный расчёт подскажет: пора. Время способно замедляться. Это зависит от готовности ждущего. Однажды Афанасий наблюдал за молнией, срок жизни которой едва ли треть вздоха. Но он так сумел сосредоточиться, что увидел появление розоватого свечения, затем белого жгута, который замер в чёрном небе, подобно кнуту на взмахе, медленно прозмеился и неспешно растворился, оставляя за собой слабо тускнеющее свечение.
Его недаром прозвали Хоробритом. Он слышал шорох приближающегося кистеня, и полёт казался столь медленным, что заныла спина. Пора! Мгновенно изогнувшись в прыжке, Хоробрит бросил своё тело к забору. И тотчас услышал глухой тяжкий удар железного шара о чужую голову. Это получил своё один из задних татей, уже занёсший было руку с ножом. В прыжке Хоробрит успел выдернуть саблю и без замаха вспорол бедро не ожидавшего такой прыти второго разбойника. Тот от неожиданности вскрикнул и осел на землю. Парень с кистенём застыл на месте, изумлённо разинув зубастый рот. Его сообщники тоже остановились, не веря своим глазам. Не теряя времени, Хоробрит прыгнул к растерянному кистенщику. Дамасский клинок развалил парня от плеча до пояса. Парень, залившись кровью, грузно рухнул на подмерзший конский навоз. Двое уцелевших кинулись бежать в разные стороны переулка. Афанасий бросился за передним, самым рослым. Среди проведчиков он считался лучшим бегуном. Настигал он татя стремительно. Тот обернулся, в ужасе вскрикнул. Хоробрит догнал его, легко снёс ему саблей голову, повернулся и бросился за последним шарпальником. Тот летел как на крыльях. Стук сапог слышался далеко в переулке. Хоробрит мчался лёгким волчьим махом, поняв, что тать торопится добежать до стражей на перекрёстке. Но свет факелов виделся далеко. Сообразив, что ему не уйти, шарпальиик остановился, обернулся. Опять послышался свист кистеня. На этот раз тяжёлого, не меньше трёх гривен[73]73
Гривна равна 408 граммам.
[Закрыть] весом. Хоробрит уклонился. Кистень тяжело грохнулся в лужу, пробив ледок. Тать в ярости взревел. Они стояли друг против друга, тяжело дыша. Парень рослый, хорошо одет, в толстом сукмане, в добротных чедыгах, на голове шапка, стёганная на вате, с металлическими пластинами поверх. В руке он держал чекан – боевой молот на длинной рукояти – и ждал, полный решимости.
– Брось оружье, – велел Хоробрит.
– Подь вон, – зло отозвался тать.
– Ты кто?
– Дед Пихто.
– Сын боярский?
Ответом было молчание.
– Крещёный? – миролюбиво спросил Хоробрит. Парень был явно не из трусливых.
– Хто?
– Тебя спрашивают.
– Како твоё дело?
– Отвечай, а то голову снесу.
– Ну, хрещёный. Ну, Митькой звать. Всё?
– Всё, Митюха. Иди.
– Куды? – растерялся парень.
– На кудыкину гору.
Парень повернулся и пошёл прочь, не оглядываясь. Чекан свисал у него в руках.
– Мить, – окликнул его Хоробрит. – Что ж своих подельников бросаешь?
Тать не оглянулся, лишь ускорил шаги. А ведь православный. И те, кто лежат сейчас в переулке, тоже крещёные. Вокруг злобно лаяли собаки. Тот, кому кистень проломил голову, лежал разбросав руки, под обнажённым затылком стыла лужа крови. Шапка откатилась в сторону. Второй валялся неподалёку, уткнувшись лицом в землю, словно вымаливая прощение. Безголовое туловище третьего чернело на дороге шагах в пятидесяти. По тележной колее тянулась кровавая дорожка в соседний проулок. Афанасий не стал искать утеклеца. Ещё три трупа прибавилось на его счету. Гнев давно угас, уступив место холодному безразличию. Но сейчас у Афанасия пробудилась жалость. Убитый лежал, неловко подогнув ноги в лаптях и поношенных портках. От хорошей ли жизни он стал татем?
В конце улицы послышался скрип полозьев, лошадиное фырканье. Приближался обоз в несколько саней. Афанасий отступил в тень забора. Мохнатые лошадки везли розвальни с дровами. Бородатые мужики в войлочных шапках и сукманах тяжело топали рядом с возами. Видимо, припозднились и торопились, подхлёстывая коней. Передняя лошадь вдруг захрапела и остановилась. Возница прикрикнул на неё, но замер, увидев впереди трупы. К нему подошёл другой возница. Мужики робко приблизились к лежащим.
– Глянь, Микитка, мертвяки! Посёк кто-то!
Они закрестились, заохали. К ним подошли остальные.
– Микитка, а вон ещё мертвяк!
Старший обоза распорядился позвать ночную стражу. Кто-то из мужиков побежал к перекрёстку, путаясь в полах длинного озяма и громко стуча сапогами по мёрзлой земле.
Убедившись, что возчики не оставят трупы татей лежать на улице, Афанасий ушёл.








