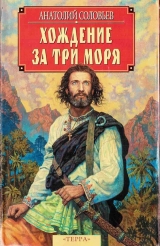
Текст книги "Хождение за три моря"
Автор книги: Анатолий Соловьев
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 30 страниц)
Матёрый князь Ряполовский прытко кинулся к сходившему по лестнице Ивану – поддержать. Но тот сердито глазами повёл, сказал, проходя мимо бояр:
– Не бейте всполох. Людей в сумление не вводите.
– Понял, князюшко, молчу, – ответил Ряполовский.
По крытым переходам прошли в думную палату – обширное помещение с лавками, покрытыми коврами, и княжеским креслом на возвышении. Иван с маху перелетел ступени на возвышение, рухнул в кресло. Тут выдержка оставила его. Бояре же степенно уселись на лавки, перекрестились на образа, особенно истово – иконе Георгия Победоносца, сделанной ещё достославным Феофаном Греком, а законченной Андрюшкой Рублёвым, тоже мастером добрым[35]35
Феофан Грек перебрался в Россию из Константинополя в конце XIV века. Некоторое время вместе с ним работал знаменитый живописец Андрей Рублёв (1360—1430).
[Закрыть]. Квашнин не забыл входную дверь притворить и велел Добрыне никого не впускать.
– Ну, – крикнул Иван, – много их?
Рослый Патрикеев, в кольчуге поверх полукафтанья, гулко откашлялся в кулак, пробасил:
– Стал быть, передовой отряд. Мало не тыща голов. Идут о двух аль трёх конях[36]36
То есть с запасными конями.
[Закрыть]. Прутся ли за ним другие – не сведали. Шуйский сразу гонца послал. Тот в людской спит. Двести вёрст проскакал без передыху, изнемог.
– Отдохнёт после – буди, – велел князь.
Пока Патрикеев ходил, Квашнин сказал:
– Большой полк поднимать не след. Ясности нет, людей булгачить[37]37
Булгак – смута.
[Закрыть] рано.
– А ежли за передовыми вся сила ногаев тащится? Ась?
Большой полк – главная рать из служилых людей, боярских детей, окрестных поместцев, каждый является со своими слугами, холопами. Поднимают его, если война грозит всей Московской Руси. За шесть лет своего княжения Иван водил Большой полк два раза: когда Ахмад на Москву пёрся, когда сам Иван хотел Казань взять. Но за эти шесть лет крымчаки и ногаи малыми ордами налетали много раз. Как реки замёрзнут – жди их. Малой ордой ловчее незаметно прокрасться мимо дозоров и сторожевых крепостей. Татары, вооружённые луками, саблями, пиками, на своих малорослых выносливых лошадях, без обоза, питаясь небольшим запасом пшена и сушёной кобылятины, легко переносились через необъятную степь, пробегая тысячу вёрст пустынного края. Скрываясь от русских степных дозоров, татары крались по лощинам, оврагам чаще по ночам, а днём отсиживались в укрытиях, не разводя огней. Так им незаметно удавалось углубиться в населённые окраины вёрст на сто. Тогда они поворачивали назад, орда распахивала широкие крылья, сметала на своём пути всё живое.
Полон – главная добыча, которую более всего ищут татары, особенно мальчиков и девочек. Для этого они берут с собой ремённые верёвки, а на запасных конях имеют большие корзины, куда сажают захваченных детей. Рабов везут в Турцию или в другие страны. Главный невольничий рынок в Крыму – Кафа[38]38
Генуэзская колония в Крыму, современная Феодосия.
[Закрыть]. Пленников и пленниц порой продают десятками тысяч – из Московии, Литвы, Польши. В Кафе их грузят на корабли и увозят в Константинополь, Анатолию, даже в Африку. Заезжие иноземцы сказывают: порою людского ясыря столь много, что продаётся пленник дешевле овцы. На побережьях Чёрного и Средиземного морей в каждом доме можно встретить рабынь, укачивающих хозяйских детей русской или польской песней. А один из иноземцев однажды поведал, что видел еврея-менялу, который сидел у единственных ворот Перекопа, ведущих в Крым, и, глядя на нескончаемые вереницы пленных, спрашивал, есть ли ещё люди в Московии, или уж не осталось никого.
Иван со всего маху яростно опустил кулак на подлокотник кресла, бешено метнул глазами. Любой ценой надо собрать Русь! Любой ценой!
Патрикеев ввёл рослого гонца, запылённого, измученного, сапоги и низ кафтана его до кушака облеплены засохшей грязью.
– Сядь! – велел Иван. – Сказывай!
Гонец опустился на кончик лавки, тяжело опёрся широкой спиной о стену, хрипло произнёс:
– Аз есмь из разъезда боярского сына Стёпки Михайлова. Углядели мы татаровей вёрст за сорок от Тулы. Орда в тыщу голов, крадётся лесами. Стёпка велел тотчас скакать прямо к тебе, государь. Другого гонца послал к воеводе Шуйскому. Опричь велел передать, коль большую орду заприметит, тотчас гонца к тебе наладит. Он с десятком остался дослеживать. Всё, батюшка-государь, што передали, то и сказал.
– Ступай.
Гонец тяжело поднялся, поклонился, вышел. Бояре ухватились за бороды – думать. Первым высказался многомудрый Квашнин.
– Вещует моё сердце, малой ордой идут. Менгли-Гирей опасится османов. А ногайский хан Ямгурчей – пособник Менгли-хана. Свой дом на разор туркам они не бросят. Это своевольцы, князюшко. Пождём до завтра. А там что Бог даст.
Ряполовский и Патрикеев согласно кивают. Они люди верные, не угодливы, задних мыслей не держат, местом друг перед другом не чинятся и не завистливы, как прочие. За это Иван их уважает.
Что предпринять? Большую рать собрать – не менее двух седмиц потребуется, немалый урон хозяйствованию. А промедлишь – кровью русской за ошибки придётся платить.
– Пождём, – решил Иван. – Завтра думу соберём.
Утро началось с хороших вестей. Прискакал второй гонец от Шуйского. Орда оказалась малой.
«Аще тех бесерменов с божьей милостью тайныя окружа и разгроми, – отписал воевода. – Стёпка Михайлов хоробрость в тоей брани проявил, самого мурзу, старшого среди татей в полон взял. Той мурза, зовомый Айбек, при допросе сказывал, шед ис ногаев един, другие за ним не волоклись. Мекаю, осударь, пора втору черту под крепостцой Орлом ставить, штоб никакого пропуску на Русь не было.
Отписал раб божий, холоп и воевода твой
Дмитрей Шуйский».
Ознакомившись с письмом, старый воевода Патрикеев заметил:
– Не одну черту, а две надобно ставить.
Иван с ним был согласен.
А тут прибыл и Андрей Холмский, брат воеводы Данилы Дмитрича Холмского, с которым Иван на Казань ходил. Андрей, женатый на сестре Ивана Анне, ездил к Казимиру улаживать давний спор о Смоленском княжестве. Явился он к князю, не успев снять походного кафтана из синего бархата, но шапку переменил на новую, голубого атласа, отороченную соболями и шитую жемчугом. Рассказывал привезённые новости не спеша, как бы тая про себя ведомое только ему главное, отчего на его бритом мясистом лице мелькала хитроватая усмешка. От него несло чем-то иноземным, запахом душистым, приятным. Говор у Андрея тихий, несвычный, без протяжного московского аканья, слова произносил быстро, округло, словно круглые камешки во рту перекатывал. Много по чужеземьям ездил, набрался тамошних привычек. В душе Ивана возникла невольная неприязнь к зятю, а вместе с ней и подозрительность[39]39
Забегая вперёд, скажем, что через несколько лет князя Холмского обвинят в заговоре, посадят в тюрьму и вскоре отрубят голову.
[Закрыть], но слушал он внимательно, ничем не выдавая своих чувств.
– Принял меня Казимир и давай выговаривать, мол, Иван, ваш государь, нехорошо себя ведёт, не по-соседски, переманывает к себе мой служилый люд, притеснения в торговле чинит. Я же ему ответил так: ты вот про обиды говоришь, а что под своими вотчинами подразумеваешь? Не те ли города и волости, с которыми русские князья пришли к тебе служить? Литовские аль польские вотчины – от ваших предков, а русские – от наших предков. Вам своих земель жаль, а разве моему государю своих – не жаль? Тогда Казимир пригрозил пожаловаться папе римскому и воевать с нами. Я же ему сказал, что не за свою отчину воевать ты хочешь, неправедно сие!
– Верно рек, – вынужден был одобрить Иван.
– А ещё, государь, вот какая новость. Помнишь ли, приходил года два назад в Москву рыцарь немецкий фон Поппель?
– Ведаю. И что?
– Я того рыцаря встретил в Литве. Опять к тебе собирается. Имеет посольскую грамоту от самого немецкого императора Фридриха!
– Чего Фридрих хочет?
– Просить твою дочь за своего племянника. Елена хоть и мала, да племянник Фридриха тоже годочками не вышел. Так что загодя твоего согласия добивается. Вот как дело повернулось. О Руси до сё мало кто в полуночных странах ведал, а ныне о Москве там только и разговоров. Фридрих сначала не поверил, что за польской Русью есть ещё Русь, а как узнал, сколь она многолюдна да богата, тут и сватов готов слать. А в благодарность обещает тебя отныне королём титуловать. Я ему твою родословную привёл. – Зять хитро подмигнул. – Ту, которую в летопись заложили!
Иван нахмурился. Подмигивание зятя показалось ему дерзким, хотя именно Холмский первый предложил составить родословную князей московских от самого римского кесаря Августа Божественного[40]40
Имеется в виду Гай Октавий Август, внучатый племянник Гая Юлия Цезаря, правивший в Риме в 43 г. до н. э. – 14 г. н. э.
[Закрыть] и распространить её с послами во всех странах, с коими Русь имела сношение. Иван дал своё согласие. Тогда Холмский продиктовал думному дьяку Василию Мамырёву слово в слово следующее:
«Поелику кесарь Август в древние времена владел всем миром, а власть ему была дана свыше божьим волением, то он государь по праву, в чём невозможно усомниться никому... Когда кесарь Август стал немощен и изнемог в трудах великих, пожелал он учинить делёж своего государства между братьями и родственниками. Брата своего Пруса он посадил на царствование на берегах Вислы-реки и Немана, потому та земля доныне зовётся Прусской. А от Пруса четырнадцатое колено – царь Рюрик. Мы же божьей милостью ведём свой род от Рюрика. То ж и Владимир Мономах, сын дочери византийского императора Константина Мономаха, наш пращур прямой, царствовал в Киеве, и греческий император послал ему с митрополитом Михаилом крест из животворящего дерева, царский венец со своей головы и сердоликовую чашу, из которой веселился кесарь Август. Владимир был венчан сим крестом и стал зваться Мономахом, боговенчанным царём Великой Русин. С того времени мономаховой шапкой венчаются все великие князья московские».
Прочитав творение зятя, Иван высказал сомнение, был ли Владимир внуком императора Константина. Квашнин утверждал, что Владимир женился на сестре Константина Анне. А затем сам принял христианство и Киев крестил. Холмский тогда рукой махнул и сказал:
– Пятьсот лет прошло. Кто помнит, был ли Владимир внуком аль зятем? В летописании об этом не сказано, а заморских книг народ не читает. Внук же родней зятя.
Насчёт заморских книг Холмский был не прав. Ещё сто лет назад, когда Москва отбивала внезапное нападение Тохтамыша, горожане и жители окрестных деревень снесли свои книги в каменные церкви, чтобы уберечь от огня, и этих книг было так много, что они заполнили помещения кремлёвских храмов доверху. Много было книг именно заморских. А ведь цены они немалой. В хозяйственных записях управителя княжеского дворца при деде Василии есть сведения, что за книгу в сто тридцать пять листов «отдан самострел добрый, да сабля, да сукно чёрное, да завеса простая, а к ним осьмуха гривны серебра»[41]41
Московская серебряная монета называлась лентой, весила она 0,4 грамма. 200 денег составляли рубль, 100 – полтину, 20 – гривну, 6 – алтын. О ценности московских денег говорит такой факт: наёмный работник за год труда зарабатывал полгривны (10 денет).
[Закрыть]. Но Холмский прав в другом: внук родней зятя. А подобное в деле устроения престола, когда ищется любое доказательство божьей прихоти, благословившей царствующий дом, немаловажно. Решили оставить. Это было нужно не только Ивану, но и Росии[42]42
В XIV веке наравне с понятием «Русь» уже употреблялось «Росия».
[Закрыть]. Люди забывчивы и легковнушаемы. И тогда Иван подумал, что пройдёт ещё пятьсот лет – и уже его, Ивана, назовут древним, и кто будет знать, зачем он и Холмский слегка подправили родословицу московских князей. Улучшили-то пользы для.
Направляясь в думную палату, Иван завернул в покои сына Ванятки. Учил его грамоте монах Лаврентий, тот самый, что вписал родословную Ивана в летопись и, не удержавшись, добавил от себя: «Господа, отцы и братья! Оже (если) ся где буду описал, или переписал, или недописал, чтите, исправливая Бога для (ради Бога), а не клените (не ругайте), занеже ум молод, не дошёл». Поскольку Лаврентий на самом деле ничего не перепутал, Ивана эта приписка позабавила, и он простил монаху самоуправство.
Чернобородый Лаврентий склонился в низком поклоне, держа в руке раскрытую книгу, украшенную серебряными застёжками и цветными заставками. Видимо, до прихода князя он что-то читал Ванятке. Кудрявый сынишка, сидя за низким столиком, бойко черкал на листе пергамина, неумело держа гусиное перо. На столике была бронзовая чернильница, две склянки с песком, перочинный ножик и две «тетрати» с листами из бумаги, привезённой от фряжцев. Иван заглянул за плечо сыну. Ванятко быстро зыркнул на отца, шмыгая носом, попытался прикрыть пергамин ладошкой. На листе были смешно нарисованы человечек с тонкими, похожими на грабли руками и непонятный зверь. Беспорядочно громоздились слога: БА, БИ, ГА, ниже вкривь и вкось приписано: «Господи, помози рабу своему Ване». Великий князь только вздохнул. Озорной мальчишка растёт. Он в его годы старался запомнить «Топографию» византийца Космы Индикополова[43]43
Александрийский купец и монах, в VI веке совершил путешествие в Индию.
[Закрыть], того, что в Индию плавал.
– Пергамин не порть! – строго сказал князь сыну. – Дорогой он.
– А чернила можно? – немедленно спросил мальчонка.
Чернила делались из железной ржавчины, вишнёвого клея, дубовой коры и кваса или из мёда и кислых щей, которые определённым образом смешивались, кипятились, выдерживались, и получалось вещество необходимого блеска и вязкости.
– Чернила можно, – разрешил родитель и обратился к монаху: – Ты вот что, отче, давай ему для озорства бересту. Экие вы недогадливые. Что за книга?
– Читаю ему, государь, «Задонщину» старца рязанского Софония.
Эту летописную повесть Иван и сам любил читать в младости. А слова своего прадеда Дмитрия Донского до сих пор помнил. «Да како аз возглаголю: братья моа, да потягнем вси с единого, а сам лицо своё почну крыти и хоронитися назади? Не могу в том быти...» Дальше Иван забыл; протянул руку к монаху, крякнув с досады:
– Дай-кось...
Да, эту книгу в деревянной обложке, покрытой бархатом, он хорошо помнил. А вот и слова великого прадеда: «хочу как словом, так и делом быть впереди всех и перед всеми сложить свою голову за братьев, за всех христиан; тогда и остальные, увидев это, станут с усердием проявлять своё мужество». Сколько раз наставник Степан Дмитрия Квашнин внушал ему, что победа на Куликовом поле была достигнута вследствие единства Руси под главенством Москвы. Иван громко произнёс обращение Дмитрия Донского к воеводам. Ванятка слушал, замерев.
– Сии слова мною не единожды читаны, – сказал Лаврентий.
– То добре. Мыслю я, отче, учинить в домах священников и дьяконов училища, чтобы православные христиане отдавали им своих детей на учение грамоте и книжного письма.
– Нужное дело, государь. Давно пора. Одна беда – мастер за радение требует кашу да гривну денег. Простому люду не под силу.
Иван промолчал, но ему нравилось беседовать с умным монахом. Он покосился на Ванятку, поманил к себе Лаврентия, тихо спросил:
– «Пасхалии» до какого года доведены?
Вопрос был не праздный. «Пасхалии» – указатели дней в году, когда должна праздноваться Пасха. Недавно митрополит Зосима предупредил Ивана, что указатели дней вычислены всего лишь до конца века, то есть до семитысячного года от сотворения мира[44]44
Семитысячный год по церковному календарю наступал летом 1492 года.
[Закрыть], и что среди клира распространяется убеждение о наступлении в семитысячном году конца света. «Доселе уставиша святые отцы наши держати паскалию до лета седьмотысящного. Нецые же глаголят, тогда же будет второе пришествие господне и Страшный суд». До второго пришествия оставалось времени всего ничего, и слух о нём тревожил многих. Беспокоился и Иван, ибо в последнем случае его радения теряли всякий смысл.
– Не оставляй своих забот, государь, – твёрдо произнёс монах. – Ничего не случится. Так говорят люди малосмыслящие. Ещё святой евангелист Марк глаголил: о том дне и часе никто не ведает, ни ангелы небесные, ни сын божий, токмо отец един Всевышний, – сказал, как мёдом Ивана по губам мазнул.
Вот ещё источник тревог и беспокойств – боярская дума, в ней не наберётся и двухсот думцев, а склок, ссор, оговоров, тяжб, обид – как если бы рать на рать навалилась. А причина проста – местничество, то есть кто на каком месте сидеть должен. В таком деле самая малая подсидка смерти подобна. Ещё Василий Тёмный, дабы утвердить преимущества службы при своём дворе, объявил:
– Князь, токмо потому, что он князь, должен по службе стоять выше боярина.
И никто не подозревал, что из местничества выйдет. По первости пришлось уточнить, что бывшие великие князья, к примеру ярославские, само собой, должны быть выше удельных. Князья Пенковы всегда впереди князей Курбских или Прозоровских, потому что они ярославичи, а Курбские и Прозоровские имели всего лишь уделы в Ярославском княжестве великом. Но многие удельные теряли свои отчины ещё до перехода на московскую службу. Такие ставились ниже старинных бояр, чей род служил ещё при Калите. Далее. При Василии Первом и Василии Тёмном, да и при самом Иване, переезд в Москву служилых людей усилился. Только при Иване в родословные книги было записано ещё сто пятьдесят фамилий. Можно сказать, вся Русская равнина со всеми украинами оказалась представлена этим боярством во всей полноте и пестроте разноплеменного народа – греки, немцы, литвины, татары, угры, мордва. На какие места их сажать, чтобы не обидеть? И не приведи Господь потеснить старинных московских бояр – Кошкиных, Бутурлиных, Челядниных, Воронцовых, Морозовых, Ховриных. Все они были великим князьям вольными советниками и преданными соратниками, их-то всяко обидеть – грех смертный. Напасть пошла ещё и оттого, что старые боярские роды служили государю по договору, а титулованные князья – Шуйские, Ростовский, Бельские, Мстиславские, Стародубские, Вяземские, Одоевские – стали служить по происхождению, то есть не по пожалованию государя, а по наследственному праву. Москва для них стала как бы сборным пунктом, откуда они правят Россией не поодиночке, как правили пращуры, а «совместно и совокупно».
Кто откажется от наследственных прав? Отсюда, по мнению Ивана, стала проистекать излишняя вольность титулованных бояр, мешающая ему утвердиться самодержцем. Это не просто раздражало, а посягало на его исконние «отчинные права». Боярская дума даже с ним осмеливалась не соглашаться и спорить. Иван вынужден был терпеть своеволие наследственных князей, ставших московскими боярами, поскольку ещё оставались великие княжества Рязанское, Тверское, процветал никому не подвластный вольный Новгород. Но обиды то и дело возникали между самими боярами, поскольку счёт между ними стал таким сложным, что в нём легко было запутаться даже человеку искушённому. Установившийся порядок гласил: «Первого брата сын четвёртому дяде в версту», то есть ровня. Это в том случае, если первое место в семье принадлежало большаку, старшему брату. Тогда два последующих места – двум его младшим братьям соответственно возрасту, четвёртое – его старшему сыну. Если у большака был третий брат, он не мог даже за обеденным столом сесть ни выше, ни ниже старшего племянника, а был ему ровня. Как считались в семье за столом, точно так и на службе. Тот же счёт был и между родами. И даже Иван не подозревал, что именно в этом – начало будущих великих потрясений[45]45
Кризис между титулованным боярством и самодержцами все нарастал и нашёл своё разрешение в «Великой смуте» при Иване Грозном, он привёл к опричнине и уничтожению боярства, а в конечном итоге – к смене династии Рюриковичей династией Романовых.
[Закрыть].
Печи ещё не топили, и в просторном думском помещении было прохладно. В высокие стрельчатые окна вливался тусклый свет пасмурного осеннего дня.
Бояре сидели в шубах, высоких меховых шапках. Впереди бывшие великие князья – Рюриковичи и Гедеминовичи: грузный Ярослав из ярославичей; седой Александр из Костромы, у которого шрам от литовской сабли тянулся через всё морщинистое лицо; смуглый горбоносый Александр Ростовский из Гедеминовичей; русый, голубоглазый крепыш Борис Нижегородский и ещё несколько. За их спинами в ряд расположились удельные – человек двадцать. За ними теснились бояре, более полутораста, косились на соседей, «тужась над счётом, сипели друг на друга яко змии». Жизнь не стоит на месте. Вот боярину Романову-Захарьину велено возглавить новый Оружейный приказ, нужда в таком приказе приспела, значит, Романов теперь должен сесть выше Тучкова, а тот его не пускает, пихается. И смех, и горе. Только Квашнин, Патрикеев, Ряполовский и несколько других держались спокойно. Эти вперёд не рвались, знали себе и другим цену. А про прочих Холмский в сердцах однажды выразился так:
– Телом дородны, а умом не породны!
Скоро об этой присказке знала вся Москва. Хорошо, острослов не назвал поимённо – кто не породен. Тогда хоть на улицу не показывайся – засмеют, не поглядят, что боярин.
Сбоку от великого князя за низенькими столиками расположились дьяк Василий Мамырёв, изрядный грамотей, и трое подьячих писцов, готовых борзо скрипеть перьями.
Иван сообщил думе о славной победе воеводы Шуйского над «прибеглой ордой» мурзы Айбека. Известие вызвало радостное оживление.
– Собрал же я вас, славные соратники, дабы помыслить о наилучшем устройстве России, – перешёл к делу князь. – Много я сведал о царствах фряжцев, германов, англов, италиков и прочих странах в предвечерних землях. Вот и Холмский по приезду баял, мол, живут там богато, опрятно, волю государей боятся нарушить, законы у себя ввели и с божьей милостью их блюдут. Оттого я в смущении великом пребывал, ибо негоже государю быть в числе худших. Но вскоре понял: оттого у них покой, порядок и богатство, что Русь их избавила и от печенегов, и от хараз, половцев, татар, Росия спиной своей окровавленной те предвечерние страны от беды прикрыла. Через её тело Чингизы, Батый, Тамерланы переступить не смогли – споткнулись! И теперь Москва мир спасает. Кого Ахмад больше всего опасается? Москву! Кого Ягелло боялся? Росию! Но у Росли силы слабнут, татары ежегод в полон людей берут. Князья наособицу быть наровят, каждый сам себе богатырь. Но ещё мой пращур сказывал: суда божия и хитру уму не минути!
Первое, что мыслю, думцы, надобно власть крепить. Будет она в одних руках и сильная – никто нас не одолеет. Власть моя от божественного Августа римского, а посему превыше неё ничего нет и быть не должно! На том стою и за это крепко биться буду!
Непокорство далее терпеть – всё равно что Росию в гроб уложить. Божий перст указует: се гряди! Но не с соседей начинать надобно...
Князь помолчал, оглядел насторожившихся бояр, стараясь не встречаться взглядами со своими братьями – Юрием и Андреем Большим, сидевшими в первом ряду. Те нахмурились, переглянулись. Иван обыденно сказал:
– Ведомо вам, думцы, что Москва поделена на три отчинных удела между мною и моими братьями. В каждой отчине свой суд, стражи, мытари. И любой из вас знает: оттого разор Москве великий учиняется. Правежа единого нет. Смертоубийцы, лихоимцы, тати, насильники из одной отчины в другую, яко зайцы, бегают, от суда скрываются. С приезжих купцов, бывает, по три пошлины берут. Князья-отчинники свои монеты вводят, одной меры нет ни по пуду, ни по аршину, у всякого своя мера. Смешно, думцы, в аршин Китай-города умещается полтора аршина Оружейной улицы. Нет за городом единого призора. Каждый удел от пожара в одиночку бережётся, улицы застраивают вкось и вкривь. Потому и говорю: не с соседей-князей начинать надобно, а с нас самих. – Великий князь повысил голос. – Мы пример остальным покажем! С московских князей Руси единой начинаться! Потому повелеваю: в первопрестольной отчины отменить, отныне в ней будет власть одна – моя, великокняжеская. И суд один, и стража одна, а тако же и всё остальное! – Только сейчас Иван прямо и строго взглянул на своих братьев.
Крупный, ширококостный Андрей, прозванный за дородность Большим, вроде бы остался безучастным. Но вспыльчивый, лёгкий на подъём Юрий, побледнев, в сердцах произнёс:
– Что ж, брат, с нами не посоветовался?
Среди бояр стоял невнятный бубнёж. На их глазах совершилось неслыханное: государь отбирал у родных братьев московские отчины. Бояре приподнимались с лавок, чтобы из-за чужих спин взглянуть на братьев Ивана. С возгласом Юрия бубнёж усилился. Многие закуделили свои бороды в глубокой задумчивости, ибо поняли: наступает то, что Джан Батиста Тревизан называл самодержавьем. По выражениям лиц князей Иван видел, что многие недовольны. Советоваться с братьями он не стал, зная, что его решение вызовет бурный протест Юрия, а тот в запальчивости мог сказать самое дерзостное и гадкое. Иван не хотел ссоры и считал, что сможет её избежать, если объявит указ на общем сборе бояр. Юрий быстро ярится, но легко отходит, главное – не дать ему впасть в гнев попервоначалу, прилюдно учинить ссору он не решится. Расчёт был точен. Юрий больше ничего не сказал, опустил голову. Молчал и Андрей. Иван облегчённо вздохнул.
Прежде, чем принять столь необычное решение, Иван обсуждал его со своим зятем Холмским, и тот решительно объявил: «Пора! У тебя, княже, под рукой вся рать, казна, дума, тебе о Росли пекчись надобно. Зато теперь никто не укорит в глаза, мол, у меня отбираешь, а своим сродственникам волю даёшь! Пусть привыкают. После этого недолго Твери вольной быти, а Новогороду буйным ходите!»
– Говорите, бояре, как о сём деле мыслите, – велел Иван.
Первым, как всегда, поднялся главный спорщик боярин Тучков, великий в чреслах и гневливый не в меру. Грузный, распоясавшийся от духоты (надышали-таки бояре), в отпахнувшейся шубе видна атласная ферязь, горлотная шапка[46]46
Горлатная шапка – шапка из меха куницы.
[Закрыть] едва ли не в аршин сдвинута на мясистый затылок. Багровый боярин пробасил:
– Волю, князе, отнять у нас хощешь? Но помни: она нам тож от пращуров дадена! Мы, князе, на твою волю не заримся, не изымай и ты нашу! Не холопи мы и не рабичи! – Он оглянулся, ища поддержки. Некоторые из бояр одобрительно загудели. – Не воевати бы тебе с нами, а в полюбовии быти! Схоронь сей указ, не божеской он.
Лицо Ивана налилось кровью. Тучков выразил самое главное опасение бояр, за посягательством на отчинные права братьев великого князя он усмотрел опасность и для себя. Но Иван никак не отозвался на речь смутьяна. Многолюден двор у Тучкова, попытаешься пресечь его своеволие – поднимется, уйдёт в Литву – князю разор. Когда же поднялся мелковотчинный боярин Иван Никитич Берсень, тоже много досадивший князю своей враждебной прямотой, пожелав высказаться, и по его лицу было понятно – о чём, Иван не дал ему и слова сказать, грубо, презрительно бросив:
– Пошёл вон, смерд! Ты мне не надобен! Пошёл вон!
В его словах было больше расчёта, чем чувства. Размышляя над сущностью самодержавья, Иван понял, что дело не в единоначалии, а скорей в самом самодержце, в его характере. Мягкостью, нерешительностью своеволия не сдержишь. Властитель тогда, и только тогда самодержец, если его боятся. Начинать же надо с худопородных. Недаром сказано: бей своих, чтоб чужие боялись. Верное наблюдение!
Произнесённое великим князем прозвучало подобно грому, столь неожиданным и непривычным показалось. Дума растерялась. Такого ещё не случалось – боярина из думы гнать. Многие даже застонали, поняв, какой оборот принимает дело. Берсень только волосатый рот открывал, пытаясь что-то сказать, но лишь сдавленно мычал, лицо его стало сизым и несчастным. Мамырёв со своего места спокойно произнёс:
– Уйти тебе, Берсень, велено. Аль не слыхал?
Берсень потоптался, хватаясь то за кушак, то за шапку, тяжело повернулся и поплёлся прочь. Мамырёв кивнул одному из подьячих, и тот, бойко побежав, закрыл за боярином дверь. Думцы молчали, словно воды в рот набрав.
Новые наступали времена.
Новое кажется странным попервоначалу, если же оно повторяется, то становится привычным, словно так было всегда.
Стали ездить по улицам Москвы бирючи и, гремя в литавры, оповещать народ, что в Троицком монастыре недавно обнаружили древнюю книгу, ещё времён Кирилла и Мефодия писанную, а в ней буквы светятся, даже в темноте честь можно. Сии огненные знаки уведомляют честных христиан о божественном происхождении московских великих князей, ведущих свой род от римского кесаря Августа. Велено было дьякам при чтении на площадях княжеских указов непременно добавлять: «Воля государева – Божья воля».
Андрей Холмский говорил Ивану:
– Ничего-о, пусть привыкают.
И посмеивался в пушистые усы.
В церкви с амвона священникам митрополитом указано объявлять, что государь всея Руси Иван Васильевич – исполнитель замыслов Всевышнего.
Холмский, как знаток придворных этикетов, был послан с дьяком Никитой Беклемишевым в Ватикан за Софьей Палеолог, обговорить условия династического брака, и если они, условия, будут приемлемыми, привезти в Москву невесту. Путь был неблизкий.
Боярскую думу Иван собирал всё реже, больше советовался со своими преданными боярами – Квашниным, Ряполовским, Патрикеевым. Завистники прозвали Квашнина «квашня – туга мошня», а Ряполовского «Курочкой рябой». Вся Москва смеялась. За возком степенного боярина, случалось, бежали детишки, дразнили:
– Курочка ряба, снеси яичко...
Но медлительному князю всё нипочём, он лишь поводил рачьими глазами, когда ему слишком надоедали, и насмешники умолкали. Его считали ведуном и побаивались. По Москве шёпотом передавали, что он «чарами шкодит». Сведущие, а их было немного, молчали. Дело в том, что несколько лет назад по тайному распоряжению Ивана был создан приказ, который так и назвали – Тайный. В него должны были стекаться все сведения от проведчиков, а также от ведунов, колдунов, чернокнижников, сюда собирались книги, писания о заморских странах, чертежи земель, кои только можно достать, указания о чужеземных городах, дорогах, расстояниях и о многом другом, что может понадобиться для секретных дел государевых. Вот этим приказом и ведал князь Семён Ряполовский.
Размещался приказ в глухом углу Кремля, где каменная стена нависает над береговым обрывом Москвы-реки, огороженный сплошным дубовым тыном из вертикально вкопанных брёвен, впритык, так что за ними ничего нельзя углядеть даже в малую щель (не было щелей), а заострённые вершины брёвен вздымаются на высоту вровень с крепостной стеной. Но даже и со стены невозможно увидеть двор Тайного приказа, потому что с этой стороны двор закрыт навесом и сетью, напоминающей рыбацкую, с мелкими ячейками. В тыну одна малая дверь, войти в которую можно, изрядно согнувшись, и мощные ворота, почти всегда закрытые. Если кто сюда и приезжает, то по ночам, закутавшись в плащ. Сведущие люди знают, что во дворе три избы, конюшня, несколько мелких каменных построек, назначение которых известно лишь Ряполовскому. Печи в избах никогда не дымятся, но не потому, что избы нежилые и неотапливаемые, – наоборот, в них всегда есть люди и они теплы, – но дымоходы выведены не наверх, а куда-то под землю, на дымоходах даже можно спать, настолько они широки, а проходящий по ним горячий дым обогревает избу и лежаки. Москва-река в этом месте подходит к крепостной стене близко, береговой обрыв всего лишь в десятке саженей. Он крут, и спускаться к воде надо ещё саженей восемь. Промежуток между стеной и обрывом сплошь зарос неистребимым цепким малинником, шиповником, колючей ежевикой. Продраться через эти дикие заросли невозможно ни зверю, ни человеку. Но у песчаной отмели на реке плавно покачивается крепкое речное судно – с палубой, кормовой нарядной надстройкой, заставляющей предположить в ней каюту, и мачтой с убранными парусами. Вдоль борта паузка уложены вёсла. Судно крепкой цепью приковано к чугунной тумбе деревянного причала, на котором имеется будка, а в ней неотлучно находятся два воина. Когда на причале появляется пятидесятник со сменой, то часовым, прохаживающимся по кремлёвской стене, слышно, как он зычно велит присматривать за паузком пуще глаза. Странно то, что пятидесятник плывёт сюда по реке со стороны пристани, хотя от Боровицких ворот пёхом гораздо ближе.








