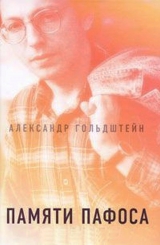
Текст книги "Памяти пафоса: Статьи, эссе, беседы"
Автор книги: Александр Гольдштейн
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 40 страниц)
ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА ЛАУДЕНА
История эта произошла два с половиною года назад, но комментарии Лаудена много позже настигли и окольцевали событие. Бурая кровь, над обузданием коей склонились два нанятых ангела медицины, наконец успокоенная, запеклась. Она стала поживой кунсткамеры, остекленевшей музейною лужицей, побочным продуктом развернутого напоказ отклонения, коль скоро кому-либо вздумается этот порыв лицезреть и, досыта надивившись, об уклоне том рассуждать. Такие люди обнаружились, впрочем, немедленно. Хирургический ножик, обрисовав тонкость замысла, оцарапал и тела толкователей, и если иным в анестезированном движении скальпеля сверкнул индивидуальный душевный бедлам, то другие узрели еще один, в бесконечном ряду, знак разложения и упадка когда-то изящных искусств или даже прозрачный оракул более общего запустения самых разных материй. Блаженная неуязвимость подобных высказываний (их, по обыкновению, невозможно ни опровергнуть, ни подтвердить) делает солидарность или несогласие с ними излишним, а посему, руководствуясь тацитовским заветом эмоционального невмешательства, воздержусь от пристрастий и рассмотрю вопрос в безоценочной, описательной плоскости, чтобы дать место свершившемуся, двум его авторским интерпретациям и кое-каким попутным суждениям, чья неброская цель только вышивка по канве происшествия.
Хроникальная сторона такова. Брюс Лауден, активист как будто покойного, но непогребенного боди-арта, отрезал себе язык (точнее, поддавшись его уговорам, операцию согласились провести два врача), запечатлел действо на пленку и дождался счастливого дня, когда отсеченный орган предстал очам посетителей лондонской галереи – не прибегая к рекламе драгоценного экспоната, она сделала ставку на естественную циркуляцию слухов и, разумеется, сорвала весь банк. За десять предыдущих лет Лауден, тяготясь избытком частей своего тела и последовательно реализуя минималистскую тактику, вычеркнул из ассортимента одиннадцать других ненужных деталей – удалению подверглись избранные пальцы на руках и ногах, а также левое ухо. Объекты зафиксированы, проданы и поступили в распоряжение коллекционеров. Вместе с упомянутым языком число потерь сакрализовалось до дюжины. Техническое измеренье программы, беспрекословно предписанная ею калькуляция убытков (они же и приращения – природа стремится к симметрии, и пополняемый список изъянов компенсирует телесную недостачу) содержатся в тайне, но легко допустить, что дерзость идеи не ограничится этим банальным, доподлинно дюжинным символическим рубежом.
Первая реакция на лауденовские перформансы – недоумение организма, который инстинктивно соотносит их с собственным ужасом и протестует, не хочет уверовать. Чуть позже, когда оторопь уже за холмом, разум начинает опробовать версии, выкраивая их на любой выбор и вкус. Лауден одержим глубочайшим презрением к миру, и если это действительно так, то его жест, вонзаясь в историко-культурные святцы сопротивления, обретает надежное логово в невысохшем русле традиции, где подвергнутый бешеным пыткам античный философ выплевывает свой перекушенный зубами язык в округлую морду тирана. Художник не желает вести разговор под деспотическим небом наличных порядков. Он отказывается от празднословия змеящегося во рту способа речи, от половины слуховых (левое ухо) и тактильных (десять пальцев) возможностей ощупать реальность. Он становится полубесчувственным и потому особенно чутким, ведь его созерцания, воплощая утопию тела без органов, отныне диктуются лишь непогрешимостью боли. Демонстративно взятая им на себя немота заключает иначе недостижимое для него ораторское красноречие вызова, адресованного не чьему-то лицу, не потной провинциальной роже властителя, даже не сияющему властному лику универсальных начал, но рассеянной безличинности Власти как таковой, анонимной, всепроникающей и неистребимой. Он (еще одна версия) подражает Христу – Христу и Предтече искусства XX века, отрезавшему себе в публичном доме ухо, дабы тупо не удающиеся, по свидетельству Жоржа Батая, обряды освобождения преступили магическую черту закабалений, уничтожили неосуществимость и тварную косность. Повторяя легендарную акцию, растягивая ее до пределов отпущенной ему жизни и тем самым превращая единичность жеста в обычай, он, как истинный верующий, не может насытиться ранами и без устали наделяет себя эмблемами новых мучений, геральдикой приобщенности к образцу и праобразу. В результате кристаллизуется необычная ритуальная практика самокалечений – ее безоглядность питается все новыми усекновеньями плоти.
Согласно третьей трактовке, он сцеживает эти мотивы в традиционную философию боди-арта, о которой речь впереди, покамест довольно того, что Лауден позднее звено гиперболических испытаний телесности, воскрешенных искусством столетия. Здесь за несколько десятилетий реализовано, кажется, все: наносили себе шрамы, простреливали ладони из револьвера, измывались над гениталиями, медитировали в обнимку с удавом, отнюдь не обученным хорошим манерам, почти без еды и питья шли навстречу друг другу вдоль Великой китайской стены и обессиленно, в предзакатной стадии истощения, завершали свой начатый с первого шага путь в тысячу ли. Лауден на этой оголтелой территории далеко не единственный, а его бросающееся в глаза выпадение из рода и правила (ниже скажу о более веских расхожденьях и сходствах) – в принципиальном антиэкстатическом педантизме, в каком-то бухгалтерском, на пике благополучной отчетности, бесстрастии жанра, чудовищном и невинном, будто не сознающем содеянного. Его стихи абсолютно невозмутимы, их могла бы написать каменная стена, с восхищением сказал один русский поэт о другом. Брюс обитает в близком регистре внечеловеческой неподотчетности, репродуцируя свою невозмутимость с упорством, с каким ветшающая стена могла бы ронять из себя камень за камнем, любопытствуя, сколь долго ей удастся еще продержаться. Все эти домыслы, а приведена их малая часть, размножались в художественной среде до тех пор, покуда ячеистая необъятность Великой сети не принесла, с интервалом в три месяца, два лауденовских отчета, живописавших причины кошмарных деяний.
Первый документ с нарочитою стилистической заунывностью излагал помрачение визуальных искусств, а равно идею того, что умирание оных – для совершенства правдивости и во имя буквального соблюденья Паскаля, обещавшего поверить только такому свидетелю, который даст себя зарезать, – должно быть представлено неспешно загнивающим телом, самоумаленным обрубком, что в противовес беккетовскому говорливому прототипу избавлен и от напасти изустного растекания. Прочитав этот текст, я исполнился жалости к Лаудену. Чтобы составить столь тривиальный, унизанный дежурным набором цитации коллаж, необязательно так зверски над собой надругаться. Некоторую свежесть внесла неожиданная ссылка на Александра Кожева – он был первым (как сообщил мне по телефону мой друг Вадим Россман, философ; в момент разговора и, должно быть, уже навсегда нас разделяла чертова пропасть морей и по крайней мере один океан), кто диагностировал смерть человека и отнесся к ней с брезгливым спокойствием, отказавшись стенать на поминках. Затем невод выудил вторую декларацию членовредителя; в ней, точно мир с исступленным вниманием следил за всеми изгибами мысли артиста, начисто и на этот раз в горячих тонах отрицалось содержание первой, а идейным посылом Брюсовых акций была названа прихоть.
По словам Лаудена, к исходу столетия художник, в силу многих причин, до сих пор требующих внятного объяснения, лишился всего, что со времен романтизма полагалось невычитаемым достоянием его ремесла, – судьбы, призвания, идеологии, общества и, разумеется, искусства. Исчезли былые структуры и скрепы, области честолюбия и престижа, испарился субъект как носитель намерения, большой стратегической параболы творчества. В осадке лишь материальная иллюзия тела, плывущего в мерцающую иероглифичность, и прихоть, толкуемая в качестве безопорной и безосновательной выходки. Эта прихоть нейтральна, пуста, она неинтересна в том числе исполнителю (у него, художника без искусства, вообще нет никаких интересов), отрешенному даже от собственного своеволия, от своей пережиточной самости. Уничтожал себя Лауден потому, что ему этого якобы захотелось, но хотение было выпотрошенным, нулевым, в нем искоренилось желание. Только бесцельная мания, от которой он в любую минуту готов отказаться, и отчего бы ее не продолжить, если пустотные чувства неразличимы? Так, пишет Лауден, могло бы хотеть чучело крокодила или мраморная, с ренессансных фонтанов, рептилия. Он не знает и уже не намерен узнать, что привело его к скальпелю. В отсутствие желаний не может быть ни исследования, ни понимания, ни обращенности к самопознанию. Это и есть хирургически голая прихоть, прощальное достоянье художника.
Разрыв с боди-артом продемонстрирован здесь в полном объеме. На фоне более крупных событий человечество, скорее всего, не заметит разверзшейся глубины несогласий артиста с родительской идеологией, но я бы не оставил эту впадину без внимания. Дело в том, что классическое телесное творчество, в европейском и венском изводе своем, а именно с ним конфликтует Брюс Лауден, было последним западным искусством, связавшимся с идеологией искупительной жертвы, другими словами, оно было последней радикально-христианской (то самое подражание Христу) практикой жизнесмертия. Возникший в начале шестидесятых Венский театр оргийно-мистериального действия уповал на то, что зрители, посетившие его представления (трупы животных, настоящие шрамы артистов, брутальная атака на психику), выдержат шок страдальческого преображения, обзаведутся опытом нисхождения в темноту и, заполучив свою смерть, эту, по слову Игоря Терентьева, «единственную новость, которая не может быть рассказана очевидцем», воскреснут для катарсически освеженного бытия. На излете того же десятилетия главный этих перформансов испытатель, оскопившись, самоубился. Акция протеста, ибо налицо был протест, порывала с двурушнической политикой соратников, как выяснилось, боявшихся пустынных обителей Фулы, где не затягивались раны и не сворачивалась добровольно пролитая кровь. Сподвижники отработали приемы на тушах со скотобойни, залечили неосмотрительно нанесенные ссадины и, устроившись с минимальным ущербом для организмов, их пронесли сквозь года. Революционеру и экстремисту трудно смириться, что даже родственные души собираются жить, эта жалкая потребность не кажется ему обязательной. Отвращение к половинчатому окружению не являлось, однако, центральною темой самоубийцы, искавшего жертвенной роли Спасителя, дабы, во-первых, взять на себя грехи обремененных и слабых, не способных решиться на предельность мечты о сжигающем все барьеры искусстве, а во-вторых, оправдать падшее состояние этих искусств. В ту эпоху они еще не угасли, но сквозь роскошь мозаик и эротических фресок все отчетливей проступали на стенах дворцов симпатические письмена грядущего изнурения и позора, так что требовалась обрядовая жертва во искупление. Устойчивый, между прочим, мотив контркультурного времени; примерно тогда же Doors сняли маленький фильм (язык не поворачивается назвать его уродливым словом «клип»), в котором Джим Моррисон, расстрелянный и распятый Неизвестный солдат, он же калифорнийский Адонис и Гиацинт, окропляет кровью цветы, и они распускаются – war is over, all is over.
Действия этого типа покоятся на незыблемом базисе религиозных, метафизических, этических предпосылок, напитанных верою в культ, ритуал, священную жертву и непосредственно-научающий, чрез само зрелище обагренного страданием тела, опыт художника-страстотерпца. Попросту говоря, еще три десятилетия назад непросаженным, вот ведь что потрясает, оставался весь фонд западного исповедания, и что бы ни возглашала культура, рубцы на ее тканях не были знаком разрыва. Брюс Лауден, сей полуфантомный Осирис, малой скоростью по частям продающий себя галерейщикам, тщится – абсурдною прихотью расчленений, безмолвно и безоценочно, с неколебимою созерцательностью летописца, чьим обезъязыченным телом заговорила королевская хроника, – выразить охлажденность времен, задувших последнюю головню в кострах искупления, похеривших веру в пример. Клин ужасным образом вышибается клином, наступление новой эпохи экспонируется не отвлеченно-идеологически, но, для вящей убедительности, на собственном теле. Ритуал заменен монотонным обычаем, исчезновение общезначимой жертвы и несбыточность явленного граду и миру примера изрекаются сквозь неизвестно к кому обращенный жертвенно-нелепый пример. Лауден, отрицая за собою желания, хочет быть медиумом новой судьбы художника и человека, убывающей иллюстрацией воссиявших созвездий – их можно только принять, ибо с фатумом не поспоришь. По отношению к старой судьбе эта судьба пародийна. На перформансной карте тела язык Лаудена соответствует оскопленному пенису самоубийцы, и оба этих органа выполняют преимущественно экскрементальную функцию: первый производит дурно пахнущие слова, второй чаще мочится, чем осеменяет. С однократным же актом самозаклания рифмуется разнесенная по годам, совпадающая с течением жизни череда автокалечений. Посредством пародии, уложенной в идеологию прихоти, эпохи парадоксально уравниваются и, обнявшись, тонут в тумане дегероизации. Только так воспринимает историю новый человек, погруженный в свой безутешный удел.
Но «жажда осквернения понятна лишь на почве острого ощущения того, что оскверняется» (Лев Карсавин). Сколько бы ни пародировал Лауден старый порядок, стремясь быть соматически объективной мембраною современности, неотступная дума его, как сказал бы русский философ, – о прошлом, о жертве. Он человек жизнесмертного боди-арта, его происхождение, корень и участь – в отвергнутой им акции искупления, фанатически, несмотря на невесть каким пальцем отстуканные обоснования прихоти, перенесенной в нынешний день. Он демонстрирует никем не затребованный, мерзкий для абсолютного большинства пример черт знает чего и находит в том свою миссию, не слишком заботясь о том, отвечает ли она даже самым размытым канонам художества («Искусство? Да я кое-что слышал об этой исследовательской практике, иногда она бывает вполне любопытной»).
Новые люди так себя не ведут. Они ходят в искусство, как яппи в контору, и договариваются, обсуждают, распродают, дабы, сохрани и спаси, ни одна муха не загадила их объекты и инсталляции, ежели, разумеется, это не особая муха и тем паче не специальное скопище мух вроде тех что использует популярнейший Дэмиан Херст. Этим действительно новым людям, плоть от плоти своей энергичной эпохи, и в голову не придет оттяпать у себя даже кусочек полезной материи – допустим, с дорогостоящего пиджака. Им очень нравится жить, и жить хорошо. И надобно быть совсем отвратительным экстремистом, чтобы упрекнуть их в этом прекрасном желании.
06. 08. 98
НИМФА И ОТШЕЛЬНИК
Окружив себя скорлупою убежища, он уподобился замкнутому в дворцовых покоях азиатскому декаденту, чьи мокрые от слез рукава вздыхают предчувствием варваров. С тем же успехом, чреватым худшей из неудач, он напоминает сегодня дряхлого Минотавра, смертельно уставшего стражника Дедаловых коридоров, куда не сумел просочиться столь ожидаемый человекобыком избавитель. Наукой давно установлено, что Минотавра, заплутавшего в своем лабиринте, радует свиданье с героем, и он почти не сопротивляется, разве только смежает темные веки, учуяв на подступах к шкуре, близ входа в уже полузасохшую кровь, меч с отразившимся от узкого лезвия слепящим лучом.
Впрочем, это пустопорожние домыслы; затворенный в Нью-Хэмпшире, Сэлинджер неразличим с половины 60-х, и если за прорву лет, набитых известно какими событиями, его невидимость не растеряла волнующих контуров, значит, он, добиваясь подобной судьбы, наперед сосчитал листочки вариантного древа своей биографии (так не бывает, это не в человеческой воле и власти) либо, что достоверней, ему было на все наплевать и он с брезгливою неохотой взял чем-то иным – безрасчетным, потусторонним, не имеющим цели снять жатву признательности и тоски. В любом случае эта волшба удивительна и держится мощнейшей, отрицательной магией: чем незаметнее тропы, соединяющие его с внешней действительностью, тем сильней к нему тянется, влекомый желанием разгадать тайну ухода, им отвергнутый мир. От него все еще ждут восстановления оборванной речи, хоть какой-то дидактики и прощального жеста, а он, запечатав уста, хранит верность безмолвию, и не много в истории сыщется анахоретов, которые бы спустя три десятилетия бессловесного пострига уберегли в себе навык влиять из молчания, изредка заглушаемого гуденьем акрид.
Необходимо отметить, что своим совершенством волхование Сэлинджера обязано не литературному качеству им завещанных опусов, ибо на сей счет у судилища разные мнения и вердикты, но той мало кем достигаемой сфере, где браковенчаются таинство авторской личности (она должна быть загадочной и близкородственной, в тернистых лаврах предвидений, заботливо-братских упреков и требовательного религиозного снисхождения к людям), духовидческая атмосфера письма и благодарность читателей, узревших в произведениях Текст поколения, а в его сочинителе – посланника исцеляющей мудрости, сопрягшего верность Канону с неканоническим трепетом интерпретации. Подобные сочетания, повторим, изрядно редки, но когда они происходят – о, стоит ли иронизировать над знакомою формулой, – возникает больше, чем книга, и больше, чем автор. В эти мгновения изверившийся мир берется в свидетели идеальной встречи текста и генерации, и говорить о художественных достоинствах сочинения беспредметно уже потому, что не ими определяется счастье альянса, но самим блаженством союза.
Книга поколения, в каковой разряд попадает наследие Сэлинджера, в себе заключает не литературу, а чудо. Между литературой (необязательно в уничижительном значении Верлена) и чудом лежит пропасть. Художественная словесность все еще пишется, слухи о смерти ее преувеличены. (Рассуждения о финализме тех или иных форм культурного производства относятся к чрезвычайно банальной и столь же естественной эсхатологии; смерть – пункт назначения всего живого, культура усеяна гибелью, как тело св. Себастьяна – стрелами, и достаточно вспомнить хотя бы закат многотысячелетней традиции рукописного книжного творчества, чтобы стал ясен масштаб потерь и убытков. Хочется думать, что они еще предстоят, ведь утраты, а значит, и обновления неведомы только трупу.) Но жизнь, отведенная на исходе столетия слову, не может напитать его сердце, ибо из нынешнего круга литературы улетучилась центральная компонента, исконно служившая ориентиром, желаннейшей пристанью повествовательного бытия. Путь к заповеданному абсолюту подчас казался несбыточным, безнадежным, однако само существованье пути и необходимость им следовать являлись регулятивным началом и воскрешающим эликсиром словесности. Именно отсутствием чуда, неспособностью его сотворить вызвана снедающая литературу тревога, та жалоба на заброшенность, чей давно уж оформившийся плачущий тембр слишком многим приелся, но в подлинности ему не откажешь.
Чудо возникает в момент, когда книга вторгается в сомнамбулизм поколения, бередя его грезы и мороки, когда сам этот текст, ниспосланный в облике глубоководно, на самом дне дремы мерцающего примера и поучения, становится промыслительным сном и его объяснением, так что ни один блеклый фантазм, ни один смазанный, поутру забываемый образ не отлучен от целительных толкований. Идеальные встречи двух снов – массового, хаотического, неосознанного и – светлого, вещего, направляющего, подобно чудовищным преступлениям, срока давности не имеют. Они никогда не кончаются, потому что находятся в сверхвременной зоне События, откуда, сквозь все потоки света и тьмы, излучают присутствие, разительно сходствуя с голограммою динозавра, застигнутой странниками в рассказе советского палеонтолога-мистика. В каком-то максимально широком значении сохраняется, конечно же, Все, и, согласно пророчеству ангела и современной оккультно окрашенной физики, перед концом света (времени больше не будет) Все, что когда-либо совершилось или потенциально могло состояться, вспыхнет в зеркале космической метаистории; контрдоводы, выставляемые против этого провидческого убеждения, не уступают ему в доказательности. Но особо отмеченные свидания книг и читателей скреплены иным, попрочнее, раствором и в самом буквальном, непародийном смысле нетленны. Вертер не осушил еще общей со своими сомучениками чаши, не отгремел его выстрел и не стерся вопрос, начертанный петропавловским и вилюйским сидельцем на очкастых, нещадно задумавшихся разночинцах – вечные, вечные образы кругового единства, судьбы и поруки.
О преступлении выше замечено с умыслом. Эти встречи порою несут гибель и яд. Тот же Вертер, дав знак, что в борьбе с унизительной жизнью помогает добровольная смерть, вытолкнул к ней легион европейских страдальцев, и, однако, им всем, безымянным или чуть задержавшимся в имени, вроде горемычного русского подростка Сушкова, вместе с отравой и револьвером было вручено утешение – осознанье себя поколением, первым потерянным поколением в европейской истории.
Поэтому надо сказать тверже, отчетливей: генерации созидаются книгами, клейким опытом совместного чтения. Его приворотным и сплачивающим испытанием, благодаря чему во чреве бессвязной, дезорганизованной арифметической массы зарождается племя сочувственников со своей верой, разувереньем, обрядом и обетованием быть узнанным в толпе одиноких – ты из наших, ободрись, печать принадлежности на твоем бледном челе и существованье твое не случайно.
Беззаветный роман, они оберегают друг друга – книга и поколение. Восприемники породившего их озарения (одного безумия люди) пестуют легендарность своего вызова в мир и ведут себя так, чтоб не распалось воспоминание об отеческом семени, материнской утробе и священнике у крестильной купели. Связанное памятью происхождения, запахом дома, где учитель, преломляя хлеб и разливая вино, наделял ими всех, кто сидел за столом, сообщество равных хранит память в сосуде своей коллективной души, и сколь бы наивными ни представали потом впечатления первоначала, их не забывает и от них не отказывается. Забвение – это пренебреженье уделом, оно выбрасывает в сиротство и бесприютность. Отказ означал бы, что молодость, а с нею и жизнь, выдалась зряшной, бесплодной. С этим согласиться нельзя, как не смирились строители днепрогэсов, магниток, прочих голодных вавилонских страшилищ, что все муки и отчужденья труда, весь оборвавший жилы надсад (но и радость была) нужно выбросить псу под хвост и, обнявшись со своим зачеркнутым прошлым, оплеванно околеть под сенью новых, в высшей степени человеколюбивых идей. Люди, как правило, поступают иначе, и каждое сформированное словесностью поколение свои книги, не отрекаясь, держит у сердца, в должный срок их вверяя потомству. Курт Кобейн, например, покуда его окончательно не всосала нирвана, на задворках заедал Сэлинджером пиво и виски, а он был не один, его подпирал гранжевый, на обдолбанных струнах, Сиэтл, вповалку, лет через тридцать переоткрывший ржаного ловца.
Бывает разная литературная слава, разный успех и различные типы стремлений к нему. Некоторые мечтают подчинить себе массу, бессословную демократию за вычетом, может быть, недоступной и потому презираемой касты интеллектуальных браминов. Притязанья других, или уж так оно выходит постфактум, ограничены меньшими числами, избирательным спросом – групповым, половым, политическим, умственно-цензовым. Третьи запазушно холят-лелеют постмодернистский ключ власти, а на том ключе две бороздки, для отпиранья элиты и тех, что попроще, поплоше. Если, по словам Валери, романтизм – это когда скверно пишут, то постмодернизм с его шизофренией двойного кодирования – это когда хотят нравиться всем и у каждого вынуть из кармана монету. Он по-настоящему эгалитарен, и вместо «Поэтики» Аристотеля, коей затерянная глава стала сюжетным подспорьем одного из знаменитейших посленовых романов, постмодернизм базируется на Всеобщей декларации прав потребителей.
Легко отзовутся другие, такие же малозначительные славы без чуда и подвига. Литературный успех по касательной задевает людей, литературное чудо производит их к жизни, и они вырастают, будто из засеявших почву драконьих зубов. Мещане говорят о Боге, верующие – с Богом, сказано Киркегором. Здесь, в фантазматической области слова, господствует та же непримиримость, несоизмеримость двух опытов. Собственник тонких, сравнительно скромных ресурсов, Джером Дэвид Сэлинджер вознесся до одного из последних в минувших декадах чудес, сделав реальностью братство скитальцев, орден взъерошенных отроков, мечтающих об охранном служении, о волшебном, во тьме дальнего поля, спасении слабых – из подобных им беспокойных защитников Провидением или облачным небом был когда-то составлен детский крестовый поход, пламенеющий цвет европейского подвига; они целыми певчими стаями умирали на рваных краях и на отмелях своей жертвы и дара, ужасаясь тому, что глаза не вобрали священного града, узурпатора их внутренних взоров. И потому сэлинджеровский уход столь неповторимо печален, хоть это не единственная в недавней словесности утрата такого калибра и рода. Из синхронных примеров назовем мексиканца Хуана Рульфо, предтечу латиноамериканских романических новшеств, на годы вперед освященных им в Иордане галлюцинозного натурализма – идущие за ним вошли в ту же реку. Затаился, примолк, укрытый почетом и сожалением, но все же не наблюдалось напряженного всматривания в замочную скважину этого континентального мифа, с течением лет ставшего справкой о первенстве, сухой патентной бумажкой. Многим впоследствии удавалось сочинять лучше Сэлинджера, и никто не превзошел его в демиургической миссии формовщика поколения. Была бездна волнений о беспризорной вакансии, был в 90-х мощный взлет Ирвина Уэлша, запечатлителя рейверских, до мистериального пафоса вздыбленных декадансов со сказовым монологом, отчетливо притязающим занять в своем времени место холден-колфилдской исповеди, и, однако, не вышло, недостало каких-то прикосновений, теплых дотрагиваний, одухотворяющей малости, словно звучания имени, которое, по мусульманским поверьям, надлежит прошептать на ушко младенцу, чтобы он чувствовал и дышал.
Путь Сэлинджера был им предуказан. Ретроанализ работы его, мышление задним умом от затворнического эндшпиля к гамбиту первых удач подтверждает, что обещаньям ухода были отданы почти все произведения автора. Молодой поэт («Сеймур. Знакомство») скверно создан для мира, и не в романтическом, испарившемся плане конфликта, но в куда менее разрешимом. Избраннику надлежит терпеливо выдерживать тяжесть своей гениальности, которая, будучи единственным его достоянием, выталкивает сперва из постылого круга забот, затем из призвания и спустя краткий срок – из жизни как таковой. Поэт наделен зрением, превосходящим верхний предел человеческих восприятий, их болевой максимум и порог; ради убережения этих проникающих состояний (он к ним приговорен) ему нужно совлечь с себя кожу, и когда обнажилось все тело, все мясо, зрение сфокусировалось чересчур резко и ясно, чтобы мозг справился с этой самоотдачей. Вундеркинд («Хэпворт, 16, 1924») и всевидящее дитя («Тедди») образуют тандем невинных чудовищ: заступившие за черту святости, они получили в награду прямой доступ к постижению сущего, и дар предсказания, взваленный на их малолетство судьбой, к ним стягивает безотлагательность смерти. Исчезновение, по собственной воле совершенный уход, таким образом, неизбежен – чем быстрей он произойдет, тем благотворней для человека и мира.
Насчитывается шесть толкований бегства Сэлинджера от людей – больше, нежели версий предательства Иуды в рассказе популярного автора и причин, заставивших похитителя-огненосца (еще одна притча) глубже и глубже вжиматься в скалу, превращаясь в горельеф нарастающего безразличия участников драмы: устали, забыв о гневе своем, олимпийские боги, сомкнулись Кавказские горы, сложил утомленные крылья орел. Каждая из интерпретаций отшельничества имеет основою подлинность факта и тщится выразить его спрятанный смысл, исходя из далеко не бесспорной посылки о том, что объяснение должно объяснять, а не усиливать, посредством своей зыбкости и произвола, непостижимость исходного шифра события.
Согласно версии первой, его внезапно настигла аграфия, в просторечии называемая творческим кризисом, он не мог больше работать над художественными вещами, и где другой, продолжая мелькать на подмостках, до скончания века б наладил конвейер газетно-журнальных колонок и проповедей, там он эту подлую участь отверг. По второму преданию, он опять-таки исписался, но измыслил ослепительный трюк, концептуальную, без преувеличения, акцию с бесшумным хлопаньем дверью и невидимым столпничеством: останься он в миру, на юру, к нему, молчащему, злополучному, обездоленному, непременно бы охладели, а хрестоматийная повесть горела б укором. Ныне он чист, как представший в загробном суде персонаж египетской Книги мертвых, безгрешность которого, следующая из его оправдательной речи и подтвержденная сорока двумя божествами, отождествляется с чистотою великого феникса в Гераклеополе. Дополнительную смысловую насыщенность придает жесту воспринятый в частном порядке, но близко к сердцу велемудрый завет выгнать поэтов из города (кажется, им разрешали взять с собою венок и налобную, дабы не отсохли мозги, шерстяную повязку), а также следование Джойсовой, эпиграфически предварившей «Портрет» заповеди изгнания, молчания и мастерства. Два первых пункта триады соблюдены Джеромом Дэвидом строго, об исполнении ж заключительного можно только гадать, ибо доказательства его письменной деятельности, если таковые наличествуют, огласке не подлежат. Впрочем, он, вероятно, разумеет иное, более зрелое мастерство. Третий апокриф извещает о метафизическом недовольстве действительностью, якобы Сэлинджеру претило участвовать в круговороте потакающих миропорядку слуг и господ (см. гегелевскую «Феноменологию духа»), и он попытался изъять из их обращения свое слово и тело. Истоком нью-хэмпширской пустыни, настаивает четвертая версия, должно считать исповедуемый им дзен-буддизм, культивирующий зоны немотных сосредоточений, уединенного или послушнического, под надзором наставника, овладения психической самостью, а также отказа от своего прежнего, известного имени, так что разорвавший с прошлым художник выступает эпонимом собственной беспрозванности. Пятая интерпретация такова: он оказался заложником искушения, знакомого каждому, кто долго ли, коротко изводил литературой бумагу, искуса древнего и неистребимого, погруженного в подлинность переживаний, открывающих в речи ее самое глубокое, сверхценное содержание – молчание, неизреченность, блаженство освобождения от графической и звучащей материи, от вещественных средств языка. Утопия искоренения материально закрепляемых знаков, чтобы добиться абсолютного, не зависящего от зрительных и слуховых условностей, смысла, чтобы проникнуть туда, где в полной тиши и невидимости отсутствует место для лжи и где удостаиваются полноты религиозного обретения. Обретения того, о чем нельзя говорить, что неподвластно никакому высказыванию. Вошедший сюда расстается навеки с письменным поприщем и не чувствует тяжести отречения, ибо взамен награждаем той цельностью, которая, аннигилируя былые желания, проступает на чистом листе – но не нужен и лист – иконописными образами всех беглецов своего слова. Шестая версия, будучи агностической пропедевтикой к бесплодности любых толкований, отрицает пять предыдущих и подводит итоги дискуссии. Уход (в этом отношении он близок к самоубийству) вообще рационально необъясним, он случается, потому что случается, у него нет ни осознанно выщепляемых причинных корней, ни следственных всходов, но одна неразложимо-тотальная, коль скоро исчезновение совершилось, правда его неизбежности. Уходящий и сам хочет понять, отчего он отважился на отчаянный шаг, решение о котором принималось будто в амнезии, в глухом забытьи, вне разума, вне инстанций контроля. И ему не дождаться ответа, лишь догадка мелькнет, что всем заведовала темная безвариантность, продиктовавшая телу покинуть свое обиталище или в нем навсегда затвориться. Второй том «Мертвых душ» был сожжен, ибо так было нужно, гибельным и торжественным голосом сообщал в «Авторской исповеди» Николай Васильевич Гоголь.








