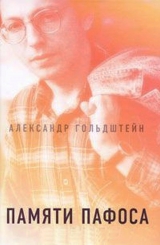
Текст книги "Памяти пафоса: Статьи, эссе, беседы"
Автор книги: Александр Гольдштейн
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 40 страниц)
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЯЗЫК БЕССМЕРТИЯ
Журнальную русскую версию прошляпил и читаю роман спустя пару лет в только что вышедшей мягкой серийной книжице – заживляю пробел, как открытую ранку: «Бессмертие» Кундеры. Великолепная чистота типажа, почти забытое в непогрешимой своей первозданности воплощение Термидора. Феномены этого рода объективно растут из гниения и подавленности, питаясь упадком мировой революционной воли искусства, червями с расстрелянных броненосцев. Но что это была за эпоха и какой о ту давнюю пору стоял всепоглощающий стиль, эким простором веяло от расправленных крыльев, если нескольких перышек из хвоста традиции, считанных и условных прикосновений к ней через искажающее посредство новейших тактильных учений оказалось достаточно, чтобы собрать почти всю сухопутную жатву и вальяжным линкором войти в лауреатские воды, и вот уже любящий родитель из Гамбурга эпистолярно умоляет дорогую редакцию выдать совет своему сыну-подростку, твердо решившему, когда повзрослеет, стать новым Миланом Кундерой.
Главный упрек завистников свелся к тому, что автор с онемеченным прилежанием бюргера отжал и разлил по емкостям западнославянскую тоску прибитого Варшавским пактом отечества, подмешал к напитку пепла Яна Гуса, сверху слегка подпалил Яном Палахом и, снабдив пуншевый эликсир элегическим скепсисом – голая заплачка, без иронии над собой и согражданами, навряд ли была бы товарной, – вовремя выехал торговать сантиментами туда, где наблюдался хорошо бутылированный спрос. Очень сорокинская, из «Сердец четырех», ситуация, в коей прозе труппа литературных уродов, влекомая жаждой обрядового самоубийства в подземельях сибирского города, для успеха предприятия обзаводится переносным Граалем – преобразованным в жидкость и сбереженным в особой канистре волшебным трупом сверхсимволической матери, что знаменует целокупность национального мифа, предания, психеи и бесхребетного тела (русские как вода, сказал создатель психоанализа, они принимают очертания любого сосуда, а другой поэт вторил дневниковым прозрением русскости как желтой печальной реки в берегах, поросших невысокой примятой травой). Кундера, понятное дело, конъюнктурой воспользовался (в «Невыносимой легкости бытия» прежде всего), но ведь такие негоции скоротечней земных сроков колибри. Эволюция потребительских циклов безжалостна, а после сувенирной распродажи Берлинской стены и повсеместного, от Атлантики до Урала и дальше, возмездия справедливости 1968-я поминальная серия пражских несчастий гляделась бы полоумной риторикой и антикоммерческим нонсенсом. Случай Кундеры глубже, труднее. Это интереснейший случай соответствия духу эпохи, мнимого наследия, тончайше восхищенной власти и волевого преодоления сиротской безнадежности, на которую обречен политически стертый сиделец провинциальной подмышки. Отрезанный местом рождения, недостатком свободы и экзотической речью от международного повествовательного языка, без единого внятного шанса распластаться в жадно чаемом лоне всемирности, а значит, и в славе этой, по-кундеровски, большой зоне бессмертия, автор, непостижимо подпрыгнув наперекор упомянутой гравитации, выказал себя чародеем усвоения всеевропейских схем мастерства – в том скукоженном виде, в каком они сохранились доныне. Он стал их признанным триумфатором. Именно в этом красота его ужасного подвига и безупречность примера, столь идеально совпавшего со временем, что прополз даже слух о, казалось бы, невозможном сегодня новаторстве.
В первые десятилетия века в землях немецкого языка появился так называемый интеллектуальный, или философский, роман – форма, отдаленно и косвенно напророченная синкретической прозою Просвещения и чуть ближе лежащая к рассудочному визионерству романтиков (Кундера связывает себя с этой традицией, выделяя в ней обожаемого им Роберта Музиля). Сначала нестрогим термином «интеллектуальный роман», возникшим в связи со шпенглеровским «Закатом западного мира», именовали небеллетристические виды высказывания, однако затем пригляделись и к синхронным этой рапсодической эссеистике фабульным способам изъявления, посчитав, что они тоже достойны такого почетного титула. В границах этого жанра, экспансии которого подчинялись все новые территории мысли, были открыты, нередко с опережением академических умозрений, методы литературного прояснения фатальной неравновесности сущего и распахнуты сферы, дотоле сюжетному слову почти вовсе неведомые. Фельетонная эпоха, Нерациоидное, Мифологический абрис полдневно-полуночных странствий, смутные объекты желаний Толпы, последний праздник Империи, освященный кровосмесительной радостью Острова, сгорающая клаустрофобная нескончаемость Библиотечного парадиза, священное постоянство Курортного грота, в котором простак-испытуемый, перестав любопытствовать к хронологии внеположного санаторию мира, раскрывается душевным Тангейзером, новая версия диалога цезаря и поэта, спорящих о первоначалах Слова и Государства, огражденная обитель бескорыстного Эстетического Созерцания в ее отношениях с окружающей (псевдо)реальностью Этики и Поступка – эти эмблемы оттуда, из философской словесности первой части столетия, из ее горнего геральдического вернисажа, а верней, пантеона, где упокоились смыслы.
Философский роман был элитарным искусством. Культура модерна отличалась патрицианской надменностью, свято блюла иерархию и еще не догадывалась, что оппозиция высокого низкому – вздор. Невдомек ей осталось и то, что искусству надлежит воспитать в себе двойную мораль, т. е. умение подмахнуть в двух местах сразу, единомоментно отдаваясь партеру с галеркой. Основание для аристократической спеси тогдашней литературы избранных (for the happy few) было невымышленным. Подлинным базисом сознания избранности служило неопровержимое присутствие на Европейском континенте Истории, которая, воплощаясь в исполненных значения трагедийных событиях, и созидала всеобщую иерархичность, ибо трагедия немыслима без полагания иерархического устройства мира и высказываний о мире, она недействительна без отделения зерен от плевел, протагонистов от хора, пусть даже им уготованы общие судьбы.
Но сегодня, пишет Кундера вослед многим, пришедшим раньше него, «мировая история с ее революциями, утопиями, надеждой и отчаянием покинула Европу, оставив по себе одну грусть». События исчезают, падают разделительные перегородки, для иерархий нет уже ни пространства, ни участи, воцаряется очередное смесительное упрощение. На место философского романа модерна приходит европейский бестселлер постмодернизма как детище развитой демократии с ее всеуравнивающей коммуникативной политикой и бездонной компьютерной сказкой-нирваной. Ликвидировав фундаментальное противоречие меж высоким и низким, посленовый бестселлер лезет из кожи, чтобы понравиться всем и навек прописаться в тенистых угодьях, возле тихого звона и сладчайшего шелеста. Объясняется это не только простецким финансовым предвкушением (писатель и человек не стали корыстолюбивей), но в первую очередь принципиально иной общекультурной и эстетической установкой, согласно которой деньги, слава, успех – важнейшие компоненты поэтики произведения и свидетельство онтологической состоятельности артиста, волюнтаристски повелевающего не только словами, но и социальными механизмами. Роман, не получивший рекламного, коммерческого резонанса, плох, маломощен именно как феномен искусства, ибо не смог вступить в собеседование с важнейшими знаковыми инстанциями общества и подчинить их своей суггестивности, сделав из жалкой, одинокой писательской речи апостольское воззвание к супермаркету. Если на то пошло, тут явное возрождение древней веры в магическую потенцию поэта, и парение в телеэфире, выстраданное словесными пассами, – уж точно не меньшее достижение, нежели сомнительное амикошонство с пифией или трехгрошовые ярмарочные фокусы телекинеза. К тому же коль скоро современная культура считает культуру как таковую завершенной (позиция, предполагающая невероятное самоуважение) и будущность ее, равно как и собственное бытие, мыслит лишь в качестве великой игры с накопленным и узнаваемым материалом, то отчего ж не сыграть, например, в «коммерцию и словесность», сделав больную тему объектом все тех же нивелирующих манипуляций.
Формально постмодерный бестселлер по-детски выпрастывается из материнской сумки модерна, о чем говорит хотя бы название с базовым корнем после префикса «пост». По сути же это совершенно другой творческий тип. Устранена маниакальность предтечи, заметно облегчено толкование спорных вопросов, уничтожено разделение глубины и поверхности, вследствие чего поиски первообразов бытия и сознания, отличавшие модернизм, встречаются с охлажденной ухмылкой, как архаичная непристойность. И самое главное: модерн не был либеральным искусством, постмодернизм же либерален всецело и готов спалить все под ноль в борьбе за улыбчивую терпимость и гуманизм с человеческим лицом. Одним из результатов этой борьбы явилась выработка международного языка повествовательных форм, наделенного статусом сугубой облигаторности. Отныне каждый, кто хочет себя проявить на ниве продвинутой интеллектуальной словесности, должен применяться к бестселлерному евроканону – иначе общение не состоится. Сфера изобразительных искусств подчинена тем же волчьим законам. Недавно поговорив с человеком, чье имя синоним и символ русского визуального творчества последних десятилетий и ошеломляющего мирового признания, я услышал, что неспособный к этой учебе не просто отлучается от пирога и почета, но несет в себе метафизическую скверну, его сторонятся, как Средневековье – своих прокаженных и Ренессанс – душевнобольных. В разговоре художник называл эту ситуацию единственно возможной, а потому справедливой, сумрачно радуясь безысходности и своему праздничному положению в ней.
Вообразим, что чувствовал Кундера в чистилище межеумочности: местная слава достигнута, мировой не видать, и он попусту жаждет бессмертия, сознавая свои великие силы, готовность научиться всему, что потребует от него дух современности… Оккупация стала робким началом освобождения, эротическим хеппенингом, намекнувшим на чудесную перспективу. Прага сосредоточила на себе взоры планеты, чешское унижение стало ходким, торговым, но бензобаки вражеских танков не были заправлены обетованием грандиозного, не зависящего от инородных инвазий успеха, о котором мечталось Милану Кундере, ибо дело могло быть решено – он это знал – лишь собственным, персональным вторжением в международный литературный язык европейских столиц. А он жил вдали, в мелкой запазухе, и вместо универсального языка западной счастливой наррации вынужденно листал и пролистывал заштатную, отторгнутую от мирового канона чешскую речь, никчемную, никому не понятную, не перешибленную даже первыми французскими переводами. Этот ужас остался с ним до сих пор, только теперь он не стесняется о нем говорить, как больной, победивший болезнь. В романе есть острая сценка: молодая чешка, проучившись два года в Париже у великого Жака Лакана, возвращается домой, находит свой маленький город захваченным русской армией и устраивает для молодых женщин полуконспиративный семинар психоанализа, где эти томящиеся особы раздеваются догола и слушают, не понимая ни слова, мудреные лекции о стадии зеркала. Нарциссический парижский жаргон не ложится в чешскую речь, языки драматически рассогласованы, и даже если бы Кундера все с себя снял, его бы заметила и оценила только советская комендатура.
Он не стал раздеваться. Эмигрировал, долго держал стиль над огнем и наконец вошел в тело европейской литературной всеобщности, оказавшееся в тот момент, когда он набрал полную силу, на удивление мягким, податливым, маслянистым. Не знаю, как ему удалось освоить кафолический, соборный язык совершеннее тех, кому эта речь была заповедана по праву рождения в ней; пусть это останется тайною Кундеры – впрочем, и он не сумел бы ответить. Не исключено, что, подобно Августиновой благодати, это умение даруется не душевною добродетелью и праведной жизнью (что было бы возмутительным, давно осужденным пеллагианством), но только верой, сумасшедшей верой в успех, однако сама вера есть следствие непостижимых даров предопределения, о чем говорить невозможно. Одержимый желанием быть универсальным европейским писателем, мембраной и эоловой арфою международного языка, он выразил душу этой коммуникации и даже избавился от преувеличенной точности произношения, свойственной иностранцам. Так крещеный еврей Роман из Берита-Бейрута вошел в церковное сердце Восточного Рима и стал знаменитейшим тамошним Сладкопевцем.
Короче, Кундера поступил в высшей степени грамотно – написал несколько постмодерных евроинтеллектуальных бестселлеров. Чудно облегченных по сравнению с источниками его вдохновений. Кинематографичных в доказательство его власти над Голливудом, а большей власти не бывает на свете. Ироничных, надменных, глубоко человечных. Комфортабельных, буржуазных, чувствительных, чтобы читатель перед сном тоже слегка умилился и вновь осознал, что хоть История ушла с континента, но личные драмы остались, и они указуют на некое общее вялое неблагополучие – о, эта медлительность и усталость, эта смерть и тщета всех усилий. В меру ученых, чтобы все тот же читатель не сразу уснул. Европейских донельзя, до окраинной Тулы, до назойливого упоминания хрестоматийных имен, до избывания всех насекомых следов чешского провинциализма, до нежелания после конца света погостить в родной Праге и перехода на французский язык в последнем своем сочинении.
Он отыгрывает все клише либерального разума и при том полагает, должно быть, что пишет в лучших традициях философский роман, клянется именем Музиля и превентивно, дабы выбить оружие у завистников, насмешничает над своей страстью: «Нет романиста, который был бы мне дороже Роберта Музиля. Он умер однажды утром, когда поднимал гантели. Я и сам теперь, поднимая их, с тревогой слежу за биением сердца и страшусь смерти, поскольку умереть с гантелями в руках, как умер боготворимый мною писатель, было бы эпигонством столь невероятным, столь неистовым, столь фанатичным, что вмиг обеспечило бы мне смешное бессмертие». Но грех эпигонства автору не грозит. Настоящий эпигон Музиля работал бы с безоглядностью своего кумира, не присматриваясь к интеллигентной толпе, уповая на самоценные качества слова и мысли. Просто ему, по определению, не хватило бы ни ума, ни таланта остаться собой. Кундере хватило всего для победы и гордого самостояния. Образцовый западный постмодернист, писатель умеренного, буржуазного международного постязыка, он заслужил свою славу, большую и малую конъюнктуру бессмертия.
И фотография превосходна – старый литературный волк, всепонимающий труженик-изможденец с сигарой.
12. 06. 97
ХРОНИКА НАЧАЛА ЛЕТА
Дмитрий Галковский завершил «Бесконечный тупик» девять лет назад. Недолгий срок гигантская рукопись растекалась отравой по журнальным и иным альманашным листам, добравшись в итоге до узкоспециальной окраины, где, казалось, навеки избыла свое печатное счастье. Отрывочная неполнота подачи не позволяла судить ни о цельном расчете тотального (что даже в осколках открылось) труда, ни об исходном намерении сочинителя – тоже почему-то нелицезримого и словно схоронившегося в разных местах по частям, как Осирис. Скандальная невидимость творца скандальных эксцерптов быстро обрела чистоту анекдота, и светские обозреватели славы ввели в обращение версию об экстремисте-Пруткове, на пари сотворенном в пробирочном чреве веселой газеты.
От «Бесконечного тупика» исходила волна возбуждающей дрожи, а целиком прочитать его было негде. Складывалась археологическая ситуация случайных откапываний на фоне глухой недостачи; так глиняное клинописное миростроение, обнимавшее все, до чего можно было дотронуться рукою, рассудком или обрядом, извлекается отдельными загогулинами торговых ущербов и репарационных возмездий – с бесследной потерей целокупного образа. Изрядно постфактум Галковский поведал, что мерцающий облик произведения и создателя был следствием вовсе не авторской хитрости, но вражьего, с продуманным издевательством, кругового обклада, как травят волков и чудовищ. Надергав смеха ради фрагментов и категорически воспрепятствовав публикации полного текста, редакторы хором выплеснули на писателя помойное ведро обвинений в хамстве, мегаломании и мракобесии, после чего запихнули его с завязанными глазами в Лабиринт и обрекли участи громко, по-русски рыдающего Минотавра. Грех лицемерия Галковскому как будто неведом, но плач его был литературного свойства – ведь и Ярославна для того лишь стенала в Путивле, чтобы слезой оросить ландшафт сострадания и условною песенной жалостью выгородить эпическую бездарность супруга. На деле загнанность «Тупика» оборачивалась рекламой и благом, она волоком, как баржу, затаскивала эту прорву страниц в атмосферу суждений о чуть ли не главном умственном подвиге демисезонной эпохи и философическом оправданье безвременья, и автору, подозреваю, понадобилась не одна бессонная ночь, дабы решить, стоит ли превращать Текст в книгу средь прочих, тем самым его навсегда отлучив от мифа, легенды и воскресения во плоти.
Лично Галковский прорезался раньше аутентичной громады своего сочинения и в серии интервью обнародовал повесть о бездне испытанных им в советском быту надругательств. Рожденный вундеркиндом, он в пролетарской школе на задворках Москвы годами был вынужден ползать под партами, где его пинали носками ботинок, отбив экзистенциальному уроду все внутренности. Потом увечного на голову выдавили с троечным аттестатом в объятия производства, откуда он спустя несколько лет дезертировал, обнаружившись в университете и полагая наивно, что на философском отделении его никчемная жизнь «обретет достоинство, стиль». Разумеется, то было иллюзией, ибо на первой же лекции и до скончанья учебы кафедрой овладел заводской бригадир, который был почти трезв, беспричинно улыбчив и зачем-то изъяснялся без мата. Опознав замыкание круга и неизбывность кошмара, Галковский выпал в пещерное сочинительство, по завершении коего нашел себя в усугубленном ничтожестве и пребывает в нем до сих пор, без проблеска и намека на восстановленье судьбы.
Фактическая достоверность истории возражений не вызывает, но осмелюсь усомниться в сущностном содержании этого завинченного до срыва резьбы рассказа об аутсайдерском ужасе, на биографической подлинности которого Галковский настаивает в любом своем слове. Каким бы раздавленным тараканом и жареным карасем ни провозглашал себя автор, сколько бы ни кричал он о тождестве с ублюдочным отщепенством своего персонажного alter ego, больше того – каким бы он ни был взаправдашним козлом-неудачником, нельзя забывать, что позиция унижения есть поза донельзя литературная, каноническая и даже уютная, многократно отыгранная легионом писчебумажных страдальцев. В данном изводе некоторое обаяние ей придают два не вполне стертых качества: маниакальный напор, с которым Галковский выхаркивает поражение, и та надрывно-извилистая капризность и взбалмошность, что роднит его с примадонною из барака.
Со стороны же психологической вот что отметим. Писатель нескольких тысяч полновесных страниц, каков Дмитрий Галковский, вправе себя называть абсолютным дерьмом (гвоздя забить не умеет, денег сроду в руках не держал), но такое восточное простирание ниц, персидская эдакая проскинеза пред падишахом несправедливого рока – дается не просто. Бог с ним, с самолюбием – тело противится. Чтоб разродиться горою словесности, нужно обладать монструозной витальною силой, непрошибаемым упорством вола и тем сосредоточеньем амбиций, что бытовым счастливцам не снилось. Иначе не происходит, тут кромешная правда творящего организма, которая проникает в сознание, наделяя работника ощущением принадлежности к господской повелевающей магии, к действенному высокомерию. Хозяин слов, учредитель языка («логотет», как сказал бы Платон) – он плантатор-надсмотрщик и над вещами, и стоит осознать это, как гвозди сами вопьются в стену и сверху прольется денежный дождь. Человеку с такой психикой и физиологией трудно всерьез почувствовать себя неудачником, как бы его ни пинали под партой. Фотографируясь возле своей пирамиды, Хеопс, скорей всего, скажет, что жизнь не удалась, но мы ему выразим несогласие, ибо бессмертная его танатальность, унавоженная египетской тьмою стройбата, – доказательство успешной карьеры. Автор «Тупика» лукавство свое проницает насквозь и, не ограничившись воплем о поражении, разнообразит философскую публицистику не менее громким комплексом власти и гениальности. Говорю я это к тому, что отреченная книга – вышла. В полном объеме, 500 нумерованных экземпляров, с нарочитым значком Самиздата, будто каторжной лилией на плече, коей снова пристало гордиться. Легенда стала событием, тайное – явным. И теперь ночному Галковскому нет пощады от света.
Книга посвящена Отцу, чей образ троится, но не выходит из грусти, мизера и безнадеги. Родитель биологический пил горькую, растратил талант и последние годы провел бессловесно, в мычании, только по-прежнему клянчил и побирался. Отец наш небесный тоже небезупречен, часто бывает не в форме, и хоть Галковский (вернее, его нарративный двойник, Одиноков) склонен в душе величать себя Сыном, т. е. Спасителем – тем единственным спасителем, которого заслужили российский раздрай и раздерг, – их дуэт действует на редкость нескладно, заставляя разувериться как в силе Отца, так и в жертвенных притязаниях Сына. Сиротство, отчаяние, но есть еще третий, самый родной и горчайший отец-избавитель, под чьею шинелью наставника провинциальных гимназий автор мечтал бы тихонько уснуть и проснуться, навсегда позабывши о розге, прыщах и потных ладонях. Это Розанов, мифологический человек, добившийся максимального осуществления русской личности и русского философского опыта, ибо, в отличие от национальной таблицы умножения, национальная философия – есть. Розанов – в одном лице Арахна и муха, он сплел паутину русского логоса и сознательно в ней телесно запутался, растворился, мечтая вобрать в себя всю безвыходность этнической жажды, прожить ее изнутри, стать этой жаждой и над ней зарыдать, засмеяться. «Мы, как сказал сам Розанов, не можем вырваться из-под власти национального рока. Национальность – это и есть „бесконечный тупик“. Мучительность Розанова в его абсолютной национальности, а следовательно – в безмерности».
Задача Галковского-Одинокова в том, чтобы совершенно сродниться с третьим отцом, со всеми изворотами отцовского чувства. Войти в крайнее измерение его страха, его пришепетывающего восторга. И, вылизав языком всю клейкость национальной субстанции, до последнего костного мозга учителя высосав, вслед за ним проползти путь русской мысли в ее погубляющей сваре с началом чужим, отвратительным, но, в сущности, не менее русского больным и бездарным – еврейским. Они обручены и повязаны фатумом, как два садомазохистских любовника. Изойдут нечистотами и задушат друг друга в финале love story. Отец и учитель провидел. Ученик подхватил, заслужив репутацию антисемита и русофоба. Насколько оправданную? Банальный вопрос, но ответим. Во-первых, исступленная розановщина алчет расовой оголтелости, во-вторых, отчего б не помыслить глубоко личную, запазушную одержимость, в-третьих, не исключено жанровое персонажное эпатирование, в-четвертых, умозрение русское, должно быть, и вправду отогревается близ юдофобских костров, и уж точно никто не поверит, что способно оно обойтись без истерики самобичеваний, подтверждая нелиберальную точность свидетельства об унтер-офицерской вдове.
Жидоморскую экзальтацию автора оставим в покое – скучная тема, но (анти)русский надрыв его достоин короткого комментария. Русская мысль безопорна, пустотна, она сплошь состоит из зияний, это в ней главное помешательство. Пытаешься нащупать ногой твердь, хоть какой-нибудь тезис, и немедленно падаешь в дырку: всюду обман и отверстие. Даже язык русский гнилостен, его паруса полны мерзкого ветра, слова покрываются струпьями, этот язык бубнит, заговаривается и немотствует, как первый галковский отец. Натуральные обстоятельства такое непотребство воздвигнуть не могут, налицо чей-то замысел, попытка выжечь национальную землю, отравить все колодцы. Евреи – проводники этой воли, но не ее господа; все решает безличная Провокация, управляющая русской мыслью, историей, языком. А поскольку бороться с нею бессмысленно, ибо из вещества провокации вылеплен весь родительский космос, вызревает потребность спалить его дотла, до последней звезды и туманности. Препарируя национальную письменность, Галковский желает ей смерти. Он дискредитирует все типы русского высказывания. «Бесконечный тупик» претендует на то, чтобы закрыть русский текст как таковой, вместе с его толкованиями. Несбыточный, финалистский замысел, после него трава не должна расти, и остается лишь жалость к себе, затерянному в этих страницах, лишь одиночество, Одиноков.
Сумасшедшая книга, одна из значительнейших в десятилетии. Держаться за розановские фалды – что может быть архаичней! Но – получилось, слово сочится ненавистью и обидой, масса неутоляемой аналитической тонкости и барочного червоточия, изящных в чавкающем своем людоедстве патологий души. Только вот бесконечность потеряна, ее выгрыз тупик; фрагменты горели жарче цельного текста, публикация съела миф. Но бесконечности ни у кого нет сегодня. Она была у Сергея Курехина, с его смертью русская культура лишилась прорыва, утратила тяготение к запредельному.
* * *
Так оно было, наверное. Центр конспираторов, подземный, с порученцами в мышиных мундирах, или какой-нибудь гималайский астральный ашрам, где, сбившись в кружок, бормочут махатмы; и решено уничтожить художника – как в хасидской притче Зло отворачивает захворавшего мальчика от постоялого двора и лекарства, дабы он скончался в дороге и не смог стать мессией. Для чего им понадобилось покушение, замаскированное под внезапную опухоль сердца, в чем провинился баловень множества дарований, музыкант, председатель, поп-механических оргий? А пусть бы лишнего не болтал, не выбалтывал тайны.
Слышны отзвуки великой битвы Богов и Титанов, говорил он незадолго до болезни, должна возникнуть другая цивилизация, на принципиально иных основах, нежели та, что существовала всё последнее время. Старые культурные кумиры падут; их не просто убьют или вычеркнут, но более не увидят в них надобности; а новых идолов, вероятно, не будет, потому что и время изменится, потечет в другом ритме. «Именно поэтому я говорю, что я сторонник новых Богов. То есть даже не Богов, а Титанов», которые «поднялись на борьбу с Богами». Ведь до сих пор «нами правили Боги, разные Боги». Эта цивилизация, конечно, возникнет; в отличие от либералов, те немногие люди, к числу которых принадлежал Курехин, чувствуют переборы тьмы и внезапные дуновения воздуха, разгоняемого невидимыми крыльями. А пока что, продолжал он, в космосе рождается Существо, и оно тоже явит свой лик, и привычной констелляции ценностей не будет от него ни жалости, ни избавления. Сначала мне померещилось, что это метафоризация типично вагнерианского круга идей о возникновении обновленного человечества, расы артистов, а сам Курехин – синтетический волхв, мистагог и хореавтор фантазий, о котором пророчили в Байрейте или в Дорнахе, но потом в этих предсмертных высказываниях открылась гораздо более глубокая, гностическая перспектива. Речь идет о смене циклов, эонов, о неизбежном пришествии того, чего никаким словом не выразить. И открывается самый жгучий курехинский враг – материя.
Художники различаются в том числе тем, за и против каких идеалов они выступают. Одни ищут общественной справедливости, им, к примеру, нужна не Европа банкиров, а Европа трудящихся. Другие стараются не допустить поворота северных рек, мечтают заштопать девственность Озера и Деревни, бредят природной и национальною чистотой, а врага распознают в загрязнении. Третьим мила дева Корректность, они защищают от большинства самостояние третьемирных меньшинств и ждут, когда те до отказа заполнят стогны прощального Рима, облевав его разум, богатства и душу. Четвертые думают лишь о том, как уберечь творчество от моды, толпы и торгашества. Пятые отдали честь за билет в Мекку коммерции и умирают, если им достается не партер, а галерка. Шестые, девятые, двадцать третьи… Но мало кто ополчается против материи как таковой, в чем и была последняя миссия Сергея Курехина, встреченная ненавистью лицемерной элиты. Современное искусство, говорил он, пребывает в маразме; сочетая невменяемость с корыстным расчетом, искусство (этим оно напоминает политику, отказавшуюся от метафизического измерения) отвергло одушевлявшую его некогда идею невозможного и определило свою гибель. Невозможное существует, потому что мы его ищем и ждем. Только с помощью невозможного претворяют тварность в ангелическую светоносность, одолевают косное вещество, возносятся над гравитационной рептильностью – свершают гностическое чудо освобождения от материи, освобождения искусства. Само по себе искусство малозначительно, оно будет смыслом и властью в том случае, если станет ветвью универсальной культуры, включающей в себя и политику как метафизическую стратегию избывания тяжести мира и восстановления традиционных вертикальных начал общества, начал не материальных – духовных. Парижская коммуна оказалась говном, но Рембо правильно сделал, что ее поддержал, было недавно написано. Партия Лимонова – Дугина аналогичного качества, и Курехин тоже вступил в нее правильно, не испугавшись назваться фашистом. Демократический идеал, может быть, дивно хорош, но он так же подходит для прорыва на ту сторону, как пластилиновый топор для колки дров. Экстремистская же политика, эта крайняя форма искусства, смотрит за горизонт, совпадая с взглядом художника: артисты не сходствуют прежде всего в степени своей готовности принять невозможное (предельные следствия радикализма), в своем отношении к падшей материи, ожидающей превращения в свет. Проще простого назвать это утопией, но чем утопичней (на обывательский взгляд) мыслит художник, тем реальней бывают его жизнь, смерть и работа. Курехин сперва якобы развлекал, а в последние годы его стали бояться. Меж тем он всегда хотел бесконечного, и с его смертью бесконечность из русской культуры ушла.
* * *
Через зеркальную стену итальянского ресторана увидел японца неопределенного возраста и долго смотрел, как он ест суп. Медленно, ложку за ложкой, не изменяя лица, ни на йоту не отклоняясь от курса, подсыпая в тарелку тертого сыра. Он, конечно, заметил меня; когда за кем-нибудь внимательно наблюдают с близкого расстояния, наблюдаемый обязательно почувствует взгляд и развернется в его направлении. Но японец не смотрел в мою сторону и продолжал аккуратно есть суп. Захотелось взять его измором, я решил выстоять, прижавшись к стеклу, сколько понадобится, минут 8 или 12, лишь бы он наконец оторвался от пищи и хоть как-то себя проявил, желательно раздражением, досадой, негодованием на необъяснимое хамство. Время от времени я принимался шептать его незнакомое имя, побуждая едока обернуться, а он все складывал губы трубочкой и в той же позиции тела подносил к губам ложку. И если сначала она всякий раз была заполнена супом, то вскоре, как мне удалось разглядеть, он уже орудовал ложкой пустой: значит, все понял и не хотел уступить, откликнуться, снизойти к чужой глупости, а только безмолвно корил своей холодностью и испытывал за меня чувство стыда. Тогда, оторвавшись от ресторанной витрины, я с огромным трудом и риском окровавить руки колючками выдернул из асфальта чудный, малиновый, в полном цвету репей того сорта, который у нас называется «татарином», и подумал, что настоящая литература должна быть такой, как японец. Аккуратный. Непреклонный. Стыдящийся чужого и собственного несовершенства. Неокликаемый. Умеющий поднести пустую ложку как полную. Не вполне человеческий, потому что человек обернулся бы непременно.








