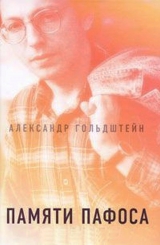
Текст книги "Памяти пафоса: Статьи, эссе, беседы"
Автор книги: Александр Гольдштейн
сообщить о нарушении
Текущая страница: 30 (всего у книги 40 страниц)
Юрий ТЫНЯНОВ
«Смерть Вазир-Мухгара»
Предварить роман прологом, от которого по коже озноб, было не меньшим безумием, чем, к примеру, открыть его «Книгой Иова». Ясно, что после таких восхождений наверху не удерживаются, и читателю будет предложено грустное зрелище автора, скатывающегося по обледенелым ступенчатым склонам. Тынянов удерживается наверху на протяжении долгих сотен страниц лиро-эпической прозы, язвящей, трогательной и летейской, как у имперского поэта и ритора, одинаково ждущего славы, изгнания и отворенных жил. Незабываема интонация коротких афористических строк (в сущности, весь роман – это стихотворение). Врезаются сцены и ситуации: московская морозная гульба, персидская терпеливая требовательность, евнухи, офицеры, актерки, измены, загнанность, окружение, ярость, погром. Напитанные ядом и жалостью характеристики (о трех возрастах любви и другие) должны быть занесены на скрижали. Историческое мышление не принесло Тынянову ничего, кроме горя. Хорошо сознавая, что такое история, он ее ненавидел, пытаясь загородиться наукой, поэзией, дружбой, семьей, и все эти сферы его измучили, обманули, и оратор сказал на поминках, что Юрий донес свою ношу. Он понял раньше других, что его поколение будет историей сметено, и написал об этом роман. Он понял раньше других, что под внешним давлением оно будет изглодано предательством изнутри, и эту правду выразил тоже.
Варлам ШАЛАМОВ
«Колымские рассказы»
В лагерном опыте отсутствует смысл, ибо тот на корню умерщвлен мерзлотой. Обладающий лагерным опытом не обладает ничем, он выброшен из биографии и должен довольствоваться тупым разуменьем судьбы. Но если это действительно так, то возникает вопрос, наделена ли хотя бы крупицей значения фиксация этой бессмыслицы и с какой стати лишившийся биографии человек, от которого не укрылось, что занятие его бесполезно, продолжает водить пером по бумаге. Рационального ответа на этот вопрос нет, метод Шаламова, обретающий себя в безостановочном вытеснении монохромного материала, отчасти родствен Тертуллианову измерению веры, он «абсурден» и, в противовес другим, мнимо асемантическим способам самоосуществления, не ведет к окольному появлению литературного содержания. «Колымские рассказы» – не литература (а Шаламов не автор); это спокойная, нимало не истеричная констатация невозможности литературы после того, с чем пришлось повстречаться обширному слою людей, удостоверение ее неприспособленности к описанию этой встречи. Отзвук смысла здесь приходит с другой стороны, не из литературы, а из пишущего человека, чей неизвестно кем установленный долг заключается в том, чтобы самим невостребованным актом письма дать пример – чего именно? Нельзя ответить и на этот вопрос, но уместно предположить, что пример как таковой, вне зависимости от его смутного содержания, имеет самостоятельное и, бесспорно, ненужное этическое назначение. Экзистенциализм, во всем XX столетии с такой кристальной чистотою достигнутый только Шаламовым, этим русским-Сизифом, обратившимся в камень.
Виктор ШКЛОВСКИЙ
«Сентиментальное путешествие»
После 1930 года и кенотафа научной ошибке от него осталось одно остроумие, не попадавшее в текст и мобилизуемое лишь для того, чтобы бросить фаталистический свет на многолетнее покаяние. Когда чекист полюбопытствовал, как Виктор Борисович себя чувствует на Беломорканале (он приехал туда с литбригадой для составления знаменитого сборника), тот ответил, что как живая чернобурая лиса в меховом магазине. Понимаешь, говорил он впоследствии внуку, рядом со мной пробежал крокодил, клацнул зубами и промахнулся, но я всю жизнь ощущал, до чего ему голодно без меня. Уступая дорогу трамваю, мы делаем это не из вежливости, сказал он еще одному собеседнику. Он так и работал после 1930-го – помня о крокодиле, трамвае и чернобурой лисе, не меняя привычек и в старости, в абсолютной уже безопасности, но прежде это был молодой полубог, наполненный огненным блеском и знанием, творец синкретических жанров, возникших на перекрестье теории и словесности, поступка и мысли, воспоминания и предвидения. В «Сентиментальном путешествии» нет ни вымышленных имен, ни придуманных положений. Эта книга торжественна, скорбна и высока, как описанный в ней анабазис айсоров, уходивших через горы от курдов.
P. S. Возможно, в дальнейшем я изменю этот список, но на этой неделе он кажется мне безупречным.
* * *
После того как пишущий эти строки решился опубликовать свиток наиболее знаменательных, по его мнению, русских романов столетия, он не смог отказать себе в продолжении данной затеи – распространении своих предпочтений на остальные территории литературного духа и языков. Составитель вполне понимал, что уготованные ему преграды способны смутить и вооруженного путника; стоит ли говорить о вышедшем налегке, чей умственный окоем искажен привычкой полагаться на переводы и штопаные курсы истории, сбивчиво подводящие к разграбленным кладам. Смягчающим обстоятельством служит то, что очерченная Гёте идея всемирной литературы как цельного поприща и единого организма из эпохи в эпоху перетекающих смыслов, эта идея обретается там же, где прочие, ей подобные: в неохраняемых сферах воображения. А значит, прогулки в тех садах невозбранны, и не допустить ли, что выбор отдельного, частного собирателя предстательствует за общую грезу – ведь в коллективных фантазиях всегда есть резон.
Далее – перечень лучших романов мировой литературы XX века в хронологической очередности их явления в свет.
Август СТРИНДБЕРГ (Швеция)
Проза начала столетия
Дар прозорливости позволил ему стать свидетелем расцветающей крови. Он увидел ее и, не отшатнувшись, обрисовал наваждение в серии сочинений, безосновательно зачисленных современниками в декаданс. По прошествии века Стриндберг может считаться не только эмблемой неистовства, но в первую очередь запечатлителем того состояния, что много спустя стали именовать великим отказом, так и не напитав эту формулу реально оплаченным отрицанием. Стриндберг, напротив, зашел за черту, и это означало революционное перемещение из области заявлений в зону всамделишного отвержения сущего, когда сама жизнь протестанта, нераздельная с его письменной личностью, становится вопящим укором и вызовом всей системе давления и надругательств. Он описал низкое мглистое небо, в котором, по отзыву откликнувшегося на эти проклятия французско-таитянского живописца, нет места и для захудалого божества. Опроверг социальный и сословный уклад. Набросился на сложившиеся институты профессий. Доказал, что город есть орудие изувечения, – «Ад», его поворотный роман, наполненный чадной урбанистической музыкой, заставляющей отвечать безумием на безумие, в этом плане не превзойден до сих пор. Испытав три женитьбы и понеся множество сексуальных потерь, он зафиксировал неизбежность битвы полов, и женщины в его текстах ведут родословную от Эриний, маскирующих податливой плотью зловоние своей мстительной воли к господству. Он упокоился в срок, на закате европейского индивидуализма, и, до самого исхода не сдавшийся, восславил забрезжившую ему солидарность, сообщество смелых и равных, так что Блок в некрологе был верен канве его сердца, обратив к Стриндбергу слово «товарищ».
Райнер Мария РИЛЬКЕ (Австрия)
«Записки Мальте Лауридса Бригге»
Если чувствительность к боли бывает истоком искусства, а также волшебною лампой, ниспосыпающей лучи сострадания, чтобы осветить ими людей и молчаливую недвижность предметов, то должна быть и книга, сосредоточившая это милостивое наклонение чувства; ею стал «Лауридс Бригге» – теология одиночества и печали. Христианская бедность двуипостасна. Кроме ночлежек, трущоб и затхлых больниц, помимо отсутствия вещественных благ и исчерпанной надежды на их обретение, христианство знает душевную бедность, орден всецело отринутых, униженных даже умом, но зато обладающих доступом в небесное царствие и оттого неисчислимо богатых. Так было когда-то и навеки прошло, потому что небо закрылось, и Рильке не таит правды от нищеты, будь то нищета в материи или в духе. Автор может лишь, утешающе взяв отщепенцев за руки, постоять возле их околосмертности, ибо это ангел «Дуинских элегий» не различает между живыми и мертвыми, ангел, прохладными веждами смотрящий на городские гротески, где церковь смешалась с пивной, а человек – ему до скончания дней заповедано различать. Накануне Первой из мировых Райнер Мария дышащей прозой поэта оплакивает старую Европу, ее гобелены, легенды, пейзажи, треснувшие сны, ее пламенеющую романо-германскую двойственность и единство. Похоже, война для него уже совершилась и все унесла, а иначе не объяснить исступленную нежность прощаний и лирическую утопию поминания, жажду всех назвать поименно, каждому выделив место в залах прозрачных летейских скорбей и сверхреальных стяжаний.
Марсель ПРУСТ (Франция)
«В поисках утраченного времени»
Привычное толкование настаивает, будто в последнем томе трактуется то, ради чего были написаны шесть предыдущих; оказывается, эти книги и в целом искусство призваны задержать время, отвоевав его у всасывающей бездны, «ужаса бесследности». Здравую интерпретацию нужно дополнить: у Пруста нет никакого изначального небытия, предшествующего литературному действию, его проза не ведает дословесной бездны Ничто, которой должно сопротивляться с помощью слова. Время, материя и распыление их в опыте персонального или совокупного проживания не предпосланы художественной речи в качестве фундаментальных, от нее не зависящих данностей, но, наоборот, созидаются этой речью. Они формируются и определяются речью, зарождаясь в абсолютной творческой власти того, кто, растворившись в насыщенном внутренней памятью языке, взял на себя труд и обязанность мемориального восстановления этой никогда прежде не бывшей вселенной. Время, бытие и противоположность его здесь вспыхивают к существованию исключительно изъявлением слова, наподобие того как у Блаженного Августина мир наделяется темпоральными характеристиками в момент сотворения мира, и спрашивать, как обстояли дела «раньше», – абсурдно, потому что «раньше» ни сил, ни времени не было. Слово в прустовском Семикнижии уничтожает им же созданную пропасть забвения, ибо только оно, это слово, несет в себе память восстановления либо отказ от нее. Полномочиям совершенного повелителя чудесно ответствовало идеальное местоположение Пруста-астматика: звуконепроницаемая, пробкой обитая комната, откуда он изредка выходил, чтобы промыть глаза видом боярышника и русского балета и где его знание света, полусвета и тьмы превосходило всеведение классических авторов. Гомосексуалист, он знал даже то, что время, проведенное с женщиной, потрачено не впустую.
Кнут ГАМСУН (Норвегия)
«Соки земли»
Земля родит людей и принимает их смерть, она старше племени, роя и жизненной силы, объединяющей говорящих существ и животных, она старше судьбы, тоже берущей начало в земле. Земля – это органическая ноэма, колышущееся чрево значений, залог прорастания всех семян, куда бы ни бросить их, хоть на ветер – ветер вернет семена в почву, и та снова будет плодоносить, хоронить и карать. Карающая справедливость земли в том, что она очищает натуру от лжи и уродства, коими ее хотят запятнать отступники аграрной биологии и религии, извращенная раса корыстолюбцев, поправших заветы северной Геи, едва не вытоптавших корни исконных преданий в стремлении не допустить всходов нового и древнейшего, отприродного, как сама праматерь-земля, общегерманского мифа. Земля не позволит состояться их торжеству, ее голос, черный и красный, голос крови, текущей из почвы, сильнее бесстыдного хохота тех, кто мечтает ее уничтожить. Им, козлоподобным вскормленникам городов, американо-семитским проводникам индустриального бесовства, отравленного воздуха и подложной еды, не дано изнасиловать мать, и она, густая и теплая, их поглотит, как поглощала всех восстававших против нее. Нацистская эволюция Гамсуна изумила лишь нечитателей его книг; остальные в ней нашли подтвержденье того, что автор, смолоду не крививший душой, и в старости уберег свои взгляды от порчи.
Лу СИНЬ (Китай)
«Подлинная история А-Кью»
Чем ниже рост маленького человека (трудно по-другому назвать представителя международного братства лишенцев), тем выше волна его бед и несчастий. Этот закон столь всеохватно-велик, что одинаково действует на Западе и в Китае, но Поднебесная сообщает ему особенно жгучую непреложность, дабы уж не осталось сомнений: именно там, в ареале рекордного скопления масс, всякий, кого угораздило спознаться с уделом водоноса, рикши или крохотной чиновной букашки, с этой, жалчайшей планидой за пазухой и помрет, и никто не услышит слабеющих отзвуков гонга – ни бабочка, ни философ. Демократический идеал замечательного каллиграфа сострадающих соучастий Лу Синя сохранился в неприкосновенности, сколько б ни минуло лет: чашка риса – голодным, кровля – бездомным, лекарство – больным. После чего все еще раз собрать (но где ж взять-то, если вместо похлебки сухое дно чана) и снова справедливо раздать, ибо голодный бездомен и болен, а больной сызмальства голоден и не имеет крыши над глупой своей головой. Автор, конечно же, сознавал, что горести неискоренимы, но есть же предел нерассуждающему терпению долга, и, так рассудив, себе отвечал – предела терпению нет, этой границы не бывает в Китае. Нет границы и терпенью писателя, которого для того и позвали, чтобы он, покуда не окаменеет и со стуком не упадет вниз лицом, встречал внимательным взором твердеющие лица прохожих, иногда омываемые слезою и мыслью.
Джеймс ДЖОЙС (Ирландия)
«Улисс»
Роман более последовательно и буквально, чем полагают обычно, связан с манерой Одиссеева плавания. Взявши примером ревизионистов социал-демократии, Одиссей дискредитирует конечную цепь своих странствий, отдаваясь внеположной штурманскому расчету автономной стихии движения: плеску волны, сладким и хищным, как истинное искусство, посулам дев моря (от их коварства у него есть в загашнике инсталляция Иозефа Бойса – воск, жир и веревки), любострастному, с выпаденьем из хроноса, пленению в дворцовых покоях волхвующей нимфы, бартерной сделке с циклопом (раскаленным бревном в глаз за съеденных парней из команды), психоделическим морокам на островах пожирателей лотоса и прочим блаженствам маршрута, уводящим – от периферийной Итаки с домотканой женою и жениховым отребьем – в самый нерв поэтики Джойса. «Улисс» порывает с повествовательным европейским каноном, принуждающим к традиционной цели пути – выражению содержания посредством рассказывания истории, и взамен содержания обнажает беспримесность смысла, проступающего как результат языковых и символических высказываний формы, которая плывет по карте Улисса, в максимальной дали от Итаки. В глубине этой формы, ветвящейся по всем направлениям значимых соответствий, что делает текст гогочущей сатанинской часовней, где свально венчаются яковитская Библия, барочный иллюзион, Британская энциклопедия и Вавилонская башня, в глубине этой формы очерчиваются контуры нового мифа и образа, сближенных родством пародийности.
«Улисс» – доказательство ритуалистической теории мифа, миф здесь выпрастывается из обрядового растекания словесных потоков. Отмеченная критикой тождественность пародии и архетипа объясняется тем, что в «Улиссе» они в равной степени зиждутся на непрерывности рефлектирующего воспроизводства. Пародия есть отраженный свет оригинала, наличие которого, впрочем, необязательно; вечный образ репродуцируется в нескончаемой цепи отражающих трансформаций. Критика горячо любит эту толстую книгу и 70 лет толкует ее построчно, но я бы хотел, чтоб ученая критика, выследившая все текстовые отсылки к Средневековью и гэльскому возрождению, научила меня понимать, в каком именно месте своей эрудиции автор проник в небывало тотальную правду о человеке, тяжеловесном мужчине и засыпающей женщине, кто открыл ему трепет вещей и секрет описаний закусочной, кладбища, редакции, пляжа, когда они уже не слова на бумаге, но гипнотическая ощутимость в присутствии, – я очень хочу об этом услышать от умных людей да да я сказал да.
Итало ЗВЕВО (Италия)
«Самопознание Дзено»
Провинция, итальянцами населенный Триест в размякшей и старческой, с гнилыми зубами, пасти Австро-Венгерской империи. Там, в Триесте, в баснословную пору был зарезан и похоронен первый систематический осмыслитель античных художеств, экзальтированный немецкий искатель Йоганн Йоахим Винкельман, да кто эту давность упомнит. Купеческий культурный и респектабельный слой, будни, контора, тусклое облако отношений. Вялое предвосхищенье наследства, приязнь к отцу в переплете ожидания его смерти, женщины, непылко потребные телу и совсем уж унылые в разговоре, карьера, брезгливое подмечание нравов, комично невыполнимое намерение бросить курить, пыльный занавес скуки опущен над скверно разыгранным представлением. Фрейдовский пациент сбегает в болезнь втайне от ясных участков своего разумения, и темная весть об избранном им недуге приходит к нему чередой невротических сбоев, обмолвок и срывов. Исповедующийся персонаж Звево в полном блеске ума изобретает себе комфортабельное, под надзором психоанализа, расстройство (самопознания – единственный шанс достижения самости, неважно, подлинной или нет, поскольку критерии смыты и только дурак доверится мольеровским докторам с таблицами модных психических червоточин (Жозеф де Местр в «Санкт-Петербургских вечерах» говорил, что врачам-безбожникам предпочитает убийц с большой дороги: против последних дозволено защищаться, и к тому же их по-прежнему вешают). Презирая здоровье и не отважившись на болезнь, т. е. на бросок в никуда, Дзено, как гладкую молодую любовницу, ласкает мнимую хворь, но отчего бы не счесть ее настоящей: основанья все те же, их много, их нет. Роман, по слухам, вынянчил в жесткой своей колыбели позднейшую итальянскую прозу; я рискнул бы сказать, что, работая на паях с драматургией и новеллистикой Пиранделло, он выпестовал национальный, ставший всеобщим кинематограф 1960–1970-х годов с его трезвым сомнамбулизмом и фантазматической жалобой на несвершаемую жизнь.
Ярослав ГАШЕК (Чехословакия)
«Похождения бравого солдата Швейка»
Недооцененный, при всей его славе, роман, впервые после «Сатирикона» Петрония и с тою же мощью показавший реальность как лопающийся от грязи и вони бурдюк. Макабрическая одержимость писателя, не упустившего ни одной мизансцены в буффонадной оргии разложения, столь чудовищна и цинична, что почти беззлобна – когда дохнут от хохота, наблюдая подробные корчи врага, в ярости не нуждаются. Австрийская литература, даже насмешничая над империей, к родной ойкумене относилась чувствительно, а уж после падения Габсбургов четверть века сотрясала обломки рыданием. Бывший имперский подданный Гашек падением монархии опечален не больше, чем Швейк убийством эрцгерцога Фердинанда. Швейк тоже знал двух Фердинандов, один выпил бутылку жидкости для ращения волос, другой собирал собачье дерьмо, обоих ни чуточки не жалко. Автор бровью бы не повел, кабы вместе с империей грохнулся мир – выгребная яма насилия, бюрократии, шовинизма, гибрид тюрьмы и принудительной больницы, с редкими, у отдельных ублюдков, отступами похабного мягкосердечия. Мировоззрение этого кромешного типа, всюду находящее знаки круговоротного возвращения мерзости, логически неопровержимо, и восстань Гашек из гроба, ему опять показали б крушение разноплеменного идола, потасовку народов, трогательно отмытый приказ кончать сербов, и даже грубое венгерское ругательство, в русских изданиях укрывшееся от перевода, надо думать, изменилось не слишком. Таково близлежащее измеренье романа, обладающего как будто и подкожным, эзотерическим слоем; он был обнаружен московским оккультным философом Е. Головиным, прозревшим в «Швейке» инициацию и мистический анабазис, ибо, назвавшись идиотом, заглавный герой тем самым объявил себя посвященным – «одна из лучших книг о посвящении есть „Liber de idiota“ („Книга простеца“) Николая Кузанского». Так ли, пусть судят герметики, но это загадочное и тревожащее сочинение.
Томас МАНН (Германия)
«Волшебная гора»
Из неосуществленной Аркадии проклюнулся Санаторий – обитель высокогорной анестезирующей благодати, замкнутый серафический край, где музыка стала врачующей оградой и сенью, избавлением от низинных кошмаров Европы; союз Швейцарии и медицины, как назвали представители русского концептуального круга этот мотив священного для них текста. Послушник покоя, все глубже погружающийся в отшельническое общество альпийской элиты, Ганс Касторп, точно узник феи, семь лет проводит в санаторном гроте, как в счастливейшем скиту, и однажды к нему, сподобленному гедонизма и восторга, нисходит странное виденье. Прекрасная античная картина влюбленных пар и материнства, открывшаяся ему сначала, сменяется галлюцинацией древнего храма, под сводами которого две отвратительные старухи рвут на части младенца и пожирают его вкусную плоть. Проанализировав свой сон, Касторп догадывается, что гармония золотого века держится оглядкой на «мерзости Храма», иначе говоря (тут я воспользуюсь толкованием П. Пепперштейна), все в Раю живут с оглядкой на Ад, это условие Рая. Хуже того, Ад – это регулятивный принцип райского существования и даже сокровенное место Рая, его сакральный центр и святилище, ведь именно в Аду сходятся лучи блаженных вожделений. Отсюда следует, что взлелеянный для освобождающих утех «Берггоф» непременно прячет в желудке своем разъедающее гармонический строй неприличие (в этом Касторпу вскоре предстоит убедиться) и что великая европейская утопия тысячелетнего царства невозможна даже как упование, поскольку эта мечта никогда больше не будет невинной – она обезображена видением старух, разрывающих над жаровней младенца. Ганзейско-патрицианские «Будденброки», «Иосиф и его братья» (в египетской части), развратный «Избранник» и плутовской неоконченный «Феликс Круль» тоже удивительно хороши.
Франц КАФКА (Австрия)
«Процесс», «Замок», новеллы, письма, дневники
Было сказано однажды, что книги Андрея Платонова еще послужат базисом будущей религии или ереси; я готов применить эту надежду к текстам Кафки, словно для того и написанным, чтобы возглавить какую-то мерцающую на горизонте еретическую ортодоксию. В чем состоит ее пафос и каким окажется ее отношение к человеку, либо она твердо расстанется с тем, что привычно называется сферой человеческого, пока неизвестно, и будь оно не так, до нас донеслись бы отгулы указания. Но вероятно, что ересь, которая положит в основу своих действий практическое исполнение этой речи, ее соблюдение в наставительных церемониях и доктринальных поступках (к этому взывает любая настоящая литература, т. е. литература, устремленная к магическому влиянию на действительность), такая ересь потребует даже не экзистенциальной, но антропологической перемены, эволюционного преображения нашей природы. Дело в том, что слова, из которых состоят сочинения Кафки, предназначены для иных глаз и ушей – физически, а не духовно иных, вот в чем штука. Эти глаза, уши и весь вопринимающий организм еще не прорезались. Кафка же, зачем-то ими опережающе наделенный, писал так, точно все обладали его зрением, слухом, предвидением и способностью их сочетать в опыте иночувственного прикосновения к разнородным субстанциям, от этого прикосновения шевелившимся, как шевелятся волосы на голове. В итоге трепет смущения и подчиняющий читательское существо хохот – первые слушатели «Замка» смеялись навзрыд, радуя своим откликом застенчивого автора, и то была безупречно правильная истерическая реакция. Убежден, что тут не суггестивность искусства, не прочий гуманистический вздор в утешение, а особый, с этикой и без морали, ужас воздействия религиозного текста. Безжалостный, влекущий туда, где все будет другим и где понадобятся качества, не предусмотренные литературным уставом; ведь Кафка выходит далеко за пределы словесности и фактически уже не имеет с ней дела. Человеку мнится, что он понимает, о чем говорят такие послания, он якобы добровольно идет им навстречу (реально он уже пленник) и вскоре оказывается в губящих местах – без возврата. Уже очевидно, что я считаю Кафку крупнейшим в XX столетии иудейским вероучителем и потому почтительнейше заинтересован ознакомиться с драгоценным мнением на сей счет еврейских религиозных кругов, в том числе говорящих по-русски.
Вирджиния Вулф (Англия)
«К маяку»
Скандинавская дева кино слеплена из снега и одиночества. Из тела ветра, дождя, пенных кружев волны, нежной смешливости, вечерней тоски и, конечно, из боли, не исцеляемой ни блумсберийским мягким свечением, ни привычкой к труду, соткана Вирджиния Вулф, чья беспримерно субтильная и ажурная проза (поэзия) равно отмечена интеллектуальным могуществом и той фосфоресцирующей прочностью, что свойственна волшебной, несгораемой паутине. Гипотеза присутствия в книге фабулы или сюжета не вовсе бесплодна: кому-то необходимо добраться до маяка, что и происходит в финале, и сколь малозначаще это сравнительно с покоряющей грустью, с меланхолической пряжей, куда вплетены нити достоинства, юмора, стоицизма и личной свободы, сравнительно с нынешним грандиозным мифологическим статусом Вулф – серебряной луны феминизма, изливающей теплоту покровительства на длинноволосые, коротко стриженные головы европеянок, англоамериканок. Богиня Вирджиния! Непорочная, хрупкая, в одеяниях, коих чистота уступает лишь сиянию ее сердца, она не нуждается в жертвах, но сама расточает утешение и любовь.
Эрнест ХЕМИНГУЭЙ (США)
Проза 1920–30-х годов. «Старик и море»
Пинать его проще простого, и не труднее составить реестр повторяющихся обвинений. Мужество оптом и в розницу, глубокая искренность изолгавшегося честолюбца, я-сказал-он-сказал строчкогонного диалога, разочарованный айсберг, восемь восьмых над поверхностью талой воды, для всех, кто в грешных снах иззавидовался его популярности, он незапамятно был разложившимся Хэмом, молью траченным чучелом неубитого льва во рву испанской войны. Им, завистникам прошлым и нынешним, предлагаю эксперимент под эгидой нашего пролетарского правосудия. Пусть напишут страницу на уровне означенных в подзаголовке работ (вы угадали – о провинциальных убийцах, смерти после полудня и обглоданной рыбине), и результат – в компетентное жюри на проверку. Есть изрядные шансы на то, что не растерявшие стыд устыдятся своей слабосильности, но и они не приставят к виску дуло ружья.
Альфред ДЁБЛИН (Германия)
«Берлин, Александерплац»
В манифесте экспрессионизма Казимир Эдшмид отчеканил постулаты движения, дерзнувшего стать больше, чем стилем искусства, – метафизическим ощущением слома эпох. Перед художником нового типа расстилается исполинский, созданный Богом пейзаж, все для него связано с вечностью, человек окружен потоками космоса, психология заменена конструктивностью (изображать не больного – болезнь). Роман Дёблина стал высочайшей реализацией экспрессионистского метода, застигнутого на излете, снова, как в первотворящие, дикие дни, скрещенного с «трущобным натурализмом» (Бахтин), наэлектризованного волнением и сочувствием наподобие тех, что Син-лике-уннинни, заклинатель, испытывал к Гильгамешу, когда у скитальца плесневел хлеб и от страшной усталости засыхала душа. Франц Биберкопф, простонародный Гильгамеш, влачится сквозь преисподнюю послевоенного (начало 20-х) города, несколько раз поглощается водами смерти, отгрызенная рука его торчит из глотки жадного истукана Метрополиса, женщина досталась врагу, но меркнущий пульс бьется в такт раешным воскрешающим интермедиям и иудейским притчам о человеке, которые, дабы извлечь все потерявшего Франца из тьмы, рассказывают ему хасиды. «Берлин, Александерплац» – рубежная книга Альфреда Дёблина; дальнейший путь автора, клубившийся в стороне от распределения почестей, израненный нацизмом и либеральным истеблишментом, представляет собой фанатичную непримиримость еврейства, католичества и соборной мистической справедливости, обретаемой то в иезуитских колониях, то под водительством красной, растоптанной Розы (Люксембург).
Роберт МУЗИЛЬ (АВСТРИЯ)
«Человек без свойств»
Автопортрет Музиля сквозит в чертах описанного им серийного женоубийцы плотника Моосбругера. Плотник не выработал определенной концепции своих преступлений, склоняясь к разным версиям: сперва утверждал, что режет и душит из гадливости к бабью, потом ему мерещилась политическая подоплека насилия. И это были чужие слова с чужим смыслом. Его желание бралось ниоткуда, из той же пустоты оно являлось и Музилю. Инженер и философ, он вслух утверждал, что пишет, повинуясь аналитическому и этическому назначению, но правда лежала на пласт глубже, не заключая в себе познавательной и моральной телеологии. Он сочинял потому же, почему умерщвлял Моосбругер, и если миссия душегуба лишь условно оборвалась тюрьмой, то и развитие Музиля не предполагало последней черты. В оригинале роман насчитывает пять томов, в черновиках найдено более ста вариантов окончания книги, не имевшей шансов на завершение; вероятно, это самый трагический опыт тотального текста в литературе XX века. Тягчайшее намерение критицизма и веер изящных утопий, каковы, например, утопии точной жизни, эссеизма и солнечных кровосмесительных островов, где инцест – только следствие избирательного сродства характеров и натур, а над всем этим изобилием возвышается самый несбыточный замысел – утопия текста, не сознающего, как дойти до конца. Убийца, тонкий артист в своем жанре, оценил бы остроумие этой находки. Показав себя в образе преступника, Музиль прояснил, чем для него было искусство: трансгрессией, нарушением законов, сумасшедшим желанием. Он мыслил писательство как идеологию несвершаемости, ради аккуратных, законченных томиков не стоило надрываться и умирать. Писательство было кощунством, архаическим рецидивом, но если бы, говорится в романе, народы как некое целое могли видеть сны, они бы увидели Моосбругера, т. е. художника. Для этой книги недостаточен даже титул «великая», старорежимный эпитет «сверхчеловеческая» подошел бы ей больше, а в том, что читают ее не очень охотно, виноват, разумеется, автор. Беспощадный и к интеллигентному потребителю, он обрушил на него глыбу идей, которой можно завалить орду Полифемов.
Говард Филипп ЛАВКРАФТ (США)
Избранная проза
Отличие его от предшественников выступает с рельефностью каменноликой химеры. Старые мастера устрашающего повествования сообщали жизненным коллизиям статус бесспорного первородства и первопричинности по сравнению с ужасом (horror), секретируемым этими обстоятельствами. Универсальное вещество существования, из которого сделано все, с чем приходится сталкиваться человеку (и он сам в том числе), заключало в себе и эликсир ужаса. Иными словами, horror в прозе предтеч был частностью внутри того общего, коим считалась Жизнь, он был одним из соков, бродивших в ее теле наряду с другими важными жидкостями. Напрашивается возражение, что черный жанр в диапазоне от Радклиф и Льюиса до Эдгара По помещал чудовищное и мистериозное в центр своих построений, но это диктовалось имманентной логикой самого жанра и не являлось следствием непроницаемо-черного миросозерцания, автономного от технических требований определенной поэтики и готового заполнить своей беспросветностью все без исключения литературные формы. Horror для Лавкрафта – самовластительная субстанция, не извлекаемая из мнимо превосходящих ее и мнимо предшествующих ей жизненных ситуаций, но объемом и наполнением равная всей астрономической сумме возможных в мире ситуаций, равная этому миру, в котором нет ничего, кроме ужаса. Всецело слепленный из жути, ставший тотальным кошмаром и наваждением, в чьей реальности не приходится сомневаться, мир уже не имеет повода для внутреннего беспокойства, тревоги и страха. Он гомогенен и гармоничен, он индифферентен, как сам постоянно взволнованный Лавкрафт и его фанатически-бесстрастный космос: «Я индифферентист. Я не собираюсь заблуждаться, предполагая, что силы природы могут иметь какое-либо отношение к желаниям или настроениям порождений процесса органической жизни. Космос полностью равнодушен к страданиям и благополучию москитов, крыс, вшей, собак, людей, лошадей, птеродактилей, деревьев, грибов или разных других форм биологической энергии».








