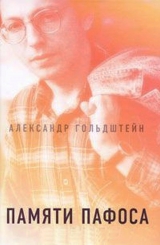
Текст книги "Памяти пафоса: Статьи, эссе, беседы"
Автор книги: Александр Гольдштейн
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 40 страниц)
МУЗИЛЬ: ИСПОВЕДЬ УБИЙЦЫ
Серийный женоубийца Кристиан Моосбругер занял центральное место в романе Роберта Музиля (1880–1942) «Человек без свойств». Другая позиция его бы не удержала, он бы отовсюду вываливался, как эксцентрический идиот из окон и дирижаблей немого кино, как Пушкин и Сыновья из хармсовского застолья. Моосбругера в книге немного, но Ставрогин в бесовском кадре тоже мелькает нечасто, а при этом скрепляет страницы скоросшивателем, пробивая их дыроколом. Впрочем, для перелицованных парадоксов, чтобы, например, руки за спину заложить, когда программно бьют по лицу, или чтобы невидимо миру повеситься в статусе гражданина кантона Ури, затяжных эпизодов не требуется, здесь нужен иероглиф и символ: моментальный, как выстрел, обелиск обольщения и несчастья.
Функции Ставрогина доступны невооруженному наблюдению: он идеолог и искуситель, эманациями его воли движется действие. Сомнамбулические жесты Моосбругера ускользают от понимания, за ними стоит какая-то тайна, но ключ к ней утерян. Согласно простейшему истолкованию, убийца – аллегорический вестник подступившей беды. Хронометры книги измеряют тринадцатый год, подданные Австро-Венгрии торопятся встретить 70-летие восшествия на престол императора Франца-Иосифа, никогда еще Вена, совместивши, подобно конному Марку Аврелию, индивидуальное жизнечувствие с государственно-политическим замыслом, не стояла так высоко и всемирно, а в нижних слоях бытия, разумеется, копошатся демоны ночи, и Моосбругер – их представитель, эмиссар грядущего хаоса. Он показательное чудовище, и как-то не верится, что Музиль прибегнул к такой стертой метафоре, пригодной для нужд близорукой интерпретационной методы. Констатируя присутствие в мире уродов, наделяя их символическим и предзнаменовательным смыслом, эта отсталая метода бессильна понять, что именно в каждом конкретном случае означает чудовище. В отместку же трудных для истолкования монстров теоретики предлагают навсегда заточить в утробе дородового ада, наивно воспретив им вылезать наружу, как будто их пожизненно не было с нами и в нас: так южноамериканский тиран приказал эпидемии прекратиться. Повторное чтение великого романа провоцирует на иную версию Моосбругера. Полагаю, что это автопортрет художника в зрелости, и женоубийца есть сам Роберт Музиль в своей секретной, но единственно верной проекции. Кроме того, это вообще миф об артисте, великий орфический миф с дуновеньями древнего ужаса в разрывах одежд, и неважно, кто здесь кого умерщвляет: вакханки – певца или он – все их беснующееся отродье. «Рациоидность» автора, ненавидящего все жидкое и газообразное, романтическое и туманное, отступает перед лицом правды о сущности творчества, и мстительная радость, с какой Музиль изображает поругание основ своей веры, свидетельствует об избавлении от полдневного рабства, которому на смену явился смертельный ночной промысел освобожденной души.
Всякому ясно, что художник – не человек, и обстоятельства его рождения и детства тоже не должны быть человеческими. Запах серы и беспредельного одиночества сопровождает его сызмальства; чуя неладное, люди не могут быть рядом с артистом. Никто не видел родителей Моосбругера – скорее всего, их никогда не было. Он вырос в такой крохотной деревушке, что там не знали о существовании проселочной дороги; он ни разу не разговаривал с девушкой – такова была его бедность. Видения и духи одолевали его, сколько он себя помнил: они поднимали его с постели, мешали работать, день и ночь между собой переругиваясь. Эринии несбывшихся замыслов стучались в его мозг, расплавленное олово капало ему на голову, и если бы он носил очки, то был бы вынужден постоянно их протирать от пара, насылавшегося его разгоряченными мыслями. Эти страницы романа – опыт пугающей авторской интроспекции и недурной материал для обвинения автора за компанию с персонажем: они оба преступники. Музиль был одержимым не менее Моосбругера и, подобно последнему, не терпел, когда к творческой ярости, от которой кровь застилает глаза и ты набрасываешься на стопку бумаги с тем же казнящим возмездием, с каким темный плотник подминал под себя оскорбившую его женщину, – когда к этой ярости прикасаются пальцы начетчиков из хедера Чезаре Ломброзо, что-то набормотавшего о сходстве гениальности и помешательства. Моосбругер пропитания ради много шлялся по деревням, где его буквально преследовали буйные вакхические процессии женщин. Неважно, что сперва появлялась одна молчаливая женщина и только через полчаса тихо выплывала другая, он-то знал, что это были процессии, и они шли за ним, как менады, мечтая то ли его растерзать, то ли отдаться и умереть прямо здесь, на дороге. Совсем не садист, он не желал убивать, сладострастие тоже не изводило его постоянно, но что прикажете делать, если она не отстала даже после того, как он дважды ей плюнул в лицо, если она незаметно с ним породнилась, вытеснив прочь его «я», так что он перестал его чувствовать, и ему понадобилось долго колоть ее ножом, чтобы наконец разъединиться телами и разумом. И как следовало поступить, если она кричала? Вдавить ее лицо в землю и засыпать ее рот землей. Музиль всегда поступал так же с каждой новой истошно кричавшей страницей. Графоман, он в то же время испытывал ужас перед чистым листом, но, в отличие от Моосбургера, даже прилежное заполненье страницы, которую он искалывал вечным пером, засыпая разверстые раны словами, не приносило ему облегчения от этого непрестанного безмолвного ора. Плотник не выработал ясной концепции своих преступлений, склоняясь то к одному, то к другому варианту. Так, он сперва утверждал, что убивает из гадливости к приставучему бабью, из отвращения к этим «карикатурам на женщин». Иногда ему мерещилось политическое содержание своих акций, и он воображал себя ангелом массовой смерти, поджигателем театра, великим анархистом. Но все это были чужие слова, с чужим, навязанным смыслом. Его алчба, над которой он не имел власти, бралась ниоткуда. Не ведая ни своего происхождения, ни цели, она торчала неприличным сфинксом на стыдливо отведенных историей пустырях, мечтая о себе хоть что-то разведать в отсутствие Эдипов, сплошь ангажированных на празднества монархии. Музиль знал себя не лучше, чем Сфинкс безотчетного желания: он и был этой жаждой, этими каменными губами. Инженер, математик, философ, он накручивал вокруг своей сочинительской мании очень разумные мотивировки, чтоб как у людей было, с глубоким проникновением и социальным анализом, а она развязывала морские канаты; вынимала воск из ушей и вновь уходила к Сиренам, в безумие. Он считал, и в этом была своя правда, что пишет, повинуясь аналитическому и этическому предназначению, но главная правда лежала на пласт глубже, не заключая в себе ни малейшей познавательной или моральной телеологии. Он сочинял потому же, почему умерщвлял Моосбругер, и если путь плотника, содержавший бесконечность женоубийства, был лишь условно оборван тюрьмой, то и незавершимая миссия Музиля положила себе сугубо конвенциональным пределом смерть автора, продолжая развертываться по ту сторону Леты. В оригинале «Человек без свойств» состоит из пяти томов. В черновиках было найдено более ста вариантов окончания книги, которая не могла быть дописана. Вероятно, это наиболее трагический опыт тотального текста в литературе XX века. Исход предприятия Музилю был известен заранее, на сей счет он не обольщался. Роман допустимо интерпретировать как грандиозную амбицию философского критицизма и целый веер изящных утопий, каковы, например, утопии точной жизни, эссеизма или солнечного кровосмесительного рая, где инцест только следствие избирательного родства душ, а над всем этим изобилием возвышается самый безнадежный и несбыточный проект – утопия текста, который пишется по мере того, как его читает читатель, и который никогда не может быть доведен до конца. Моосбругер, тонкий артист в своем жанре, оценил бы фаталистическое остроумие этой находки.
Ни плотник, ни скриптор не отрицали своих преступлений, им хотелось лишь одного: пусть бы люди на эти поступки смотрели как на «катастрофы грандиозного мировосприятия». Вся его жизнь, пишет о себе Музиль, была «до смешного, до ужаса неуклюжей борьбой» за то, чтобы его признали и оценили. Моосбругер «уже мальчишкой переломал пальцы своему хозяину, когда тот вздумал его наказать. От другого он удрал с деньгами – справедливости ради, как он говорил. Ни на одном месте он не выдерживал долго; он оставался везде до тех пор, пока – так поначалу всегда бывало – держал людей в робости своим молчаливым трудолюбием при добродушном спокойствии и здоровенных плечах; но как только люди начинали обращаться с ним фамильярно и непочтительно, словно наконец раскусили его, он сматывал удочки, ибо его охватывало жутковатое чувство, будто его кожа сидит на нем недостаточно плотно».
Это самочувствие преступника и артиста Музиль знал по себе. Он дичился людей и от них убегал (даже рукопожатие вызывало у него неприязнь), его кожа пахла пожизненным одиночеством, болтаясь на нем как на вешалке. Способы, которыми он утверждал свое достоинство, казались гротескными и болезненными. Он умел быть светским, когда хотел, но такое желание у него возникало нечасто. Презирая карьеру, как ее мог презирать аутсайдер, он был изглодан завистью к товарищам по перу, которых, как правило, ненавидел. Он ощущал себя необыкновенным, особенным и остро нуждался в похвалах венских фельетонистов, потому что ничего еще не было решено, пути успеха неисповедимы и, возможно, посмертная слава зависела также от их сегодняшних жалких писаний. Деньги были ему нужней, чем другим, и он хладнокровно просматривал ведомости «Общества друзей Музиля» – платят ли в срок членские взносы, идущие на бедность писателю, и вел себя как наследный принц и донатор. Его торопили, обещая отменные гонорары, но он мог сочинять, лишь повинуясь внутренним ритмам, – так Моосбругер из вереницы одинаковых женщин выбирал единственно нужную.
Изобразив себя в образе преступного плотника, он показал, чем для него было искусство: трансгрессией, выходом за пределы, безвозвратным уходом и неосуществимым желанием. Музиль мыслил писательство как утопию несвершенности – во имя аккуратных законченных томиков не стоило ни надрываться, ни умирать. Писательство было кощунством, каким-то ужасным архаическим рецидивом, но если бы, говорится в романе, человечество как некое целое могло видеть сны, оно бы увидело Моосбругера, то есть артиста.
31. 08. 95
МИФ ГОЛОСОВКЕРА
Философ, филолог, писатель Яков Эммануилович Голосовкер (1890–1967) прожил много дольше, чем следовало человеку со старорежимными предрассудками и неподобающим отношением к власти. Но Ананка-Неотвратимость на то и судьба, чтобы иметь свои бабьи причуды. Обвиненный в намерении взорвать динамитом Кремль и Сталина, он вследствие преступного ротозейства системы только три года уделил воркутинскому лесоповалу и, избыв этот щадящий, смехотворный каторжный срок, побрел назад, восвояси, исполненный смутного чувства, что Механизм подавился на время какой-то существенной шестеренкой. Полгода он шел по Сибири, овеваемый холодом освобождения. Не было ни народного шума, ни спеха; мерно, как медленный эпос и ужас, всей долготой своих гласных дышали равнины, сменяясь великими реками в ожидании ледохода. Кое-где в залатанных деревенских ушанках и валенках сидели вохровские Хароны, требуя два жалких «обола» за переправу и на ветхую навигационно-собачью старость, но он, не найдя даже меди, беспрепятственно следовал мимо, всякий раз повторяя, что кентавру Харону, с которым он отождествлял себя в своих реконструкциях хтонической мифологии, положен бесплатный проезд. Они никогда не слыхали, чтобы кто-нибудь называл себя этим именем, неблагозвучным для русского уха, и оцепенело пропускали его дальше, к новому льду и реке, а все несходство с их коллективным летейским прозванием выливалось в единственное фонологическое различение – оно-то и заключало всю суть, попытку не уступить смерти память и разум, удержать их для будущего ценой личной жертвы.
Вернувшись в Москву, он обнаружил, что рукописи его сожжены человеком, которому они были доверены на хранение. Он принялся их восстанавливать, и новый пожар, на сей раз случайный, вернул его к пепелищу. Лосев, после того как дважды был уничтожен исполненный им перевод Дионисия Ареопагита, увидел в этом знак свыше и дальнейшие попытки оставил. Голосовкер, который, по мнению Алексея Федоровича, всегда вел себя неоправданно вызывающе («Что вы, Я. Э., все бунтуете? Эта история с большевиками лет на двести», – запомнил мемуарист), напротив того, посчитал, что одна из натурфилософских стихий всего лишь испытывает его на огнестойкую прочность. Он снова стал выводить сгоревшие буквы, и отныне огонь обходил его стороной, словно страницы оберегало некое демиургическое заклятье, повелевавшее причиной и следствием. На сей раз рука его двигалась в согласии с генеральными ритмами сущего, число и мера объединялись эллинским строем, которому он искал заржавленные, риторически-напряженные и лишь изредка «сладостные» русские соответствия, а необоримая теология текста сама увлекала письмо к гармоническому пределу и завершению, наступившему за несколько лет до того, как он очутился во тьме и беспамятстве, сполна расплатившись за прежнюю ясность.
Сегодня наблюдается возрождение Голосовкера: найден и распечатан популярным журналом «Сожженный роман» – стоическая погребальная реплика на гибель эпопеи «Запись неистребимая», название которой кажется издевательским предвосхищением ее участи, переизданы «Сказания о титанах», впервые опубликован и мгновенно раскуплен шестьдесят с лишним лет пролежавший в архиве, но по сей день новаторский перевод ницшевского «Заратустры». Скорее всего, он, смотрящий оттуда, увидел бы в этом не запоздало-мемориальное воздаяние истлевшему неудачнику, но неостановимое действие Имагинативного Абсолюта, ставшего краеугольным принципом его «смыслообразов» и биографии, ибо то, что может быть названо мифом Голосовкера, предполагало двоякую нераздельность намерения – истолковать исторический материал под знаком своей судьбы и, обратно, так глубоко угнездиться в разбираемом тексте, чтобы собственной жизнью реализовать все крайние импликации, которые из этого текста исходят. Понятно, что этот путь беспощаден, но автор, усвоивший эллинское отношение к неизбежному, принимал последствия, хотя не мог судить в точности, каковы они будут.
Его романтическая система, заявленная в трактате об «Имагинативном Абсолюте», то есть о власти творческого воображения, утверждала присутствие в человеке инстинкта культуры, стремления к созданию ее смыслов. Этот инстинкт, объяснял Н. Конрад, стремясь протолкнуть в печать работу покойного автора, есть побужденье к бессмертию и к его ипостаси – постоянству, ко всему абсолютному, без чего невозможны ни культура, ни творчество. Согласно тонкому наблюдению другого интерпретатора, культура здесь предстает высшей ценностью, аккумулирующей предикаты Бога: она свободна, неуничижима и дарует бессмертие. В не меньшей степени она аккумулирует предикаты Голосовкера, являясь метафорической проекцией его биографии. Культура, в сущности, – воображение, «память, в которой живет мучительно то, чего уже нет безвозвратно. Я вижу рукописи, я вижу страницы, передо мною, как призраки, проносятся былые мысли <…>, но того, что жило словом, образом, ритмом, что было сплавлено в целостность замысла, – этого нет. Я остался бездетным». Говоря коротко, это снадобье против забвения, сожжения и пепла-по-ветру, лекарство против александрийских папирусных гекатомб Омара, когда «в течение полугода солдаты эмира Амра ибн эль-Асса, скрепя сердце выполнявшего приказ халифа, уничтожали в печах, которыми отапливались городские бани (вода и воздух в них всегда были восхитительно теплыми), неподъемные порции свитков из Библиотеки». Культура нужна для того, чтобы Голосовкеру выйти из ада и, ничего не забыв, неостывшей золой написать истребленные письмена, уготовив им религиозную вечность; это его персональный инстинкт-эликсир, попирающий смерть. Но также тотальное отрицание братских могил, массовых гуманных захоронений на общественный счет с последующей аналитически-любопытствующей эксгумацией гуманизма, отрицание изящного единообразия урн в типовых колумбарных ячейках и прочих невидимых миру, ибо он уже невосприимчив, он бесконечно устал от потерь – обелисков упокоения, забытья, затухания. И это еще один «русский космизм», еще один, на сей раз эллинско-иудейский в эмоциях, но той же неотвратимой кириллицей – слой за слоем, в иконописный «наплеск» – сочиненный ландшафт поголовного воскресения, только, в отличие от натуралистического КБ Федорова – Циолковского, мешками грузившего обновленных покойников на межпланетные станции, этот план алчет восстановления падших смыслов, их бестелесного бытия. Впрочем, и Федоров помимо небесной утопии выдал чуть более приземленный ее вариант; Музей – не погребальная контора для всего обветшавшего и негодного, каковы музеи его и нашей эпохи, а клубящееся, беспокойное пространство справедливости, где не дают пропасть именам и верховодят братские чувства – что уже Голосовкеру ближе.
В «Сказаниях о титанах» яснее всего выразился почти экзальтированный биографизм автора и его травматически-личное переживание истории как сожженного свитка, который уж не собрать из пепла, не вернуть справедливости. Все же он предпринимает попытку. Согласно разработанной им концепции фазовой мифологии, олимпийский пантеон не только вытесняет первозданный титанический мир, но делает все возможное, дабы его затем опорочить, выставить чудовищным неприличием, мерзостью, свальной помойкой, непристойно злоумышлявшим отбросом. Проиграв идеологии олимпизма свою схватку, титаны становятся метафизическими монстрами, воплощая ублюдочные слои бытия и сознания, утекающие в канализационные провалы имагинации. Титаны сгорели, их вынесли в отхожее место, они отщепенцы и твари. Это отреченное воображение архаики, крамольная книга праистории мысли, гектографированный вестник античной оппозиции, разбитый на куски даже в каменных спецхранах, на которую сообща испражнились и утопили. Предстоит воскрешение титанов, восстановление древнего благочестия; все симпатии Голосовкера на их стороне, и, конечно же, пишет он о себе и своем поколении. Им, корявым и грубым, как древесные корни неведомы корысть и лукавство; простодушие было источником их поражения. Стихия их – безвозвратно утраченные вольность и правда: «Воссоздавая исчезнувшие сказания, мы возвращаем титанам их первоначальный образ в отблеске золотого века на земле до господства олимпийского пантеона». Реконструкция этой смутной сказки есть акт повторного дарования доброго имени, освобождение и посмертная реабилитация с официально заверенной справкой от Голосовкера, которого уничтожить не удалось. Титанам присуще страдание, их затемненное бытие мучится, кровоточит и болеет, оно глубоко человечно. И они не хотят быть богами, не желают быть олимпийцами: «Когда я был большим титаном, я решил сделать смертных героев бессмертными. Уйдут они в мир мертвой жизни – я верну их к жизни живой. Но богом я быть не хочу». Хирургический свет олимпийского сознания превращает всю землю в испытующую операционную. Но Голосовкер вырвался из нее и полгода шел по Сибири, чтобы вновь написать то, что сожгли олимпийцы, и прочитать мифологию как свою биографию («Миф моей жизни» называется исповедальное его сочинение).
Однако у него была и параллельная метода чтения текстов, когда он шел уже вослед предложенному абсолюту воображения, с удивительным рвением разыгрывал самый дух этих слов и характер их авторов. И на этом пути его ждало последнее, главное поражение. То, что я сейчас скажу, может показаться пошлостью, но мне кажется, у него не было иного способа выразить непоказную солидарность с Ницше и Гёльдерлином, сопровождавшими его всю жизнь, нежели проследовать с ними до конца их призвания, не убоявшись вглядеться в ту ночь, где оба они растворились. Как бы то ни было, закатные годы его утонули в кромешном ужасе боли и психического распада. Держался он мужественно, но потом это мужество стало уже ни к чему, потому что он переставал быть собой: разучился писать и читать, забыл все языки. Владимир Зелинский (сын знаменитого критика, теоретика конструктивистов, прозванного коллегами по советской словесности «гиеной в сахаре») пишет в мемуарном очерке: «Последнее, что я помню: его лицо, ставшее почти страшным, искаженное судорогой, сгорбленную фигуру в дверях и рукопись „Имагинативного Абсолюта“, прижатую рукой к груди. Он всегда прятал ее в больничной койке, но, чтобы ее не украли, чтобы не расстаться с ней ни на минуту, взял с собой, когда провожал меня до лестницы». Вечная память культуры (мертвецкий обертон возник не намеренно, но тут он уместен) отомстила ему с хладнокровием опытного садиста, выдавив из него душу аккуратно и медленно, каплю за каплей. Миф бессмертия подчинился неведомому, но исключительно злому воображению, которое он не предусмотрел в своих поисках.
Жиль Делёз, многое сделавший для уравнения литературы с шизофренией, очень рекомендует философу, не желающему оставаться сторонним наблюдателем чужих мучений, ненадолго в этот опыт войти, дабы, возбудив в себе близкие, но не фатальные состояния, вернуться потом назад и все описать, как оно было. Речь, в частности, шла о помешательстве Ницше. Ни Голосовкер, ни его поверженные титаны никогда бы не опустились до следования этим отвратительно безопасным и буржуазным прописям. Они просто ушли из ослепительной олимпийской операционной, выбрав тьму, когда не стало сил выносить этот свет.
27. 09. 95








