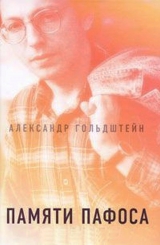
Текст книги "Памяти пафоса: Статьи, эссе, беседы"
Автор книги: Александр Гольдштейн
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 40 страниц)
ЭПОС БЕЗ ОТБРОСОВ
Международная мода в который уж раз на лету зацепилась за Генри Миллера, отодрав клетчатый клок от его твидового пальто – смотри фотографию классика с его пятой женою Хоки Токуда.
Переиздания, переводы, толстая биография из-под пера знаменитой Эрики Йонг, наконец, русский двухтомник – ближайший формальный повод к этим заметкам. Это правильный шаг моды. Может, яснее станет тихий ползучий взрыв его прозы. Это светло горящее летнее пламя без жара, огонь полосою сквозь лес, освещая, а не обугливая.
Или это стихия воды, глубокой и мутноватой, илисто-грязноватой речной воды, невысокой волны примиренного чувства, меж камышовых и травяных берегов, под городским небом с дрожащими от озноба звездами, которые сами себе безразличный закон.
Или это стихия земли, рыхлого, жирного американского чернозема, облепившего слова и страницы, так что нужно их погрузить в желтоватую воду и просушить на нежарком огне. Ветер продует их, прошелестит всеми буквами, как церковными книгами в кинематографе, потому что это – стихия воздуха возле тропиков всех созвездий. Или это сезон объединительного всесмешения, анархического пересмешничанья. Так и эдак можно сказать, и все будет неточно, а значит, лучше на сей счет промолчать.
Литература Нового времени долго имела дело лишь с фигурами Идеального и Сознательного, которые одни определяли логику повествования. Миру материальной обыденности и подсознания доступ в высокий разряд словесности был заказан – по причинам различного свойства. Если подсознания до появления психоанализа не существовало в качестве психической реальности, подобно тому как, согласно хрестоматийному наблюдению Уайльда, до импрессионистов не было нового лондонского климата, то материальная обыденность допускалась лишь в низких и средних жанрах бурлескных комических эпопей или плутовских путешествующих романов и, будучи локализованной в этих пределах, имела весьма ограниченное и не вполне серьезное назначение. Сентиментальный роман и буржуазная драма легализовали повседневность в качестве объекта ответственного рассмотрения, открыв доступ в кухню, детскую и намекнув на местоположение спальни, однако возникающие здесь приметы обыденности, все эти домашние очаги, халаты, фартуки, ночные колпаки и цветочные горшочки, как уже не раз было замечено, являли собой отвлеченные нравственные знаки новых общественных отношений. Это скорее символы «трудящегося сословия», нежели самостоятельные художественные объекты: изображение эмпирической действительности у просветителей неизменно предопределялось рациональной конструкцией, которая все время что-то наглядно репрезентировала – нормы, ценности, идеи. Что очень важно, изображение это также было включено в иную, по сравнению с реалистической, систематику, которая все так же предполагала иерархию высокого и низкого, расходящихся по разным жанрам.
Эпоха Реализма, утвердив жанр романа в качестве важнейшего, мирообъемлющего и тотального, тем самым доподлинно открыла высокую Реальность вместе с властвующими в ней системами позитивистских зависимостей – социальной, экономической, биологической, отчасти и расовой. Такая реальность чаще всего выходила низкой и грязной, при этом ничуть не теряя высоты и величия, ибо в уродливом, трудовом, буржуазном, пролетарском, крестьянском, мещанском открывалось символическое и даже метафизическое измерение. Мир делился не столько по классовому, сколько по профессиональному признаку, и каждая область производства, потребления и желания, будь то промышленная, сельскохозяйственная, торговая или сексуальная экономика (фабрика, ферма, универсальный магазин, публичный дом), обладала отныне своей собственной мифологией, уходившей корнями в древнейший мифопоэтический фонд. «Нана – это Астарта!» – сказал Томас Манн, а Сергей Эйзенштейн разглядел в тропических зарослях новой вещественности Эмиля Золя буржуазный оргиастический культ – динамичный, возвышенный и музыкальный, на манер вагнеровского оперного синтеза (дамское счастье валькирий). Идеальное, Материальное и Сознательное сплелись в неразрывную композицию, и недоставало четвертого элемента квартета – словесно оформленного Подсознания, – чтобы картина замкнулась в классически завершенную рамку.
Этот элемент, в нарочито провинциальной, ирландской его упаковке, был через пару десятков лет оприходован Джойсом в «Улиссе». В глубине же романа распахивались откровения вечной женственности, и сквозь Сциллы-Харибды убогого быта пролегал нержавеющий маршрут баснословного мореплавания, удвоенного сухопутными странствиями Вечного Жида.
Джойс до предела укрупнил и первые три фигуры квартета, так что дело приняло как будто фатальный и окончательный оборот. Сознание здесь располагало подсознательным, а каждый материальный кирпичик повествования имел прокомментированный символический дубликат. С помощью такого клонирования достигалось небывалое дотоле сквозное единство текста, когда между валунами этой постройки, сложенной спецбригадой Полифемов, невозможно было просунуть и тоненькой пластинки «Жиллетта».
Однако, собрав воедино все четыре аллегорические фигуры, которые, подобно волхвам-дароносцам, склонились над колыбелью его шедевра, Джойс не пожелал своей прозе всей полноты комбинаторных отношений между ними. Материя, плавающая в «Улиссе» по каналам внутренних монологов и в омутах преддремотной мемуарной эротики, неспособна, подобно пролетариату в ранних работах Ленина, к выработке своего сознания и подсознания. Это неодушевленная и даже мертвая материя – так сказать, натюрморт. Ее назначение в романе хоть и символично, но инструментально. Генри Миллер, писатель более скромного дарования, совершил следующий шаг, отважиться на который ему помог не психоанализ, а новейшее визуальное искусство. Он одушевил материальную цивилизацию, распознав в ней сознание и то, что под ним.
И показал на этом фоне любовь. Вот в чем тайна его обаяния.
Борис Гройс, которого сегодня клюют все кому не лень, в особенности же те, кто еще три месяца назад воровал у него идеологию и методу разбора, остроумно писал про то, как Марсель Дюшан под влиянием Фрейда выставил на всеобщее обозрение «мусор цивилизации» – шлаки, отбросы дневной стороны ее разума, вытесненные в преисподнюю по аналогии с тем, как сознание выдавливает в свою темноту нежелательные эмоции. Так японские тяжеловозы сумо, сшибаясь, выпихивают друг друга с арены. Дюшан характерным образом начал с писсуара – зримого заместителя того, что выводится за ненадобностью. За этим мочеполовым бестолковым отростком высилась громада отбросов – овеществленное неприличие цивилизации и культуры, исполненное смутного шевеления и бессвязной энергии. Последние строки относятся уже к прозе Генри Миллера. Дело не в реабилитации грязных отсеков или телесного низа – такая задача была бы фантастически неактуальной. Не в слепой кишке, а в жизни и смерти. В том, повторяю, чтобы одушевить материальную цивилизацию, обнаружить в ней солнечную сторону вменяемой рациональности и теневую территорию отреченных вещей. Лишь прочувствовав душу Материи, коловращение предметных ценностей и отбросов, диалектически обменивающихся позициями, можно было заново ощутить городскую материю как единую реку эпоса и сообразно с этим построить повествование о любви.
Идеальное у Генри Миллера растворено в панпсихизме материи. Индивидуально-психологическое ослаблено за ненадобностью для эпического поэта, ибо Миллер писатель эпический. Как настоящему акыну, ему все равно, что описывать – лишь бы объект завис в поле зрения. Проникнув в душу материального, в сознание и подсознание предметного мира, он их затем перемешал, перепутал и эту густую смесь вещества, в которой уже не было неприличных отбросов, – сделал сырьем своей эротической прозы, сделал ее своим словом.
Если Джойсу была дарована власть над вещественным миром, который он брал в оборот единственно точным определением (флоберовская беспромашная хватка) и перемещал как хотел, магически изменяя свойства предметов, то Миллер попросту жил в их потоке, не возвышаясь над ними, не стремясь к обладанию. Генри Миллер жил в Париже на самом дне. Ниже была только Сена, в которой топились люди общей с ним социальной судьбы. Он скорее являл собой элементарное регистрирующее устройство по типу Гомера, который ведь тоже не считал себя выше Ахиллесова снаряжения и сослепу пел что попало, по памяти и на ощупь – так старуха Евриклея, бывшая некогда кормилицей Одиссея, по рубцу на колене узнает в госте загулявшего господина.
Проза Миллера в большей степени, нежели главный роман Джойса, заслуживает быть названной эпической – в точном, жанровом смысле. «Улисс» – ультрапсихологичен, его персонажи проецируют в мир звуковые свечения своего новаторски оркестрованного сознания. В «Тропике Рака» и последующих миллеровских сочинениях никакой психологии нет, как нет ее в эпосе. Но зато в них всеми огнями горят метафоры жизненного и временного потоков, вовлекающих в свое стремленье все, что можно вовлечь, – от картин Матисса, набережной и каштанов до ночлежек и общественных уборных с клошарами и писсуарами.
«Улисс» – чрезвычайно иерархизированная книга. Реальное в ней не равно идеальному, материя – символам, «бытовые» описания – мифолого-фантастическим, один язык и стиль – другому языку и стилю. И хотя между этими ярусами текста происходит непрерывная перекличка и с функциональной точки зрения, по их месту в рабочем строю, они между собою равны, – их разнокачественная природа не вызывает сомнений. У Миллера – ничего подобного. О какой иерархии может идти речь, когда он выплескивает ребенка вместе с водой и корытом, с головой накрывая их всех брюзгливо-лирическим извержением, затопляющим различения и перегородки. Его проза вбирает в свою воронку бытие без степеней и разрядов. Она мыслит бесконечными перечнями, реестрами и каталогами – списками кораблей, которыми, наряду с любовью, движутся и море, и Гомер. «Продолжим со всем этим: такси, пароходы, поезда, лигроиновые завтраки; пляжи, клопы, шоссе, тропинки, руины; развалины, старый мир, причал, дамба; хирургические щипцы, взлетающая трапеция, канава, дельта, аллигаторы, крокодилы, разговоры, разговоры и снова разговоры; потом снова дороги и снова пыль в глаза, снова радуга, снова ливень, снова завтрак, снова крем, снова лосьон. А когда все пути будут пройдены и от наших безумных ног останется только пыль, память о твоем широком круглом лице – таком белом! – все равно сохранится, и о твоем большом рте, и о свежих губах, полуоткрытых, и о белых, как мел, зубах, каждый из которых совершенен, и в этом воспоминании ничто не может измениться, потому что оно, как твои зубы, совершенно…»
Иерархизировать этот мир затруднительно по чисто стилистическим причинам – попробуй расставь этические ударения посреди реки. Таково первое впечатление. И кажется, что именно в этом – отличие Миллера, допустим, от Луи Фердинанда Селина с его злобной этической логикой (на первых порах нерушимой). Не сомневаясь в существовании полюса дьявола, Селин помещал туда целые комплексы и ансамбли объектов, пригоршнями вынимая их из несвежего трупа цивилизации – он вскрывал его с небрежным прозекторским артистизмом. Тех, о ком он писал, он ненавидел и над ними смеялся, а ненавистническое веселье в себе холил-лелеял, нутром чуя в нем главный источник энергии творчества. Гипнотическим пассам его прозы противиться невозможно, и толпам уродов, снующих в романах Селина по всем направлениям, свойственно протухшее очарование дебилизма. Автор был противен и себе самому, но с собой ему было хотя бы привычно. Полюс добра в его прозе законченного выражения не получил, но некоторое исключение делалось для парижского плебса и беднейших слоев мещанства, а также для отдельно взятых проституток – все они бывали подчас столь подавляюще жалкими, что применительно к этим созданиям агрессия обнаруживала свою художественную неплодотворность.
Генри Миллера невозможно представить озлобленным или мизантропичным, хотя он высказывал все, что думал, о конкретных особях и человеческой природе в целом. Наблюдая людей в неприглядных позах, он воспринимал эти картинки с выставки без ненависти или надрыва. Наученный великим спокойствием урбанистической и провинциальной материи, которая сперва выделяет из своего тела отбросы, а потом их снисходительно поглощает, Миллер готов был махнуть рукой на все, что говорили обитатели этого смешного бурлеска. Разве что одну границу он оставил незыблемой. Неловко произносить такие слова, но то была граница, отделяющая добро от зла. Она, что уж там правду скрывать, и в его текстах сквозит, несмотря на срывание всех и всяческих иерархий, а в жизненных жестах – подавно. Когда он уж очень состарился и все хотели заполучить его свадебным генералом в жюри какого-нибудь кинофестиваля, он возмутился безмерно, увидев в «Бонни и Клайде» выстрел в лицо. Это для него была непристойность, кощунство и ужас – поругание первоначал бытия. В самом его облике, замечательном долголетии и неувядаемом эросе было что-то от дерева, земли, дождя и асфальта – от влаги, корней и природно-промышленного произрастания. Его сексуальность – одновременно почвенная и городская (как если бы он произвел смычку), порой даже индустриальная, в темпоритмах завода и транспортного узла. Эпическая, всеобъемлющая. Материя вздыхала, ворочалась и обрядово сквернословила, а ему оставалось лишь подставлять ладони для слова, если ничего больше не было под рукой.
В его сочинениях так много любви, что испытываешь недоверие. Но лишь потому эта проза насмешлива, брюзглива, бранчлива, цинична, щедра, безусловно порнографична (что в этом слове плохого?), не всегда чистоплотна, в высшей степени аппетитна, иногда тороплива, непременно забавна и покоряюще соблазнительна, так что можно не устоять, не успев подготовиться. Заменивший рефлексию зрением, эротический текст голосит в лироэпическом освобожденном регистре, он поет и мычит как материя без отбросов, как плоть по весне. Любовь дана безличным языческим плодородием, природной обрядовой практикой, повсеместно вербующей исполнителей. Сексус. Плексус. Нексус. Благостное распятие. Длинные полосы чувственного красноречия, абсолютная данность скандального перечисления, а значит, она не закончится прежде, чем исчерпает себя этот текст. На улице, в комнате, в Париже, в Нью-Йорке, много, много ее, разные интересные виды, на полу, на кровати, молча и громко, за деньги, без денег – просто так, за любовь. Словно дождь, словно шум города за окном. Эта клейкая влажная свежесть. Генри-миллеровские эти трамваи. Их бегущее, дребезжащее вожделение. Двустворчатое, двухвагонное, если не ошибаюсь, их естество. Тоже ведь брачный союз, городская эротика. Скажем, вернувшись к оборванному сравнению, что ненависть к миру вогнала Селина в тягостную ему подчиненность, а смешная эротика посреди чаплинского отщепенского братства принесла нищему Миллеру свободу.
В больших дозах его читать утомительно. Не так, как любого другого писателя, а специфически и монументально. Здесь он опять же напоминает Гомера. Особое однообразие эпоса, вечная длительность мерного циклопического уложения. В конце концов, утомляет и приедается все – написал же Миллер об однообразном устройстве влагалища, которое более не обещает потребителю тайн: оттуда не извлечешь ни расчески, ни отрывного календаря. Он утомителен и предрешен, как любовь, границы которой известны заранее, как неотфильтрованное «вещество существования» с его бросовым подсознанием (зачем тебе знать все эти подробности?), как сама эта жизнь, не сулящая ничего, кроме экклесиастова повторения. Но трудно от нее отказаться.
17. 11. 94
ДЖИНН БЕЗ ТОНИКА, ИЛИ ОДИССЕЙ И СИНДБАД
Легче легкого обвинять литературу вымысла в том, что она исписалась. Сколько можно выдумывать? Пора о душе поразмыслить. Не тут-то было. Кризис вымысла преодолевается игровым его усилением – так честертоновский патер Браун советовал прятать лист в лесу, увеличивая лист до размеров леса. Простую историю, искусство рассказа и залихватского трепа снова – и трех тысяч лет не прошло – кладут в фундамент словесности, надеясь этой строительной жертвой умилостивить архаических идолов повествования, благоволенья которых по-прежнему ищут, как заповедного счастья. Им, этим то говорливым, то на столетия умолкающим истуканам, снова в знак льстивой выклянчивающей признательности мажут кровью и жиром физиономии – вдруг от анекдотов и баек, притч, парабол, басен идолища встрепенутся. «К рассказу приступаю, дабы сплести тебе на милетский манер разные басни, слух благосклонный твой усладить лепетом милым, если только ты не презришь взглянуть на египетский папирус, исписанный острием нильского тростника, чтобы ты подивился на превращения судьбы и самых форм человеческих и на их возвращение обратным поворотом в прежнее состояние».
В этом ритмизованном зачине Апулеева «Золотого осла», намекающем на двусоставную природу коммуникации посредством истории, когда история – одновременно устная и письменная, обращенная к слуху и глазу адресата, а потому предполагающая от рассказчика необходимость двойного усилия, артикуляционного и ручного с помощью острой палочки нильского тростника. В этом отрывке заключена вечная формула литературы как искусства рассказывания историй. Плетенье словес, вранье без зазрения совести – священная метода художественного повествования. Нынешний постмодерн эту традицию ностальгически воскрешает, оправдывая известное наблюдение Томаса Манна, согласно которому интересные явления, подобно двуликому Янусу, смотрят разом вперед и назад – в плюсквамперфектум, И находят в нем разные вещи.
В первой половине столетия поиск главным образом вращался вокруг великого неделимого мифа, который любую иронию в свой адрес умел переформулировать таким образом, что священная природа мифа прибавляла еще несколько колец вечного возвращения к своей и без того беспросветной тотальности. Мифологические шифры поступков, темные залежи времен и сознаний, образы коллективной памяти, созидающей будущее на основе минувшего, которому никогда не суждено как следует миновать, – все это безошибочные фабричные клейма высокого модернизма. Он жизнь положил, чтобы во всем дойти до самой сути. Чтобы различать между глубиной и поверхностью. Тайным и явным. Эмблематической сверхреальностью истинного смысла и обманчивым постоянством того, что дается нам в ощущениях. И он мог бы запросто в темноте, только разбуди посреди европейской ночи, ни разу не ошибившись, разложить в аккуратные стопки символы и архетипы – каждый отдельно; так любой мало-мальски грамотный символист, и значит, тоже мифолог, ни за что бы не спутал орхестру с оркестром, а уж неприхотливую Афродиту Пандемос ему бы и щупать не понадобилось, чтобы отличить ее от возвышенной тезки – Урании.
Постмодерну на все это наплевать. Не усматривая различия между поверхностью и глубиной, он только усмехается в ответ на очередной авангардный призыв сигануть в пустующий картезианский колодец, дабы отыскать в нем на самом донышке что-нибудь доразумное. Не дождетесь! Чтобы пустить круги по воде и распугать всех лягушек в пруду, ему даже не обязательно бросать камень. Посленовое слово – это круги на воде в отсутствие камня, то есть в пренебрежительном забвении всплеска и глубины. Но также и поверхности, мигом утрачивающей смысл в связи с неявкой партнера по двоичному противопоставлению. Теперь понятно, почему постмодерная проза радикально переосмыслила модернистскую концепцию мифа и мифологического сознания: необходимо было в согласии с общими установками посленовой культуры нейтрализовать в них оппозицию невидимого, глубоко залегающего и – непосредственно данного, привести их к общему знаменателю с остальными современными символическими системами, ткань которых – однородна в каждом своем миллиметре. Результат такого хирургического вмешательства, подобно солженицынскому коммунизму, – на виду, а не понят («не понят» – это для красного словца, конечно, но лишний раз ткнуть пальцем не помешает). А суть дела в том, что миф в современной словесности уступил место сказке, принял ее легкомысленное обличье. Вот тебе, бабушка, и вечное возвращение. Сколько шуму было.
Миф без глубины, без внутренностей – это нонсенс, противоречие в определении, ибо миф и есть упраздненная нынче за ненадобностью глубина инвариантного смыслопорождения. Уже упомянутый Томас Манн мог сколько угодно трактовать миф иронически – то была романтическая, йенско-гейдельбергская ирония, мнимая непочтительность которой призвана усугубить сакральность объекта, бездонность его залегания. «Иосиф» не потому открывается образом колодца времени, что впоследствии в эту материализовавшуюся материнско-пастушескую утробу попадает главный герой, но потому, что любое нисхождение намекает в романе на бесконечность мифологической прорвы. Опускаясь в шахты и штольни, плавая по подземным морям, модернизм был занят поиском истины, обретению которой релятивистская эпоха не препятствовала. Релятивизм – это всего лишь оборотная сторона неких устойчивых ценностных центров, существование которых в ту пору почиталось еще несомненным. Сегодня о них даже не вспоминают – следовательно, преодолен и релятивизм. Миф с его цельной системой значений и репрезентировал модернистский поиск истины. Методология этого поиска с необходимостью включала в себя углубленные метафизические бдения, пафос проникновения в скрытые свойства предметов, высокомерие формальной структуры и очень нетолерантное отбрасывание всего, что не способствовало достижению чаемой «чистоты» текста.
Постмодернизм все эти качества выморил, как насекомых после нечистоплотного постояльца. Коммерциализованная развлекательность, обосновавшаяся уже не вокруг, но внутри самого текста, не могла ужиться с мифологизмом старого типа и, закономерно его похерив, заменила тоталитарный модернистский миф уступчивой сказкой нестрогих правил, предназначенной на манер разговорчивой гейши читателя увеселять. Сказка, и часто восточная сказка с ее затейливостью, эротикой, самоценным искусством орнамента и общедоступным псевдоэкзотическим мистицизмом, становится излюбленным материалом постмодерна (заметим, что и мифологическое предание, как это сплошь и рядом происходит в жанре «фэнтези», трактуется сегодня в сказочной стилистике).
Восточная сказка – культурное детство новой европейской словесности, это ироническое возвращение в XVIII век, к его арабам, персам и китайцам, к сокровищам, волшебникам, гаремам в перспективе остраняющих лорнетов, а постмодерн научился извлекать все выгоды из ностальгических противочувствий. В отличие от литературного мифа, литературная сказка не знает измеренья глубины, не ведает об иерархии основы и извода, она заведомо бежит структурного соподчинения уровней и ярусов текста. Ее изукрашенная поверхность и есть ее скрытый смысл, подобно тому как тело есть высший разум Женщины (Ф. Ницше). Простодушный лукавец Синдбад, привыкший полагаться на судьбу, то есть на имманентное развертывание повествовательных механизмов, столкнул с палубы хитроумного Одиссея («Улисса»), заменив один образ мореплавания другим, во всем ему противоположным.
Мифологический Одиссей владеет истиной, т. е. имеет цель – вернуться на Итаку, к терпеливо ждущей его Пенелопе, этой покровительнице всех одиноких вышивальщиц и ткачих. Сколь бы умышленно ни затягивал свое странствие Одиссей, вожделея к познанию Каллипсо, Сирен и Циклопа, он не терял из вида сверхзадачи путешествия, ни на минуту не забывая о формуле вечного возвращения, только и насылавшей ветер его истрепанным парусам. Одиссеево плавание обладает стройностью классической биографии с ясно очерченным мифом рождения, необыкновенной юностью, многочисленными подвигами зрелой поры и достойным финалом в обрамлении поучительных сентенций. Здесь есть содержательно, идеологически мотивированные начало, середина и конец, которые, подчиняя своей линейной целеустремленности порядок удивительных событий, придают ему фабульную незыблемость. Напротив, странствие Синдбада, хоть и замкнутое в судьбу, словно камень в оправу, по своей сути – случайно, его мореходный детерминизм уже пострелятивен. Внутри себя оно бесконечно и бесплодно, как стремление объявить мат королю двумя конями на пустой доске. Элементы его, лишенные строгой распрямленности смысла, то есть надлежащего Порядка, легко могут быть перетасованы, могут послужить обрамляющей рамкой для других историй или, в свою очередь, инкорпорироваться в них, как в родственное племя. Это плавание без сверхзадачи, его этика сводится к возобновленью Приключения и призвана увеселять. Процесс рассказа здесь важнее всех его значений. Эмоциональный фон Одиссеева странствия героичен, распахнут и эвристичен. Путь возвращения стал дорогой познания. Атмосфера Синбадовых историй, как дворцовый воздух благовониями, перенасыщена волшебной эротикой, забавными мистическими приключениями и обаятельной непосредственностью чувства, более искушенного, нежели простодушного. Это прелестная нарративность, глубоко убежденная в том, что ночное плетенье словес – последняя пристань усталой души в мире, который принципиально не может быть познан, но по-прежнему горазд обольщать, завлекать, очаровывать, как если бы кто-нибудь верил этим посулам.
Синдбад – фирменный знак постмодерна, знак расставания с Одиссеем. Действие происходит в мире, из которого вынут конфликт, выпотрошено стержневое противоречие. Закатное солнце, морской ветерок, некуда спешить, ибо потеряна надежда, но это и к лучшему, потому что не надо себя ни к чему привязывать. Мир после конца истории, в котором все время происходят увлекательные события, но нет и в помине общего замысла, с коим следовало бы себя соотносить. Жизнь расколдована и размагничена, телеология ее мнимая. Все выпито, все съедено, все сказано. В недавнем, по обыкновению гигантском романе феноменального циклопа Джона Барта («Последнее путешествие некоего морехода») обломки истории плавают в ироническом веселом вареве, закипающем на огнях Синдбадовых странствий. А известнейшая англо-ирландская романистка А. С. Байет, уже и автохтонного Букера получившая за толстую книгу «Владение», только что выпустила в свет сборник сказочных историй, центральная проза которого – очень изящное рукоделие «Джинн из „Соловьиного глаза“», с турецкой фольклорной начинкой в новейшей британской конфете.
«Соловьиный глаз» – такой специальный кувшин, в котором томился джинн, древний, как время, и огромный, как облако. Джиллиан Перо, средних лет английская дама, филолог-фольклорист по специальности, джинна освобождает, и начинается история в 150 примерно страниц небольшого формата – за пару часов проглядеть можно, не то что романы того же автора. Джинн на Хоттабыча не похож, он тонок, умен, современность видит насквозь (оптика остранения неизменна со времен просветителей), а старинного волшебства не утратил. Настоящий, чистый джинн, без добавок, без тоника (Юджин Уанджин, как выразился один почти классик по поводу текста другого, бесспорного классика).
В финале нарядного сочинения, изобилующего изысканными наблюдениями в национальном уайльдовском вкусе, герои отваживаются на любовь, а потом джинн улетает восвояси, как легкий призрак сквозь загаженный воздух технотронной цивилизации, но не исключена вероятность его возвращения. Постарайся на обратном пути не разминуться со временем моей жизни, говорит ему Джиллиан. Может быть, именно так и случится, двусмысленно отвечает ей джинн, обращая пространство в вечность.
Если традиционные романы, анализирующие наши поступки и душевные мотивы, никогда не затворяют перед героями двери свободного выбора, сколь бы ни был он прискорбен, то в сказках все обстоит по-другому, размышляет вслух Джиллиан на международном собрании литературоведов, покуда джинн скромно сидит в обществе Цветана Тодорова. Исполнение желаний в сказках оставляет двоякое впечатление. С одной стороны – ты получил, что хотел, но с другой – все это решительно ни к чему не ведет, потому что судьба неумолима. Но кто знает, возможно, ты сам проецируешь вовне тайное влечение к свирепому року, который с равнодушной готовностью сомнет тебя в каменных ладонях, продолжает свою исповедь Джиллиан. Так и в снах: сперва Фрейд полагал, что в основе их – исполненье желаний, связанных с продолжением жизни, но потом обнаружил в глубине навязчивых образов, что насылал молодым солдатам фронт первой из мировых, изнурительное тяготение к смерти – этот новый, опаснейший вид удовольствия. И обнаружив, открыл свой Танатос, в который уж раз обвенчавшийся с Эросом.
В сказках встречается тот же набор: жизнь есть сон, который любовь, которая смерть, и никуда не уйти от свадьбы, т. е. судьбы. Что же тогда остается? Разве что слово, звучащее после судьбы, обманное, грустное, красивое слово истории, не знающей ни поверхности, ни глубины, а только ровную ткань безнадежности. Но посреди исчезающей тоски возникает новая интонация – любви, развлечения, очарования и элитарной коммерции. Такова музыка современных Синдбадов, понимающих товарную действенность изящных эмоций – «трепетного», «человеческого».
Стилистически очень показательная книга популярной романистки А. С. Байет являет собой отчетливый образец постмодерного двойного кодирования, впервые (применительно к архитектуре) два десятка лет назад проанализированного Дженксом. Подобного рода искусство намеренно совершается так, чтобы его можно было прочитать сразу на двух уровнях, массовом и высоколобом. Словно святилище с двумя алтарями: бестелесные жертвы от благородных и тяжелые, грубые, скотские туши – подношения от ревущей толпы. Возле алтарей – большая касса: звон монет, шелестенье купюр. Это лишь непрактичная классика модернизма позволяла себе пренебрегать коммерческим успехом, не умела его построить, не была к нему приспособлена. Сейчас все не так, и дело не только в заурядном финансовом расчете, но и в особенностях нынешней эстетики. Коль скоро современная литературная культура считает культуру как таковую принципиально завершенной (позиция, предполагающая фантастическое самоуважение) и будущность ее мыслит только в виде великой «игры» с накопленными ценностями, то почему бы с тем же успехом не сыграть в «словесность и коммерцию», сделав эту тему объектом все тех же манипуляций. В отличие от несчастного гения из новеллы Генри Джеймса, того, что органически, как ни старается, не способен написать доходную вещь, нынешние элитарные авторы этим умением овладели прекрасно.








