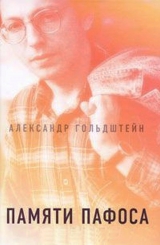
Текст книги "Памяти пафоса: Статьи, эссе, беседы"
Автор книги: Александр Гольдштейн
сообщить о нарушении
Текущая страница: 31 (всего у книги 40 страниц)
Луи Фердинанд СЕЛИН (Франция)
«Путешествие на край ночи»
Известно достаточно случаев, когда впечатлительным читателям после знакомства с его книгами остальная литература казалась ущербной. Сегодня эта реакция наблюдается реже, чем полвека назад, но каждый, кого распирает потребность выхаркнуть отвращение к бойням, колониальным паскудствам, тупому труду, хамству начальства, так изблевавшись, чтобы ни разу в четырехстах долгих страницах не сбиться с гиньольных лиризмов презрения и высветить нежную душу, пятнаемую сальными взглядами, – этот каждый поныне сверяется с лихорадочной мрачностью Края. Селин – владелец секрета, неразгаданной тайны; так ренессансные мастера, предвосхитя, какое потомство идет им на смену, спрятали свои технологии в братской могиле. Открыв книгу злобными выпадами, автор, точно Джексон Поллок, из ведра плеснувший краской на холст, до последнего типографского знака залил роман яростью и сарказмом, и что у другого писателя изнурило б сильнее трехдневного стояния в очереди, то у Селина расцвело увлекательной оргией. Как ему удалось выпрыгнуть из однообразия, он расскажет любопытным на том берегу, но не допустить ли причиной особое сцепление ненависти и любви, в такой концентрации уже почти не встречаемых, выбитых автоматизмом насилия и мелких соитий. Оттого и исчезли революции, что для их производства нужны именно эти, погибшие чувства, отнюдь не холодное исчисленье убытков и выгод. После «Путешествия», вконец разуверенный в человечестве, от которого, будто кости и черепки в котловане первобытной стоянки, у Селина остались восклицания и многоточия графической возбужденности текста, автор опустился на самое дно войны против всех, зачав с нею выводок черных стенаний, порождений ехидны и ночи, но первый роман его – хрустальная песнь, лебединый крик ястреба на заре.
Йозеф РОТ (Австрия)
«Марш Радецкого»
История забыла, в чем были просьба и вопрошание эллинов, а иудеи, пусть блудные, во все эпохи ждали одного только чуда. Закоренелый еврей, католик и монархист без монархии, Рот склонился над австро-венгерским государем, безутешно выискивая в останках его приметы воскрешения праха, под сенью коего, когда был он живой и властительной плотью, в спокойствии жили народы («Самым сильным моим переживанием была война и гибель моей родины, единственной, которая у меня когда-нибудь имелась: Австро-Венгерской монархии»). Он не нашел этих примет. Напротив – труп все больше накапливал смерть, стервятники уносили в клювах куски, а внутренности подтачивало время; потом и оно высохло от безразличия. И Рот понял главное: не в его силах вернуть Франца-Иосифа, но зато он может справить печаль, по всей форме утрат снарядив своего господина для загробного странствия, и это его слезным даром император будет оплакан так трепетно, как не оплакала бы покойного и смуглая девочка, царица Египта, положившая в усыпальницу, в память оборванной юности мужа, букетик цветов. Непокрытою головой чувствуя галицийский сеющий дождь, перед штабами, растерявшими чертежи своих действий, он, штатский отверженец, в сдержанном регистре сказителя, у которого не будет даже лишений, ибо все у него уже отнято, исполнил слово о погубленной имперской судьбе, дунайском расколотом счастье, где жизнь росла из семени надежды, – и дождь не смыл этого чуда, не изгладил той речи, и в каменной гробнице государь на мгновение проснулся в своем прежнем, блистающем мире.
Генри МИЛЛЕР (США)
«Тропик Рака»
У Миллера хорошее свойство – что бы ни вытворяла с ним жизнь, он не готов на нее рассердиться. Миллера надо прописывать как лекарство от сплина. Ему уже сорок, безвестность – полней не бывает, в кармане вместо монет насекомые, растрачено даже украденное у проститутки, а он кропает без устали и, не корча маститого, с миссией, автора, успевает меж строчек пошутить и посплетничать, наслаждается дружбой, городом, женщинами, ругает изъеденный, в метастазах, бардак, но, конечно, не всерьез, потому что как у кенгуру два пениса, один для будней, другой для праздника, так у него к миру два слова: первое лицемерно-бранчливое, для отвода глаз и чтоб не сбежала удача, второе настоящее, благоговеющее к ошеломительным празднествам каждодневья. В документальном фильме он так себя и ведет – долго кряхтит на постели, будто ему опостылела собственная прокисшая мерзость, и тут же, стряхнув напускную хандру, бодрейше раскочегаривается, захваченный упоением мемуара. Добрые следователи, добиваясь смягченного приговора, уверяют, что в «Тропике» порнографии ни на йоту, но ходатайство их напрасно. Порнографии там хоть отбавляй. Ведь порно – это и радость совлеченья одежд, радость солнечных, нетаящихся поз, словно аполлонический Дионис, настроив увитую виноградной лозою кифару, заголился для пляса, и веселые нищие ему аплодируют у реки, а течение этой реки и ее русло вечны.
Витольд ГОМБРОВИЧ (Польша)
«Фердидурка»
Заумное слово «Фердидурка» автор придумал и нигде в романе им не пользуется. Фабула произведения такова: великовозрастный молодой человек, ведущий запутанное повествование о своих злоключениях, волею предрассветного бреда должен вернуться за парту, оставленную им лет пятнадцать назад. Возвращение в школу означает капитуляцию, отказ от себя, это прыщи, потные ладони и дальнейшее умаление, как сказано в книге. Незрелость уродлива, хуже нее только зрелость – застылая ложь масок. Зрелое отрицает юность, с которой у Гомбровича, ее почитателя, задолго до старости сложились тяжелые отношения; об этом в романе десятки болезненных, истеричных страниц, и вместе с другими страницами они побуждают к ответственным заключениям. В XX веке было много сильных писателей, количество великих имен при скрупулезном подсчете тоже не кажется скудным. Недоставало (как, впрочем, всегда) лишь авторов сумасшедших, не обученных опираться на литературный закон и порядок. В «Фердидурке» Гомбрович – безумен. Он из тех считанных единиц, которым удалось написать действительно ненормальный роман. Впоследствии он притушил это качество, стал работать якобы элегантней и собранней, но психопатичный абсурд неуклюжего «Фердидурки» выше опресненной неврастении поздней манеры. Писать, как Гомбрович в своем первом романе, нельзя. Нельзя даже с учетом исключительно насыщенного экспериментального поля литературы столетия, отработавшей чуть ли не все способы искривления фигур и конструкций. Эксперименты, сколько бы ни направляли их в плоскость безумия, обычно оставались в границах разума и здравого смысла – благодаря как раз вот этому отлично контролируемому и вменяемому усилию вырваться из границ. В данном же случае развертывается нечто иное – чрезвычайно обстоятельная, потрясающе выразительная и очень странная в умственном плане речь, настолько чуждая специальным уловкам предстать иррациональной и вывихнутой, что она, бесспорно, такой и является. Мутная и слепящая проза, угрожающая головокружением с потерей ориентиров.
Антонен АРТО (Франция)
«Театр и его двойник». Биография
В закромах проверенных фраз есть фраза о том, что писатель платит за свои воззрения собственной жизнью. Взрослый человек понимает: эти слова значат не больше других общепринятых глупостей, это просто пустая сентенция вроде той, которая требует от политика выполнения его обязательств, и взрослый человек, будучи человеком не только трезвомыслящим, но и гуманным, не ждет, что писатель вдруг затеет практически соответствовать декларациям о кровавой цене своих текстов и др. Напротив, в образованном, симпатичном кругу, где автору никто не желает мучений, подобное поведение было бы сочтено верхом неприличия и бесстыдства, как если бы литератор каждому из присутствующих резанул правду-матку, а затем перерезал себе горло. Неприличный Арто весь отпущенный ему срок телом и кровью подтверждал свои взгляды, и просвещенная демократия, успевшая канонизировать проклятых поэтов минувших эпох, ответила единственно правильным образом. Не убийца, не заговорщик, не вор, а философ творческих состояний, он – в благородных целях излечения от визионерства, наркотиков и низкопоклонства перед Востоком, ошибочно названного пациентом территорией священных аффектов, – был приговорен к десяти годам психбольницы и полусотне электрошоков, от которых вскоре и умер, сполна рассчитавшись за убеждения. Искусство, уподобленное Антоненом очистительной эпидемии, должно стать гнездилищем страшных снов, превзойдя удовольствия, даруемые войной, преступлением и инцестуозной любовью. Тем самым оно уничтожит эти последние, сделает их ненужными. Искусство жестокости сакрально, антипсихологично, и галлюцинирует не личность, а сплоченная обрядовым торжеством масса, чьи тревоги насущней индивидуальных тревог. Не масса, а магма, вскипающая пузырями – видениями из начала начал: древние мифы и ритуалы еще сохранили поэзию, которая одна может разбудить летаргические толпы и дойти до «мертвецов, лежащих под горой трупов». Чумная же эпидемия, запускающая механизм искусства, вызывается истошным криком заключенного в Бедламе, и стены узилища, обрушиваясь от этого вопля, как пала Бастилия от возгласов сидельца де Сада, уже не удерживают заживо погребенного Антонена. После «Театра и его двойника» искусство, боящееся подступиться к своей исконной, заново сформулированной Арто задаче – гностическому перекраиванию материи и возведению Града (таково все нынешнее испуганное творчество), внушает жгучую неприязнь; оправдания его выхолощенным играм – нет.
Альбер КАМЮ (Франция)
«Посторонний»
Эта поэма, аскетичная и пылкая с философско-литературной точки зрения изучена до дыр, так что мы отсылаем интересующихся, например, к замечательному критическому очерку Сартра. В сартровском эссе абсурд понятий четко отделен от абсурда чувства, французская моралистическая линия соотнесена с лаконским пафосом американской прозы, искус молчанием понят как религиозный опыт и обет, и лишь одним мотивом интерпретатор вынужденно пренебрег: тогда, в начале 40-х, этот разговор был бы не ко времени, даже и не к месту. «Посторонний» – плод исторической ошибки, неувязки в хронологии и принадлежности. Эту стиховую повесть был обязан написать израильтянин – конечно, русского происхождения, а значит, «посторонний», способный голым словом показать естественность убийства «из-за солнца», одышливое затекание пространств, автоматизм уклада, склада, строя, грубость развлечений, привычку к смерти, обмелевшую любовь, неутихающую распрю наций и эту близость моря, неба и песка – да, близость моря, неба и песка в панической оправе полдня. Если б вышло то, чего не состоялось, израильская русская литература могла быть иной. Одна такая повесть обладает силой тотема, определяющего вектор племени, в ней власть над перспективой, воля к будущему. Как жаль, что эта вещь, усеянная оспинами совершенно здешних ощущений от вязкой территории, погрязшей в случайностях фатализма, написана французом по-французски, что по-польски плавился в Израиле романтичный Марек Хласко, что в египетском соседстве живший Лоренс Даррелл хранил верность английскому языку, что с тем же языком работала танжерская компания от Пола Боулза до Уильяма Берроуза, чей «Голый завтрак» только в нашем климате созрел для сервировки – никто из них, какая жалость, не изменил своей судьбе, а нам пришлось остаться со своей судьбою.
Жан ЖЕНЕ (Франция)
«Богоматерь цветов»
«Моя тема», – шептал Андрей Белый, обуреваемый музыкой Шумана. Персональная тема увенчала Жене в доме похоти, достоинства и красоты – в остроге. Там бледные ирисы страстей, на Рождество получавшие от надзирателей пакетик соли, влеклись к фиалковым нарциссам предательской юности, одаряемым тем же гостинцем, и они оплетали друг друга, лживые вздыхающие змеи, дабы, насытившись ликованием, уснуть в сочащейся сладости приснодевственной Розы, а сверху, над золотыми языками королевского знамени, загоралась звезда. (Хочется подражать этому пурпурному слогу мечтательного блатаря, помнящего о страшной несправедливости, когда его, рожденного в августейшей семье, дождливою ночью положили в корзинке за воротами отчего замка, но только Жене умел в алхимически точной пропорции смешивать гной с литургийным распевом, добиваясь дивной риторики монарха в изгнании.) Он стремился к святости и искал ее среди тех, кого обычно называют подонками. В этой позиции выделяются две составляющие. Первая – каноническая: чтобы избавиться от греха, для начала нужно им напитаться (не согрешишь – не покаешься). Очищению неизбежно предпослан порок, и, следовательно, святой несет в себе бывшего преступника, а преступник чреват святостью. Второй, менее тривиальный аспект проанализирован Сартром в его 600-страничном живосечении личности и романов Жене: и грешник, и святой одинаково асоциальны, они стоят вне общественных норм, отменяя нормы своими вызывающими действиями. При этом жесты святого радикальней акций преступника, поскольку, в отличие от нечестивца, порвавшего с законами общества, но не с человеческим измерением, святой не принадлежит миру людей. Он соприкасается с людьми, вторгаясь в их существование, однако сам уже не является человеком. Петляющая лирика романа, точно церковь молитвой, теплым воском и слезами, полнится вестью о неизбежном пришествии к грешному поэту его святого естества – «Богоматерь» разыграна таинственной плотью, состав которой темен, отвлечен и повинуется зароку перемен.
Герман ГЕССЕ (Германия, Швейцария)
«Игра в бисер»
Оголтелая его популярность иссякла, теперь можно спокойно перечитать. Кто чувствует значение и прелесть диады «учитель – ученик», когда послушничеству отдаются как призванию и с неотягощенным сердцем вступают в долгий плен, дабы, до крайних буквиц алфавита выполнив все предписанья духа, наставника покинуть, уйти из леса старых категорий в собственную школу, которая вновь будет взорвана учениками, – тот не оставит эту книгу. На отношениях послушника с учителем базируются Запад и Восток, спиритуально-производственный, мистико-хозяйственный, обнимающий природу, общество, ремесла диалог подмастерьев с мастерами был в центре немецкого романтизма, мечтавшего о возвращении средневековых корпоративных вертикалей, а в середине XX столетия эффектную вариацию этой темы дал неоромантик Гессе. Фельетонная цивилизация все подчиняет своему поверхностному стилю. Культура в отместку создает кастальское убежище для герметичнейшей из игр – игры со смыслами культуры. Формируется каста браминов-отшельников, иерархическая секта хранителей огня и воспитателей избранного юношества, которому передаются заветы службы, заветы игры как высшего тайноведения (немало поколений богословов, музыкантов, филологов и шахматистов должно было унавозить протестантскую почву, чтобы Гессе мог написать эти страницы о нерушимой преемственности научения). Игра целиком поглощает адептов, это религия и искусство в его теургическом, окликающем богов изводе. Однако религия обязывает духовенство и к иным поступкам, она велит явить пример того, что в старину именовалось хождением среди людей. Нужно ли продолжать это ветхое поведение, коль скоро люди так очерствели; не лучше ли для их же пользы (либо не помышляя о ней) затвориться в обители, сосредоточившись на шифрах игры стеклянных бус, – быть может, область внешней жизни когда-нибудь поймет, какую ценность сберегли отшельники? Гессе по-разному отвечает на эти вопросы, но, кажется, не требует от своих героев забвения келейных восторгов ради сомнительных доблестей мирского служения. Самоубийство представляется ему более разумным и благочестивым исходом.
Герман БРОХ (Австрия)
«Смерть Вергилия»
Август приходит к больному Вергилию в наиторжественнейшую минуту их сообщающихся, соединенных уделов, когда заслуги цезаря (он даровал покой после республиканской смуты) перетекли в поэму речетворца – поэму, цель и назначение которой, как считает Август, в том, чтоб музыка великого стиха о потере обжитого космоса и сложении другого, объемлющего прежний, овеяла сверхсобытийный ритм деяний государства. «Энеида» нужна цезарю не меньше, чем легионы. Гений экспансионистского равновесия, добываемого могучим напряжением сил, он зорко распознает недостающее звено своего цельного замысла – отсутствие державно-прославляющего слова, без коего ржавеет войско, осыпается архитектура и клекот золотых орлов звучит кудахтаньем. Вергилий разочарован своим неоконченным произведением, он покушается его уничтожить. Между двумя воплощениями абсолютной власти, поэзией и государством, олицетворенными фигурами на века, происходит долгий, плывущий медленными снами разговор, возможный лишь в вечности или в империи, – этот разговор, дополненный Вергилиевой внутренне диалогичною предсмертной дремой, которую ему нашептывают духи мировых стихий (Воды, Земли, Огня, Эфира), и образует ткань романа. Современник и компатриот, сказавший, что искусство такого масштаба в Европе возникает раз в столетие, пожалуй, не особенно преувеличил. Медитативное, расплавленное слово Броха как бы нарекает родники своего предъязыкового досуществования, нисходит к темному началу голосов, в нем растворяется бесследно и, этот же чернеющий раствор кристаллизуя, разбивает кристаллы ради блуждающего сотрудничества в новых эфирных, огненных голосовых потоках – и далее до бесконечности, по кругу, покуда из галлюцинозного исчезновения и возрождения речи не проглянет ясный Символ. Он символизирует трансобъективную непреложность будущего царства, осененного познанием самого же себя, т. е. устроенного по двояковыпуклому принципу Символа – «и внутри и вовне выражает он свой праобраз, заключает его в себе, сам будучи в нем заключенным». То царство людей, пришедшее на место государства граждан.
Джордж ОРУЭЛЛ (Англия)
«1984»
На сеансе с тарелкой и столоверчением ограничусь простейшим вопросом: откуда, из каких смердящих отстойников ему, ни разу лично не убитому той чернотою, о которой он писал без устали, пришла не политическая (о ней-то, поднапрягшись, можно было догадаться), а осязательная (пальцы, кожа) и вкусовая (рот, язык) правда обстоятельств, доподлинно переживаемых лишь в персональном опыте, – крошащиеся сигареты, подгнившая капуста, грязь, холод, недолеченная хворь, вся эта прорва нищеты и ущемлений, известная насельникам на тысячу замков закрытых обществ, но не ему, свободному и в бедствиях, в неповторимо поперечном выборе беды и способов сопротивления. Безвыходный роман поражает не своими знаменитыми пророчествами и гиперболами, а беспрецедентным даром автора так опрокидываться в ситуации, тактильно никогда им не изведанные, что потерпевшие и очевидцы удостоверяют правильность картин, зловещую точность психосоматической пластики. Не могу взять в толк, и никакие факты оруэлловской биографии не прибавляют понимания, где именно уразумел он, что читатель запрещенной книги ее читает не затем, чтоб вызнать спрятанную тайну (она давно известна – не уму, так интуиции, инстинкту), а ради подтверждения своих догадок о существе утаенного, что сила этой книги в ее банальном соответствии коллективному сознанию униженных. Это частный, из множества близкородственных, пример эмпатии, их можно зачерпывать пригоршнями. Превосходно сказано, что Оруэлл был единственным писателем, который без поддержки и страховки довершил работу, на полдороге брошенную погибшей и смертельно струсившей русско-советской литературой. Еще мне очень нравится иррациональное сравнение его романа с поэмами Лотреамона. Они похожи, как один страшный сон похож на другой.
Хуан Карлос ОНЕТТИ (Уругвай)
«Короткая жизнь», «Верфь»
Говорят о социальной подоплеке его сочинений; столь же убедительна экзистенциальная их трактовка. Обе равно неплодоносны. Произносить сегодня такие оскудевшие слова, как «социум» и «экзистенция», – значит соглашаться с пустотой, с растратою так называемого смысла и невозможностью им наделить – что именно? Да хоть бы Это, явленное текстом, рожденное из стопроцентно южных ощущений поражения, ведь поражения и посланные им вдогонку состояния тоски разнятся даже климатически. Онетти оперирует вытяжками, дистиллятами, эссенциями южной захолустной тоски (тоже приблизительное слово, но чем-то вынужден воспользоваться). От северо-западной подавленности она отличается, может быть, тем (это гипотеза), что в помещении жарко, пахнет подмышками, в углу громоздится кипа анархо-макулатуры, кустарное изделие сбежавших голодранцев протеста, из меблированных комнат скоро выгонят за неуплату, вяло вращаются кожаные, кактусовые без колючек лопасти вентилятора, рядом лежащая женщина изъясняется только попреками, в распивочной и борделе контингент стабилен, как зной и селитряный ветер с моря, переезд в столицу или другую страну исключен, рука держит ампулу морфия, пепел осыпается на платье, секс не утоляет, стерлось даже насилие, комментатор отмечает большую мифологическую насыщенность – вероятно, он никогда не бродил по городу пьяным, либо это повторялось с ним так часто, что обрело для него очертания мифа. Из южноамериканских авторов Онетти самый европейский, из европейского состава его выталкивает типично испаноамериканский комплекс континентальной меланхолии (еще одно клише). Перекрестье непринадлежностей – удобная площадка для этой стильной прозы о чарующем многообразии градаций безнадежности, подкрепляемой бессменным видом из окна.
Сэмюэл БЕККЕТ (Ирландия)
«Моллой», «Мэлоун умирает», «Неназываемый»
Если постепенно убирать из тела все связывающее его с обликом человека, стесав корпус до обрубка, торчащего из ящика на пустыре, а от лица оставить рот для пивных отбросов и безудержного словотечения, – наглядной станет эволюция уродов, созданных по образу Того, Кто некогда был вечно жив, но тоже умер, разложился и недосчитался важных членов. У своих героев Беккет отобрал все, кроме сознания и шелестящего языка, т. е. он все им оставил – вот это мусорное, к собственному рту обращенное говорение, тихое выборматывание слипшихся псевдофраз. Произнесение слов как последнее свидетельство анонимной жизни, и в других доказательствах своего бытия она не нуждается. Сознание отдает себя слову, которое очерчивает слабый телесный контур, затопляемый речью, а она стирает различие меж экскрементами и синтагмами – то и другое суть выделения. Речь продолжает звучать, как звучит безостановочно прокручиваемая магнитная лента (в структуру этой феноменальной прозы трудно проникнуть без учета технологических новаций столетия, нацеленных на воспроизводство и тиражирование), сознание сознает, смерть недействительна, ибо уже не раз умирала и запамятовала о том. Но память не ушла. Она позволяет зацепиться за исчезнувшую в каком-то омуте среду вещей и чувств, снова сблизиться с неразрешимостью вероисповедной диалектики, увидеть на обочине композиции далекую мать, – пусть докажут, что распад, гниение и боль ваялись из чрева женщины. Эта память так сильна, что даже вспоминает о себе самой и, влачась по кольцам повторений, озирает устойчивость мемориальной пригвожденности к всепоглощающему настоящему, замкнутому трухлявыми досками убежища, откуда ленточным глистом выползают слова, исторгнутые неистлевшими губами. И сколько б ни пытались память обмануть, она, распутав узелки, доходит до истоков разложившегося тела: беккетовский персонаж возник от скрещения Сфинги с Эдипом, Унаследовав любознательность химеры и мудрость человека, – симбиотическая плоть совокупила в своем организме маниакальность вопрошаний с правильным ответом, сводящимся к тому, что человек, будь он на двух, на трех иль четырех, всегда чудовищен, оставлен и безумен. Ни вопрос, ни ответ более снести нельзя, и они будут длиться до тех пор, пока не свалится изглоданное ими тело, пока не выдохнется речь.
Элиас КАНЕТТИ (Австрия).
«Масса и власть»
У него есть отменный, в границах повествовательного канона роман «Ослепление», душная проза о том, как людей убивают их наихудшие страхи, и все же уместней внести в список «Массу и власть», где страх настиг не персонажей, но автора. Несколько десятилетий Канетти, отказывая себе в художественном поприще, опасаясь его вредных для аналитической мысли бацилл, изготавливался преподнести миру рациональный гипертрактат, а получил, что заслуживал, – материализацию ужаса, натурфилософский роман, поэму психозов, источаемых жаждой господства над толпами и самою толпой. Не знаю, вполне ли разобрался он в происшедшем. Истинный венец, хоть и экспатриант, забывает сон вместе с его толкованием. Определенно известно, что книга мучила Канетти до скончания дней. Он боялся ее, как колдун сделанного им амулета, в котором магия исцеления вдруг обагрилась волей к насыланью порчи, и автору действительно было о чем тревожиться помимо смешения жанров. Он справедливо считал, что, если с книгой дурно обращаться (например, держать в неположенном месте или переводить на языки кризисных государств), из нее вырвется бешенство овладевающей массами власти, так что сочинение, задуманное как метод диагностирования деспотической одержимости, станет еще одним посланцем недуга. Не сказал автор главного: это он, Элиас Канетти, сколько б ни давал предохраняющих советов, спустил с цепи нечисть истории. Хуже того – он ее, издохшую, сызнова сотворил. Не будь его описи, никто б не услышал боевых кличей эквадорских индейцев живарос, отвергших иллюзорную веру в угасание от дряхлости и нездоровья ради живейшей реальности коллективных убийств; никто не разглядел бы в восточной щели делийского султана Мухаммеда Туглака, который, после того как из брошенной им в глотку верной смерти 100-тысячной армии домой вернулось 10 человек, назидательно казнил и этих десятерых; и уж точно все пренебрегли бы наивным самоуничтожением племени козов – уцелел только вождь, устроивший ритуальный голод. Канетти вернул своих забытых клиентов к солнцу и алчности, но даже он, годами собиравший эту прелесть по костям, не предполагал, что останки таят в себе так много злой и глупой власти.
Юкио МИСИМА (Япония)
«Исповедь маски», «Солнце и сталь». Образ жизни и смерти
В предисловиях регулярно отмечаются следующие факты. За короткую жизнь прозаик, драматург, эссеист Мисима (1925–1970) написал 100 (прописью – сто) книг и ни разу не подвел издателей – рукописи отправлялись в набор с точностью до минуты. Семь раз совершил кругосветное путешествие. Ставил спектакли и в них же играл. Почувствовал отвращение к своему хлипкому телу и за несколько лет тренировок превратил его в бронзовую плоть атлета; тогда же, сжав рукоять двуручного меча, удостоился пятого дана в кэндо, традиционном японском фехтовальном искусстве. Создал «Общество щита», инсценируя с влюбленными в него студентами суровые обряды во славу императора и армии, влачившей жалкую участь, утратившей даже прежнее имя. 25 ноября 1970 года Мисима в последний раз продемонстрировал решимость пожертвовать всем для возрождения воинской чести Японии, самурайского холодного исступления. С небольшой группой юных соратников он, классик словесности, один из самых знаменитых людей страны, церемониальным шагом вошел на территорию военной базы, захватил в плен вежливо встретившего его генерала и, отбив мечом две атаки штабистов, призвал солдат взбунтоваться против растленной демократической конституции. Четверть часа спустя, убедившись, что мятеж не удался (писатель и не надеялся на успех), Мисима вскрыл себе брюшную полость старинным кинжалом. Так умереть можно было лишь до эпохи постмодернизма или не будучи постмодернистом. Постмодерн не верит в существование внутренностей, ограничивая спектр изысканий поверхностью, кожей. В пределах данного списка Юкио Мисима пожимает своей мускулистой рукой изможденную руку Антонена Арто – они оба заплатили в молодости по счетам самодостаточного искусства и впоследствии отказались иметь дело с творчеством, избегающим крайних поступков. Проза преодолевшего литературу Мисимы огненосна и чиста. Даже демоны искушений не имеют в ней низменных черт, обнаруживая другое измерение духовности. Читатель, обладающий благородной душой, находит в его текстах этическое оправдание своей ненависти к базарным ухваткам торгашей, которые признают только удобство и цинично относятся к возвышенным ценностям, им недоступным. Любви двоих достаточно для того, чтобы озарить бескорыстием пошлый город. Чтобы показать пример героизма, довольно и одного непреклонного сердца.
Габриэль Гарсиа МАРКЕС (Колумбия)
«Сто лет одиночества»
Отметим две непреходящие заслуги колумбийца. Во-первых, он собрал разрозненные плоды литературной концепции, откликавшейся на имена магического реализма, необарокко и пр. Словесность этого рода была и до Маркеса, теоретически к ней подступались уже в середине 20-х, главным образом европейцы (см. манифест «Четыре преамбулы» итальянца Массимо Бонтемпелли), ко времени ж публикации «Ста лет одиночества» накопилась латиноамериканская библиотека магического реализма и достигла зрелости изрядная поросль авторов, эту методологию разделявших. Однако требовался взрыв – потрясение и ярчайшая вспышка, в чьем свете кумулятивные усилия письма определились бы в связную романную философию с выжженным на ней, как на дымящейся шкуре иноходца, тавром континента, а молодые литсумасшедшие из Дома Америки предстали бы не толпой одиноких, но ренессансным поколением завоевателей, сравнимых с творцами золотого века испанской поэзии. Международная сенсация «Ста лет» распахнула грандиозные рынки для колониальных товаров необарокко и привела их сплотившихся производителей в сверкающие гостиные, где уже к ним, недавним графоманам с периферии, записывались на прием. Во-вторых, Габриэлю Гарсиа удалось еще одно чудо – подлинное соприкосновение с трепещущими тканями, которые некогда так мудро, так притязательно, так, на сегодняшний вкус, неотмирно назывались живой жизнью; в давнюю пору литературе вменялось в обязанность быть поставщицею натурального бытия, и Маркес вновь разогрел этот опыт. Прав был старый чилийский поэт в верлибре о колумбийском поэте – слово опять стало землей, стало кровью и семенем. Из них поднялась теплая, с нестертою слизью рождения, плоть обреченных племен, погрязших в долгом, как ливень в затерянном мире, сне о любви, захлебнувшихся наитием рока, древнего рока войны, лесов, цыган и индейцев, – пальцами этой судьбы и составлен кольцевидно замкнувшийся свиток. Во главе поколения латинян, точно впереди крестного хода священник и в первом стихе повстанческой стаи крестьянский вожак, Маркес в белой народной рубахе навыпуск доныне идет (параллельным курсом шествуют еще два циклопа – Томас Пинчон и Гюнтер Грасс) поперек механической конструктивности современной литературы, где уже несколько десятилетий в моде, фаворе и славе те, кого прежде, в творческие эпохи, назвали бы имитаторами. Талантливыми, порой гениальными, но имитаторами. Мы видим прекрасных писателей, столпов профессорской культуры Эко и Павича, видим тонкого пессимиста Зюскинда и любимца эрудированных буржуазок Кундеру, но виртуозность и европейский историцизм их сочинений не помешает сказать: это гербарий, искусственные цветы, бабочки на булавках; это, в конечном итоге, профанация духа, подмена священного творчества изобретательным мастерством, но никакая мимикрия не может превратить домашнюю газовую горелку в главенствующий над морем огонь маяка. Уж лучше тусклая монотонность Нового Романа, честно посвятившего себя мертвым изображениям мертвой природы.








