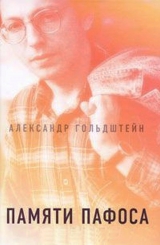
Текст книги "Памяти пафоса: Статьи, эссе, беседы"
Автор книги: Александр Гольдштейн
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 40 страниц)
ДОЛЖНО БЫТЬ, ГЕНИЙ…
Станислав Игнаций Виткевич. Безумный Локомотив (Пьеса без «морали» в двух действиях с эпилогом). Из книги «Наркотики» – «Иностранная литература», 1995, № 11.
Станислав Игнаций Виткевич (1885–1939), при жизни гулявший деклассированным эксцентричным смутьяном, которого культурный человек обегал за версту, дабы ненароком не вымараться в свальном грехе его дарований (словесность, живопись, философия, хэппенинг и другие кровосмесительные приключения жанров), потустороннюю свою участь, словно наскучив земными кощунствами, срежиссировал на удивление благолепно: стал классиком польской литературы. Которая по сей день не способна укрыться от его обложного влияния – как он пролился в начале 60-х золотым разрешенным дождем над несгиневшей Данаей шляхетской речи, так она и поехала, в знак «Солидарности» с весною народов, плодоносить абсурдным гротеском, последствия коего необратимы, ибо Зевесово семя не возвращается вспять. Только Витольд Гомбрович может сравниться с Виткевичем силой посмертных своих гипнотических пассов: одного безумия люди, как говаривал, временно отряхнув с себя бледный огонь эпилепсии, старший славянский собрат и пророк, ихнюю нацию весьма не любивший.
Оба великих поляка, повстречавшиеся, кажется, лишь на том берегу, заочно совпали друг с другом накануне Второй мировой, в одночасье исчезнув из светлого поля сознания компатриотов. Гомбровича незримый ангел-хранитель догадал превратить заграничное путешествие в бессрочную аргентино-французскую эмиграцию, каковая по истечении срока нацистов избавила его и от знакомства с отечественным коммунизмом, а Виткевич 17 сентября 1939 года опустошил флакон веронала и, будучи великим знатоком наркотических средств и прочих забвенных снадобий, для верности по-римски отворил себе жилы. Дело происходило в беззащитном белорусском Полесье, на узкой полоске земли, где он, спирит-предсказатель со стажем, невесть каким образом оказался вопреки очевидным и для незрячего приметам беды. Навстречу вермахту спешила союзная Красная армия, и Виткаций (это его псевдоним – лигатура имени и фамилии) не захотел дожидаться их братских объятий, которые бы вновь, словно не было рождения в слове, превратили его в довременную безмолвную глину – так растирают в ладонях шахматного короля, слепленного из хлебного мякиша.
Финальная его акция, должно быть, называлась «Презрение» – он не собирался обитать на одной территории с победителями. Кроме того, самоубийство обладало и вызывающим мистико-пародийным подтекстом, ускользнувшим от понимания современников. Виткевич объединял в себе целое непослушное племя – драматурга, прозаика, фотографа, рисовальщика, денди, коллекционера, парапсихолога, и, скопом убивая всю эту никчемную публику, он демонстрировал, что гекатомбы, к которым с обеих сторон устремилась эпоха, будут бессмысленными, ибо концептуальный жест массовой казни, подобно остальным артистическим акциям, однократен, неповторим, не требует воспроизводства. Этот жест им уже совершен, так что на долю тех, кто начнет после его гибели громоздить курганы из трупов, достанется лишь чудовищное подражание. Держа в руках свою коллективную смерть, словно чашу с собственной кровью, он как змею заклинал нетворческое, эпигонское время, убеждая его отказаться от бессодержательных копировальных замашек.
Самого важного обстоятельства Виткаций, однако, предвосхитить не успел, ибо оно не только опровергало Разумное, но и уничтожало все то, что дотоле было известно из области иррационального. Последнее, впрочем, – не более чем полярная разуму точка традиционной логической шкалы, тогда как речь уже шла об отмене всех привычных ориентиров и критериев распознавания сущностей. Дело в том, что истинное новаторство заключалось теперь не в самом факте гуртового убийства, которое случалось не раз, но в беспрецедентном количестве умерщвленных. Перейдя все пределы, убийство переставало быть подражательной философской банальностью по сравнению с самозакланием Личности, убивающей в себе тысячу душ. Непревзойденное своеобразие новой смерти состояло в том, что астрономически-массовая коллективность уничтожения делала невозможной спасительное посредничество одиночки, вознамерившегося взять эту смерть на себя, наподобие первородного прегрешения человечества. Привычная теология искупления, равно как и прочая «теология до концлагеря», устранялась отныне и присно. Добровольная крестная жертва, некогда ослепительно выделенная из безымянных толп, более не имела цены. Она вовлекалась в бесконечный ряд других жертв, растворяясь в их анонимности, как растворился в ней Виткаций.
Запальчиво разоблачаемый и по сей день нераспознанный в своей глубине афоризм о несостоятельности «стихов после Аушвица», по сути, трактует о том же. Индивидуальный миф – каковым в Новое время стала поэзия, – утверждавший свое совершенство в мире соразмерных пропорций и красочных иерархий, подорвался на минных полях обезличенно-статистических жизнесмертий и должен быть переосмыслен в эпоху ульев и муравейников. Нужны или совсем новые строки, невесть где рожденные и свободные от концлагеря, то есть от идеальной модели звериного царства количества, либо, на худой конец, обновленный и волнующе персональный, как компьютер, концлагерь – чтобы не застревал в частном певческом горле. Оба варианта кажутся маловероятными, что мы и видим на примере современных стихов, которые уже не возобновляют попыток побега из комфортабельных гетто. Их властью ничто более не свершается в этом мире, ибо они навсегда разминулись с ним в том самом месте, где лежали безымянные тела погибших во тьме, а стихи от рожденья привыкли оплакивать тех, кто имел при себе звонкое имя и красивую смерть на юру – скажем, Патрокла, или дипкурьера Нетте, или знаменитого матадора Игнасио Санчеса Мехиаса, пронзенного рогом после полудня…
В остальном же Виткевич свое будущее знал и был к нему хорошо подготовлен. Чужая судьба тоже открывалась ему как на ладони, благо испробовал он и хиромантию. Об этом, то бишь о зримо и массово проявленной участи, которая посильней будет гипотетических ужасов коллективного бессознательного, написан двухтомный роман «Ненасытность» (1932), дожидающийся русского перевода наряду с остальным вершинным Виткацием – вышеупомянутая подборка в «ИЛ», а равно и вышедший ранее миниатюрный сборник драматургии являются лишь случайной осколочной пропедевтикой к его фундаментальному критицизму.
В «Ненасытности» Станислав Игнаций сотворил все возможное, дабы читатель, не испытывающий специального тяготения к философии Гуссерля или Карнапа, проклял автора уже на десятой странице – описания извращенного Эроса начинаются несколько позже, да и от них проку мало, поскольку исполнена сия порнография в той же запутанной манере, что и весь текст, изобилующий к тому же фантастическими неологизмами. Виткевич, считавший роман жанром ублюдочным – емкостью для отбросов и «мешком всех вещей», достигает в этом тексте апогея инцестуозных слипаний: идеологии, совокупляясь друг с другом, рождают несчастных уродов. Если угодно, это вообще яркий образчик «инцестуозного письма» (пользуюсь термином, введенным в устный оборот Аркадием Неделем – философом из беэр-шевских пустых колодцев). События развиваются в условной Европе, подозрительно смахивающей на санационную Польшу Пилсудского; детали, однако, не столь и важны, потому что «будущее уже началось» и предназначено всем без разбора, стирая различенья частностей. Книга прочитывается как еще один системный отчет об упадке и разложении, в воронку которых втянуты прежде всего богема искусства и высшее офицерство: остальными слоями Виткаций справедливо пренебрег. Беспочвенное мышление и фальшивый католицизм соседствуют с наркоманией, эротика – с психопатичным смятением; смысл утерян, а свобода влечет за собой беспокойство, которое разряжается еще большей тревогой. Все подавленны и несчастны. Такова атмосфера. Дальше – интрига.
Оказывается, Запад окружен могучей армией панмонголоидов, контролирующих территорию от Тихого океана до хладного Балта, так что помимо общего сплина есть и конкретная причина хандры. Внезапно в города проникает легион бродячих торговцев, успешно торгующих чудодейственным снадобьем – экстрактом оптимистической «философии жизни», разработанным Мурти-Бинем, идеологом военизированных монголоидов. (Невозможно отделаться от ощущения, что Виткевич, который знал русский язык и даже, согласно легенде, участвовал в русской революции – он действительно провел эти годы в России, – если и не вдохновлялся пророчествами Владимира Соловьева о желтой опасности, то по крайней мере иронически экспроприировал лейтмотивный кошмар из белого «Петербурга», в коем трепет и дрожь пред туранской угрозой облекается видением новой Калки; «Скифов» же он наверняка прочитал вместе со всем своим поколением.) Каждый, кто проглотил таблетку, а число их растет день ото дня, переживает состояние непрерывного счастья и становится нечувствительным к метафизическому томленью души, отравлявшему чистую радость будней. Блаженству сопротивляются лишь незначительные отщепенские группы, которые в глазах ясного большинства предстают форменными безумцами. Нашествие желтолицых уже никого не пугает, и, дабы избегнуть ненужных волнений, главнокомандующий деморализованной армии Запада добровольно сдается в плен неприятелю, где его с величайшими почестями обезглавливают. С декадансом же как будто навеки покончено: упадочная музыка и абстрактные картины выбиты социально полезным творчеством маршей и фигуративным здоровьем агиток. Но ввиду того, что эффективность счастия со временем ослабевает и отреченная антропология невытравима, в мир, как закономерный патовый финал, нисходит мощная двояковыпуклая шизофрения, венчающая роман.
По мнению Чеслава Милоша, выраженному в публицистической книге «Плененный разум», Виткаций угадал все; чтобы понять, в какой ситуации оказалась после войны интеллигенция подсоветской Восточной Европы, достаточно перелистать Станислава Игнация. Волшебные таблетки Мурти-Биня аккумулировали бездонность искушения, а способ избавления от морока продиктован стародавней рецептурой – поддаться, чтоб не мучиться, и все забыть. «Ненасытность» может показаться гротескным измышлением, но весьма существенно, что в подкорке всех ее метафор болезненного беспокойства, помраченного блаженства и последнего забвения лежит доподлинность психоделического опыта: Виткаций годами экспериментировал с наркотиками, и прелести искусственного рая ему змеино нашептал свой собственный, а не книжный совратитель. Цель опытов (а он, пожалуй, первым – задолго до всяких кастанед – гениально застенографировал воздействие пейотля, и этот текст по степени проникновения сопоставим лишь с дивным феноменологическим этюдом Вальтера Беньямина, который описал гашишный экзерсис в Марселе) была объявлена так: избавить нацию от наваждений, включая и табачно-алкогольное, еще раз доказав их пагубность. Подчас его тревожила мораль и задевали слухи, которые вокруг него клубились, как цельное мифологическое предание. Истина же содержалась вот в каких суждениях: «В человеке есть известная неспособность насытиться бытием как таковым; она первична, необходимо связана с самим фактом существования личности, я называю ее метафизической ненасытимостью; если она не подавлена перенасыщенностью жизненными чувствами, трудом, властью, творчеством и тому подобным, то может быть отчасти утолена только наркотиками». В общем, он желал достигнуть края ночи – и в этом преуспел сполна.
Тот же Милош приводит в качестве эпиграфа к упомянутой книге слова «старого еврея из Галиции», которые в свободном переложении звучат примерно так. Если некто оценивает свою правоту всего лишь на 55 баллов из ста, этот человек заслуживает уважения. Если другой человек, который и в самом деле мудр, добавляет себе к этому числу только 5 единиц, значит, перед нами поистине редкое чудо, заслуживающее того, чтобы мы вознесли благодарность Господу. Но что нам сказать о том, кто берет себе три четверти правды? Это уже очень подозрительно. Зато все ясно с тем, кто уверен в полной своей правоте: он фанатик и отъявленный негодяй. Станислав Игнаций Виткевич во всем сомневался, а значит, сейчас – беседует с ангелами.
21. 03. 96
БЛАГОСЛОВЕНИЕ НАД СВИНИНОЙ
Райнер Мария Рильке – устами героя своей лирической прозы – говорил, что когда-то люди лелеяли гордую жизнь и тем более бережно содержали в себе незаемную смерть, каждый свою, так что ее невозможно было спутать с соседской. У детей она была маленькой, у взрослых большой и созревшей; женщины вынашивали ее в утробе, как плод, предназначенный будущему, мужчины – в груди, возле сердца, где у них помещалось достоинство. И когда наступало неизбежное время ухода, они обставляли прощальную церемонию так, чтобы она не сливалась с чередою минувших исчезновений, с их уже несколько потускневшим фоном, как тускнеет фамильный портрет, но просветила бы темноту внутренним свеченьем особости, будто фосфорический свиток, наконец-то развернутый и прочитанный до последней строки.
В дальнейшем идиллия лопнула, и Рильке одним из первых диагностировал то, что позднее предстало бесспорным и без стетоскопа, – коллективное общество выжрало личный жест с потрохами. Нынче любому не составит труда нотариально заверить банальнейшего из оракулов: персональная жизнь и воплощенно-личная, никакой посторонней кончине не равная смерть – в идеале, как у плененного короля пасмурным утром под барабан в знобящем соседстве чужого народа у плахи, все менее сбыточны на исходе столетия, перегоревшего словно стасвечовый вольфрам. Они отторгаются, как неправильно пересаженный орган. Застревают в зверином желудке эпохи. А потом зловонными мелкими катышками выпадают наружу, в осадок, бесцельно дублируя уже унавоженный перегной общей судьбы. Но мне не хотелось бы прибавлять свой частный голос и одинокую скудную влагу к штатным стенаниям легиона рыдальцев, наплакавших соленое озеро на тему восстания масс. «Сам я не отсюда», как надсадно поют в эту пору по русским грохочущим электричкам калики перехожие, а им лучше прочих знаком нервный узел существования, его голодный и жадный релятивизм: поезд ли движется относительно заоконных деревьев или промокший перрон – вдоль их нищенской милостыни. Все не так просто, и, похоже, наше славное время оболгано.
Наряду с опостылевшей стандартизацией, которая якобы превратила социальный пейзаж в муравейник, обесценив значение индивидуальных поступков, десятилетиями утверждала себя, пока не погибла от собственной неуемности, и совершенно обратная, как встречный состав, эпохальная тяга: в ней-то, сдается, все дело и корень вопроса. Оригинальные личные акции – ведь ясно, что речь идет об искусстве, – затруднительны сейчас вовсе не потому, что вокруг, мол, сплошной потребительский улей, либеральная звероферма и бесконфликтно-засасывающий супермаркет, в которых изнемогает любая художественная неповторимость, но потому, что самих этих своеобразнейших арт-усилий век накопил в опасном, беспрецедентном избытке. Последствия их закрыли собой горизонт. Безумное чаепитие в какой-то момент завершилось, и на долю поредевшей компании достался пасьянс из немытой посуды. Кажется, что все уже сделано, все идеи испробованы, и сколько ни размещай их в новом искусствоподобном контексте, результат будет один – повторение. Невероятная изобретательность мысли (складывается впечатление, что еще никогда, даже в самые творческие времена, искусством не было оприходовано столько возможностей) обернулась летаргическим сном и еще одним подведеньем итогов, но на сей раз конец света и вправду произошел. Изготовившись выкрикнуть в облака небывалое, ты немедленно убеждаешься, что эхо было заранее припасено вместе с воплем, записанным на магнитную пленку. Тебя манит достойная деятельность, и ее героическим смысловым увенчанием видится взрыв на собственной мине, однако активность, которую ты себе уготовил как новую, была уже прожита кем-то другим; что же касается мины, то поле ее не вмещает – нет там ни клочка свободной земли. Вот с каким чувством выходишь из монографии Стивена Файнберга.
Идеология постмодерна поспела исключительно вовремя, как суп в кастрюльке из Парижа и клубника к десерту наркома. Было объявлено, что коль скоро новаторство не получается (с этим фактом, к сожалению, трудно поспорить), значит, оно и не нужно. Достаточно будет и вышивки по великой канве, насмешливого отлаживания классических образцов. Нелепо, как иногда это делают, сравнивать постмодерн с тактикой серийности – тактикой бесконечного воспроизводства одной и той же концепции, чем занимались многие, например покойный Энди Уорхол или Христо, по сей день продолжающий пеленать природу с культурой. Они, по крайней мере, умножали свое, не чужое, и в основании их работы лежал титанизм прометеевского извода, а также ненасытность в духе Платона, побуждавшая репродуцировать замысел, словно некий возвышенный эйдос, несгораемую идею – скажем, идею тотального заворачивания всех наличных объектов – от моста и рейхстага до целого острова. Постмодерн тут ни при чем, он уникален, ибо впервые с непонятным злорадством провозгласил, что культура окончена и отныне не имеет ни явного смысла, ни цели, т. е. бесплодна и выморочна, как стремление заматовать короля двумя конями на опустевшей доске. Это беспроигрышная игра, в которой победить невозможно, и пусть ею занимаются те, кто от века привык хоронить своих мертвецов.
Но людям, в которых покамест не истребили желания творчества, трудно смириться с тем, что жизнь их ценится не больше, чем зеркальное отражение очевидного. Скорее они готовы стать удобрением – если, конечно, их убедят, что на почве столь доблестной самоотдачи стремительно вырастет очень полезный лопух, – нежели нищими на пиру, где им предстоит сражаться с собаками из-за объедков. Что им делать, когда все вокруг говорят, что они обречены на вечное возобновление пройденного, как неудачный Адам, вынужденный повторять имена, уже кем-то начертанные на табличках и бирках? Ведь бессмысленно прятать голову под крыло, убеждая себя и других, будто ничего не случилось. Выхода нет, слышится отовсюду, но он, как и прежде, – с другой стороны.
Выход связан с риском и жертвой – той единственной новостью, которой не суждено постареть и которую нельзя переложить на других, как натрудившую плечи поклажу. Давно было подмечено, что риском не делятся, а сполна берут его на себя, ибо щедрость здесь неуместна. Однако именно риск и опасность, будь то опасность для мысли или беззащитного тела (а в искусстве все решает сочетание двух этих угроз, их объединение в непереносимую федерацию) и сообщает поступку беспромашную оригинальность, потому что риск по природе своей неповторим, как неповторимы боль и страдание. Нельзя же сказать, что вот эта боль – отражение предыдущей и первообразной. Она так страшна, словно ее отродясь не бывало на свете, и тело переживает страдание как абсолютную данность, не задумываясь о канонических эмблемах мучений – разве лишь иногда обретая в них утешение, если мозг еще не вовсе затоплен. Одну только радость легко возвести к некоему надличному улыбчивому прототипу: все в этой веселой цепочке друг на друга похожи, наподобие близких родственников и счастливых семей, а болеют и страждут по-своему, без оглядки на признанные образцы.
Шварцкоглер, точно Аттис, оскопивший себя во время публичного представления, концептуально положил конец боди-арту, продемонстрировав предел телесного жеста, который в практическом толковании несчастного Рудольфа уравнялся со смертью. Дальше, по всей вероятности, было двигаться некуда, ибо тело, умертвившее себя таким образом, обозначило не только финал определенного направленья в искусстве, но в отчаянии заявило, что желает прекращения телесности как таковой, отказав ей в возможности размножения. Но остались другие тела, каждое со своей мыслью, мерой ответственности и болевым порогом, как, например, у Джека Бердена или Марины Абрамович: эти нетиражные качества и обеспечили их жестам своеобразие – на той территории, где уже трава не росла и земля не горела. Ты можешь сам, если хочешь, найти свою мысль и свою боль, и они никогда, как и всякая подлинность, не будут запятнаны грехом отражения и тем более плагиата (недавняя концепция «плагиата», делающая из собственных нужд добродетель, – плод безверия и усталого чувства). Подлинное – и есть риск и опасность. Сегодня они неизбежны для тех, кто не желает участвовать в погребальных процессиях живых мертвецов, без устали возобновляющих «тотальные инсталляции» и «инспекции». Сколь бы ни были велики ваши заслуги, хватит – вы слышите, хватит – прятаться в отработанном бутафорском материале народных судов, коммунальных квартир, глянцевых альбомов. Довольно холодных сеансов по наблюдению за бытовой дребеденью и спровоцированными реакциями «обывателей» – с последующим эзотерическим описанием никчемного опыта. Довольно словесной невнятицы, подменяющей прямое высказывание: время опять требует ясности, а не «Медицинской герменевтики». Признаем же, что этот комфортабельный путь ведет в никуда, а наглядное доказательство – наваленные по обеим сторонам дороги «объекты». Ни на минуту они не позволят забыть, что «курить хочется», как сказал Чехов, стоя перед тогдашней академической живописью.
И есть другой единственный выход, который заключается в том, чтобы вновь осознать, что искусство бессмысленно, если оно не опровергает свои же границы. Только сейчас понимаю – правильно нас учили в школе: искусство не должно быть для себя и в себе. Тогда оно теряет назначение, перестает вносить в мир исцеление, справедливость и счастье, в чем и состоит его цель. Йозеф Бойс, преподававший в Дюссельдорфской академии, говорил о смысле профессии: «Однажды большинство студентов осознает, что сильных художников из них не получится. Но даже если кто-то затем станет слесарем, другая – домохозяйкой, а третий, и это предел моих мечтаний, займется промышленным дизайном, то и в таком случае годы учения не прошли для них даром. Возможно, за это время они поняли из разговоров со мною, как следует воспитывать своих детей, и для меня это неизмеримо более высокое достижение, чем если бы я объяснил кому-либо из них, как стать великим художником».
Художник есть тот, кто обращает в искусство все, к чему прикасается: так иногда утверждают. Это прекрасный и покуда несбыточный комплимент, но в нем (полагаю, бессознательно) отпечаталось правильное понимание истинной сути и призванья артиста. Если бы он умел делать то, что ему вменяют в заслугу, он стал бы святым, коим и надлежит ему быть в этой жизни. Он освящал бы предметы легчайшим прикосновением, переводя их из пленного, падшего состояния в план исцеления, справедливости и любви. Он мог бы исполнять заповеди духом единым, не исполняя их во плоти. «Рабби, соверши благословение над свининой, и она будет кошерной», – сказано в притче. Именно так. В этом и заключается святость – в магической, сверкающей власти над предметами, в причастности чуду.
Святость – не обязательно «праведна», ее связь с «добродетелью» сложна и нередко побочна. Сострадание, доброта и другие эмоциональные проявления этого рода, подобно политике, лежат в сфере возможного и конституируют эту сферу; они повторяемы, воспроизводимы, более или менее доступны и предназначены для довольно широкого пользования. Святость же иррациональна, она есть качество сущностное, свидетельствующее о фундаментальной инаковости, об отрицании пространства возможного. Язык моральных понятий не приложим к этому безумному поведению. Святость не нравственна и не милосердна, она ослепительна, как ослепительно чудо. Вот кем мог быть художник. Ив Кляйн, Пьеро Манцони, так рано умершие, тянулись к этому идеалу, будучи твердо уверенными в необходимости волшебной, метафизической участи для артиста и его работы. Само тело художника, понимали они, в каждой своей клеточке должно быть священной субстанцией, целебной для всего, что в плену и в пыли. И когда Кляйн, обмазавшись краской, прислонялся к холсту, чтобы тот ожил и стал «светлым», когда Манцони решил раздавать свою кровь в аккуратных флакончиках, они оба стремились к тому, о чем нельзя говорить и что может быть только сделано.
Как достигается такая способность? Пусть ответит обладающий ею, но он промолчит. Вероятно, не выслугой лет. И даже немеркнущий вклад не подошьешь к этому странному делу. Нужно ли вымолить дар или он беспричинен – никто не скажет наверное. Об одном лишь допустимо судить хоть с минимальною долей уверенности: этой властью награждается тот, кто заведомо не рассчитывает свою траекторию – как бы ненароком не пересечься с опасностью. И готов расточать себя, не очень задумываясь о последствиях. В общем, понятно, о чем разговор. Который абсолютно не нужен, когда начинается время поступков. И напрочь улетучивается отвратительная дидактика, неведомо каким образом заползшая в эту заметку. Короче, благослови вон тот падший съедобный предмет, и он освободится. Сделай такую милость, любезнейший. Это будет поистине неповторимая акция. Время-то нынче обеденное.
17. 04. 96








