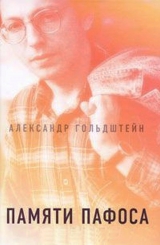
Текст книги "Памяти пафоса: Статьи, эссе, беседы"
Автор книги: Александр Гольдштейн
сообщить о нарушении
Текущая страница: 37 (всего у книги 40 страниц)
«ЛУЧШЕ ТАМ, ГДЕ ТРУДНЕЕ»
Беседа с Петром Мамоновым
Не убоявшись преувеличений, скажу, а если преувеличу, то занесите в пассив и, со всеми поправками, примите в расчет, что Мамонов – вымечтанный поколениями романтиков-символистов универсальный артист грядущего, из артистической расы, измучившей Блока провозвестием ритма, обещанием невесомой походки, да этого мало, поскольку с тем вместе Петр Николаевич традиционен и стар, будто неисследимый завет лицедейства в глубинах своих, давно же написано в книгах – у образов, забежавших вперед, есть второй, древний лик, которым смотрят вспять. Правильней выразить так: Мамонов натурально, естественно, как иногда пьют и едят, как он сам прежде пил, кладет в общий мешок стихотворение, песнь на ветру, гнутый крик, религиозное соблюдение телесных уставов, живую грязь, срамную правду, оторопь заборматывания, скоморошью панихиду, потом развязывает мешок, чтоб это-юродское-нечто, чтобы оно-невесть-что выползло через заплаты наружу, и русской идеи в том больше, чем в стенаниях про абсолютную родину. Петр Мамонов поет рассредоточенно-собранным организмом кромешного идиота (в полном объеме понятия, от значений привычных до лазурно-золотых, Достоевских), сующего персты в пробоины национальной души. Он хочет спросить, он тянется взять ответ, он держит слово не в идиоматическом смысле соответствия поступками своей речи, но в осязаемом, буквальном, как держат материальный предмет, ему не нравится, когда подошвами по пальцам. На другой день после спектакля (единственный показ в Тель-Авиве) автор сказал, что импровизаций бежит, все должно быть вызубрено к приходу тщательно подготовленных отклонений; это понятно, в основе его действий обряд, т. е. затверженность, а нарушения на поздних стадиях разрешены тому, кто досконально правит ритуал, кто посредством нырков и уходов усиливает канон или (может быть и такое) создает новый чин службы. В хаосе, обмолвился философ, читаются свидетельства еще не разгаданного порядка, существование подтверждает неподдельную искренность этой мысли.
Некоторое время назад Петр Мамонов, московский человек, насколько бывает московским наследный житель этого города, коренных мест его центра, в поисках чистоты переселился в деревню и там был встречен сельским языком, природой и народом. В деревне иначе, в ней рано встают накормить скот и птицу, свою пищу тоже сами себе подают, уже светлый час миновал, почитаешь из Писания, поработаешь немного над музыкою, стихом, вот и ночь, в трудах текут будни, и воскресения отдыха не сулят.
– Я хорошо устроился, – говорит Мамонов за чаем в приятном, с видом на улицу, аквариуме тель-авивского паба, – вокруг неописуемая красота, а раз в месяц играю, спектакль в театре (он также вывозит его за границу, наконец добрался до нас).
– Вы, страшно сказать, культурный деятель…
– Страшно сказать…
– Как бы вы охарактеризовали свою нынешнюю художественную работу, вероятно, сильно изменившуюся со времен «Звуков Му»?
– Не знаю, имею ли я право на такое суждение, но это исповедь, повествование о жизни моей и о том, как внутренняя суть овеществляется различными внешними формами, будь то группа или театр, неважно. Подход поэтический: мир и ты, хотя все Богом дается, а мы только передаем, так что наша заслуга очень невелика, лишь бы чище шло, и для этого над личностью своей надо работать, грязь из себя вытравлять, накопившуюся за долгие годы. И никаких образов, идей, это глупость, придуманная людьми, иной вопрос, дозволена ли мне исповедь. Однако ж, все просто и тут – справься с тем, что говорится в Писании, и если не нашел прямых слов, обратись к старшему, спрашивай у него. Мне предстоит испытание: я свой спектакль записал на видео и собираюсь показать тому, кому доверяю всецело, пусть он ответит, можно это играть или нельзя.
– А если скажет, что нельзя?
– Значит, нельзя, вот и начнется мука.
– Тогда вы не будете этим заниматься?
– Может, и буду по слабости, но, по крайней мере, зная, что неправильно живу, и рано ли, поздно ль, перестану. Под этим знаком происходят события, надеюсь, что все пройдет хорошо, что ему понравится… Сил мало, грешу постоянно, опять каюсь, снова грешу, очень тяжело. Мы же только выбираемся из ямы, сначала совсем было трудно, рвало на части, об этом надо рассказывать. Или не надо? Спящего не буди, проснувшегося накорми, но раз ты проснулся, раз уж в тебе засвербило, то принимаешься искать, тут и разгорается битва с ее микропобедами и падениями. Почему я об этом говорю? Оттого, что о том и речь: объединяемся на полтора часа, объединяемся не для зла, в радости, в смехе, это главное, и это, по-моему, на спектакле достигалось отчасти, пусть падало, но было. Я абсолютно искренне, без лукавства считаю, что мы вместе делали дело, моя рука встретилась с протянутой из зала (Мамонов сцепляет кисти рук, изображая единство . – А.Г.), остальное чепуха, так я думаю.
– Один человек, чье имя вам, по-видимому, известно, но называть его необязательно, произнес в частной беседе, что в искусстве его увлекают либо вещи герметичные, либо массовые, а Мамонов, идущий по смешанному, третьему пути, интересует его меньше. Как вы относитесь к этим словам?
– Да никак. Я честно выражаю то, что во мне совершается, как мой дух себя чувствует, болен он или радуется; я всего только умею открыться, выставить антенну, это мне дано, это я в себе технически развил. А мнения, комментарии… Лучше, чем что? Хуже, чем что? Не тянется оттуда рука вашему знакомому, может, я виноват, а может, и он – неизвестно. Гадать нечего. Со мной сейчас ужасное происходит, беру, например, русскую классику, раскрываю, а все кончилось, ничего из нее не идет, хотя уважаю и помню по всем годам жизни, вырос на ней, на этом ряде имен.
– Откуда в таком случае «идет», если не секрет?
– Из Писания, из творений святых отцов, здесь нахожу ясные, внятные, прямо ко мне обращенные ответы, – как дальше жить, чтобы не обидеть товарища и злость, гордыню свою чуть-чуть примять, в самом прикладном виде ответы, это для меня самое важное. Уж коли мы замечаем зло, то оно в нас гнездится, а когда мы закроем в себе злое место, все будут нам хороши; этим бы заняться не а-на-ли-зом чужих действий. Но бывают очень полезные отзывы, безо всякой обиды (смеется). Недавно прочитал в одной энциклопедии замечательную фразу: «„Звуки Му“ – коллектив, компенсирующий отсутствие тестов и музыкальной одаренности театрализацией зрелища». Совершенно верно! Вот это оценка! Прочее вздор, ерунда; не ерунда – две руки, друг дружку нашедшие по законам неведомым, скрытым от нас, и есть люди, способные передать эмоции, впечатления, чувства, проводниками которых они служат.
– Хотелось бы знать, Петр, какие участки искусства сохраняют для вас, несмотря ни на что, свою притягательность.
– Не сохраняют, в этом все дело, я даже музыку дорогую для меня, старую все меньше и меньше воспринимаю, не выходит. Ну, предположим, любимейшая песня «Холлис», «I take what-want», быстрая, энергичная, хорошая – вылетела из списка слушаемых мною, и по одной-единственной причине, из-за слов «I want you». Я не ханжа какой-нибудь, но нет, так не могу, не могу. Сам такой, гадости всяческие в этом роде мне свойственны, а все ж принял, что так поступать грех, и песни любимые, где есть «I want you», я выкинул, блин, ничего не поделаешь (весело смеется). Прежняя часть меня об этом жалеет, новая радуется, так и живу, раз начал, терпи, пошел – иди. Твор-чес-тво? Что творчество… Собираюсь программу сделать про то, как вера во мне появилась, как мучаюсь, хочу простым языком, не этими гимнами, рассказать о колебаниях между светом и грязью – полегче, полегче. Жить надо трудней, а в искусстве легче должно быть, там шлак в основном, редко что не остывает, редко что долговечно.
– Негреховная жизнь, в вашем понимании, это…
– Нет у меня понимания! Все написано в книгах, все перечислено, мы как школьники их листаем, читаем. Все, повторяю, расчислено, любой шаг твой возможный, мы отлично знаем, как нужно вести себя, только сил нет у нас, слишком втянуты в привычки, удовольствия, влипли в них.
– Вы, на мой взгляд, одна из самых национально-русских фигур, такие были в художественном мире России последних десятилетий…
– Просто человек, различия между нами – имя-фамилия, не больше ничуть. Границы умышленно нарисованы, города принуждают, поди туда, купи то, тюрьма, зона, неправильно это.
– Изменились ли ваши отношения с персонажем, героем?
– Это все я, у меня нет героев.
– Раньше, лет пятнадцать назад, «истина масок» осознавалась вами в том же семантическом ключе, что и сегодня?
– Да, конечно, это мысли мои во плоти, материальные воплощения духа, происшествий сознания, ну а специальные формы, мной избиравшиеся, – эксцентричные, клоунские… Я очень люблю, когда меня называют клоуном, я в действительности клоун, если уж разносить по категориям, шуты всегда были, чтобы правду сказать, и, глядишь, моя правда окажется частичкой правды общей, мировой, и может, кто-нибудь убедится: э, смотри-ка, я считал, со мной одним такая дрянь, а с этим дядькой тоже… Стараюсь честно рассказать обо всем, для этого я здесь нахожусь, я это ощущаю, уже взрослый, чтобы понять, догадаться, прикинуть.
– В одной из сравнительно недавних ваших работ воспроизводится запись беседы Соломона Волкова с Иосифом Бродским, подвергнутая издевательскому препарированию. Суждения знаменитого поэта, пропущенные через студийную мясорубку, теряют свою патрицианскую элегантность, уподобляясь речи обычного мамоновского идиота, но с чрезвычайно существенной разницей: своему персонально-персонажному дураку вы симпатизируете, жалеете его, Иосифу же Александровичу от вас достается сурово – глумитесь.
– Это не нарочно, я, по-жаргонному говоря, прикалываюсь, играю все время; грусти, серьезного подхода у меня без того хватает, так давайте и поиграем еще, не все ли равно с кем, с Чеховым, как в спектакле, или с Бродским. Я же не пародирую, не издеваюсь, я беру их, будто кубики, сопоставляю, складываю по-дизайнерски; сам я мало чего делаю, предпочитаю работать на готовом материале, сам я – нескромно звучит – одухотворяю их, заставляю двигаться, петь, танцевать, такие куколки мои.
– Поддерживаете ли вы связи с московской художественной средой, с той, что была прежде, в дни вашей молодости, либо с нынешней, новой?
– Я один живу, но прочитал сегодня, что это плохо. Знаете почему? Потому что на людях выявляются твои немощи, а если будешь один сидеть, то будешь неплодоносен. Прекрасные, точные слова. Одному-то хорошо сидеть, деревня, домик, студия рядом, слушаешь музыку, мнится тебе, что ты уже чист. Ты попробуй ни на кого на людях не озлиться, чуть столкновение малейшее, пьяный дурак задел, и видишь: э-э, сразу все в душе поднялось. В обществе это случается очень часто, в обществе сложно избежать раздражения, посему настоящий уход в молчание, в одиночество только тогда достижим, когда добивается человек определенной степени совершенства, смирения в первую очередь. Надо постоянно думать, что ты хуже всех, и если так думать без внутренней лжи, что, конечно, не получается, то можно будет ни на кого не злиться, и ко всем прислушиваться, и ни на чем не настаивать – дескать, я говорю, а ты молчи. Страшно трудно это в нашей практической жизни (смеется), зато имеется цель.
– Искушение одиночеством и молчанием присутствует?
– Бесспорно, но раньше я полагал, что это «благие порывы», а теперь прочитал, что, оказывается, это есть искушение, вы верно подметили. Нет, рассуждать о том не дело мое, в Божьей воле пребывать – наша задача.
– Не притягивает ли вас, пусть изредка, оставленный город, этот соблазн одолеть удалось?
– Наоборот, город отталкивает; суета, неправда, миллион людей, у каждого собственное мнение. И не просто отталкивает – безумие. Бе-зу-мие. Это не значит, что следует немедленно бежать, расселяясь на природе, но мир болен, больная вещь, да и чего от мира требовать, коль скоро это место нашей ссылки. Ну, можно потребовать, чтобы в камере было прибрано и телевизор поставили, хотя у нас, в России, камеры грязные и телевизор лишь у богатых.
– С имущественными, денежными вопросами вам часто приходится сталкиваться?
– Не помышляю о завтрашнем дне совсем, этого состояния уже достичь удалось, что Господь даст, то и будет, даже о безопасности своей и близких не думаю; не от нас оно зависит, только мы сами зависим от нас. Как сказал по радио один компьютерный инженер, мне понравилась эта фраза, подлинное будущее наступит тем скорей, чем быстрей мы осознаем, что наша власть распространяется лишь на самих себя. Мне представляется, что это идея будущего, и если люди хотят не просто участвовать в совместных гонках, но двигаться навстречу друг другу сердцами, им придется сосредоточиться на собственных бедах. Я имею в виду внутренние беды каждого из нас – нам же все про себя известно, наша совесть все знает, и когда ложишься один и по совести себя спрашиваешь, без подкладываний, без смягчающих обстоятельств, через несколько минут приходит ясное понимание. Делать трудно, но понимание есть.
Грустно, да? Так наша жизнь невесела, и вправе ли человек предъявлять к ней претензии? Мы в Денвере, Колорадо, сидим как-то после кино в ресторанчике, покушали, я и спрашиваю помощника режиссера: «Ну ты, Джордж, чо? Щас куда?» А он весь такой аккуратненький, плотненький, волосы зализаны, лет тридцати пяти (Мамонов жестами и междометиями показывает Джорджа, публика в пабе хохочет. – А.Г.), весь такой – эх! эх! – откликается: «На дискотеку! До трех!» Ни капли спиртного. Не курит. Потанцует. О-па! Нормально! И спать. И свеженький на работу. Во коронка, этак можно тоже. Рад бы, да не выходит, то напьешься, то накуришься, некогда по дискотекам бегать, много дел у меня (смеется).
– Западный стиль существования, судя по всему, не вызывает у вас восторга?
– Мы в Германии, куда привозили спектакль, встречали благополучнейших, по первому впечатленью, людей, у которых имеется все, сбылись мечты. Дом есть? А как же, тот же, что и у Фрица. Машина? Вон стоит, рядом – жены, и сыну купим, и лодка для речных прогулок, и на теннисный корт записаны. Дальше что? Неизвестно. Они и бродят малость обалдевшие, как же радовались они нашему приезду, наконец хоть что-то случилось, у них ведь ничего никогда не происходит. Западный стиль – достаточно удобная схема для проживания в мире, где все еще очень много зла. Но если вы надеетесь, что сначала накопите и затем уж займетесь духом, то вы заблуждаетесь, душа ваша к тому времени опустеет или зарастет. А в нищей русской деревне люди веселые, друг другу улыбаются: «Зин, я к тебе иду огород копать. – Да ничего, спасибо, я справлюсь. – Иду, иду». Доярка у нас работает за два доллара в день, это еще при удачном стечении, а то и за доллар, за тридцать рублей, ну и нормально. Здесьпуть, в самоограничении. Конечно, это происходит волей-неволей, помимо желания (смеется), но так Господь управляется. Лучше там, где труднее.
Вспоминаю счастливейший свой период, нас в молодости за драку посадили на пятнадцать суток, и когда вышли мы из тюрьмы, не нужны нам были ни удовольствия, ни женская любовь, ни дети никакие. Потом ощущение заросло, затерлось, замылось, но все равно: возвышает и освежает беда, это твой аванс на будущее – беда, в ней вероятность твоего исправления.
– Петр, насколько успешно протекает ваша борьба с личными грехами и пороками? С той же злобой, о которой вы упоминали не раз, с гордыней? Неужели и пить бросим?
– Зря вы улыбаетесь. Я пить больше, чем маму, любил. Злость, гордыня… Однажды в городе выхожу на балкон, напротив – почти незнакомая соседка с фотоаппаратом, так по-свойски, так повелительно мне говорит: «Ну-ка, Петя, давай, повернись, я тебя сфотографирую». В ярости возвращаюсь назад, в комнату, какой я ей, к черту, Петя, а она укоризненно мне вдогонку: «Эх, Петруха, Петруха…» Прежде долго бы сидел, гневаясь, теперь же за десять минут сняло, потому что ненавидеть надо не человека, а грех. Что с нее, бедной, взять, несчастная актриса какого-то московского театрика, выбилась из провинции, головы на плечах нет, «Петруха, Петруха», оказывается, из «Белого солнца пустыни», ей этими словами утешить меня захотелось. Вот как это к жизни прикладывается…
Бывают и трудные случаи, допустим, подъезжаешь к остановке встретить жену, а ее бьют. Что делать? Первая реакция – отоварю козлов, так ведь нельзя по моему закону. Но и на эти случаи в книгах предусмотрен выход, я сталкивался с подобным. У нас есть в деревне центральный пункт, ну, где винный и прочее, подкатываю к своему товарищу, он стоит чинит машину, и с ним один пьяненький, но, видать, мастер, из понимающих, то-се, карбюратор (Мамонов гнусавым голосом и ужимками показывает пьяненького, публика снова хохочет. – А.Г.). Я только приятеля позвал: «Саш», как вдруг меня мужичонка: «Да пошел ты!..» Смял себя, отъезжаю, прикидываю, как он посмел. Поворачиваю обратно, чтобы с ним разобраться, тут мысль-сомнение и закрадывается. Предположим – в героическом, самом выгодном для меня варианте, что я учу его уму-разуму, он остается лежать в луже крови, я возвращаюсь победителем. И каков результат? Избиваю мужичонку, для которого эта ругань обычный язык, он и в толк не возьмет, что сказал нечто предосудительное, а его невесть откуда взявшийся городской тип непонятно за что опрокидывает. Я ж потом неделю мучиться буду… Не годится, смиряю себя, обдумываю второй вариант. Так гораздо лучше: я прощаю его, на душе веселеет, не дал разгуляться в себе старому естеству идиота, да и он – бывают же исключения, один из десяти или из ста – внезапно догадывается, что нехорошо человека матерно посылать. Уже два плюса вместо глупой драки и раздора.
Когда прикидываешь, что будет, гораздо легче предпринимать любые шаги, ибо ясно становится, почему ты так поступаешь: не по сердечному движению даже, но точно и по-мужски, на основании четкого выбора. Больше того, понимаешь, отчего ты, отставив другое, выбрал именно это . Все мы грешные, как мы еще живем? Лишь праведниками и держимся, я в этом твердо уверен.
22. 02. 2001
«ХУДШИЙ ГРЕХ – ПРЕДАТЕЛЬСТВО»
Беседа с Алексеем Хвостенко
Старый анекдот об Орсоне Уэллсе, выступающем в захолустье. Промозглый вечер, дождь моет окна скверного зальчика, народу в креслах кот наплакал, поеживающийся на сцене гость хмуро, с видимым отвращеньем к событию перечисляет свои регалии режиссера фантазий, сочинителя слов, разведчика происшествий, не попираемого судьбою актера, но вдруг, дойдя до крайнего, надо думать, раздражения на действительность, выкрикивает: «Теперь вы убедились, как мало здесь вас и как много меня?»
Алексея Хвостенко без преувеличения сонм – художник, поэт, драмписатель, рапсод, и публика на концерт к нему валит толпой, ибо ей мил самый облик артиста, русского странника, петербургского песнопевца духовного, траченного дорогами битника, к чьей коже и дхарме льнут растущие на кладбище паровозов подсолнухи, что в православной и западной своей совокупности, в этой сумме без прописи, дает совершенную, почти уже выбитую, почти не встречаемую уже чистоту богемного типа – от корней первородных, родительских, из классических жизнетекстов.
Из этой незамутненности весь антураж, реквизит и потребительский максимум, батарея красного сухого и очень много крепких сигарет – по слухам, чтобы справиться со сверхнормой, Хвостенко научился курить во сне, а организм притерпелся, он ведь не тот, что у прочих, другой, изредка такое случается. Михаил Таль назло больным почкам и в сумасбродном загуле достигал озарений, староиндийскую черными вел на едином вдохе табачном, едва касаясь пальцами фигур, так что юный пророк германской романтики, на него глядя, лет двести назад констатировал: не все люди должны быть людьми, в человеческом образе подчас живут существа совсем иные, чем люди. Надрыва у Хвостенко при том нет в помине, нет и вульгарного самовыставления, специальных растерзанных поз. В нем естественность парижского речетворца-сектанта в штормовке, скитского шансонье стихов и молитв. И радость, спокойное, с удивлением смешанное восхищение, тихий восторг, что жизнь одаряющая продолжается около четверти века во Франции, как длилась она, столь же щедрая, раньше, когда в ленинградском, к примеру, служил поэт зоопарке и вместе с другими работничками получал для питания мясо павших или забитых зверей; макабрическую эту историю Алексей рассказывает невозмутимо, застольно, очень кстати ее сервируя к свежей кондитерской выпечке и вину, умудряясь никому не отбить аппетит – безукоризненная аранжировка подробностей позволяет куску быть проглоченным. За тем же столом, на квартире Ирины Врубель-Голубкиной и Михаила Гробмана, старинных друзей Алексея Хвостенко, и состоялся наш разговор. О себе собеседник повествует не так чтоб с охотой, стоит ли о себе, если есть город, музыка, поэзия и Европа.
– Чем для вас, уже старого эмигранта, обернулись Париж и многолетнее обитание в нем? Сохранилась ли эмиграция как историко-культурный феномен или все бесповоротно закончилось с падением занавеса?
– Первые несколько лет были сном, галлюцинацией, сейчас уже нет, это мой мир, все мои дети, за исключением старшего, во Франции родились. Конечно, Россия – страна происхождения, я русский, чего никогда не скрываю, французом не стал и всюду, где бы ни оказался на Западе, ощущаю себя иностранцем. Должен заметить, что положение иностранца мне очень нравится, в нем что-то есть, увлекательно быть немного другим, чем все. Русское присутствие в Париже за минувшие годы изменилось значительно, сперва приехали представители довольно определенного слоя, в основном диссидентского, которые пытались разобраться, кто из них какую позицию занимает, у кого какой статус, и делили деньги, перепадавшие от западных государств и правительств. Дома ничего подобного и в голову прийти не могло, там они были объединены хотя бы общей неприязнью к советскому режиму, за границей же начались новые игры – каждому нужно было устроиться так, чтобы неприязнь эту проявить как-то по-своему, получив и свой кусок пирога. Я от этого раз и навсегда устранился, твердо решив ни в чем таком не бывать; вместе с Володей Марамзиным мы на собственные деньги затеяли издавать «Эхо», литературный журнал, ну, а кроме того, занимался я живописью, писал стихи, пьесы, ставил их в разных странах. Нынче страсти поутихли, все, без ограничения и цензуры, печатается в России, необходимость в «Эхе», просуществовавшем десять лет, отпала. Это к вопросу о феномене эмиграции… Не знаю, сколько отстегивают теперь русским писателям в Москве, Петербурге, но, полагаю, поболее, чем у нас, я на литературе уж точно ничего не заработал, деньги добываю продажей живописи, скульптур, сейчас и песнями немного, выступлениями.
– Из кого состоит в настоящее время круг Хвостенко?
– У меня огромное количество друзей, к большому удовольствию моему, приходит масса молодежи, а поскольку я, вовсе не помышляя о том, неожиданно приобрел репутацию дедушки русского рок-н-ролла, то возникло множество поклонников, фанов, общение со мной стало лестным – поиграть, записаться, просто поучаствовать в моей деятельности. Молодые ребята, как правило, еще вполне безвестные, я их стараюсь поддерживать, вытаскивать на поверхность, что происходит повсеместно, во Франции, в Англии, Америке, Германии. Не уверен, можно ли это назвать кругом, скорее богема, я и сам богемный человек, не социальный, не официальный, вот и собираются они возле меня.
– Судьба иных, и даже очень заметных, людей русского искусства, переселившихся в Париж в 70-е годы, выдалась ничуть не легче той, что подстерегла бы их полувеком раньше: Николай Боков сидел на улице с протянутой рукой, обстоятельства Владимира Марамзина пусть не столь пугающие, но тоже, говорят, не из лучших…
– Володька бросил писать сразу по приезде во Францию, от литературы фактически отказался, а к России у него с годами развилась форменная ненависть; когда его там печатают, как водится, без спроса, он испытывает ярость. У Бокова сложная участь. Коля впал в мистическое христианство, ездит по монастырям, вымаливая прощение за грехи, совершенные в прежней жизни, за то, что занимался авангардной, неправильной, по его убеждению, литературой. Печатает правоверные заметки о своих странствиях, про общение со святыми старцами, мне это чуждо.
– А как словесность это значительно?
– Сомневаюсь, вряд ли. Даже Стас Красовицкий, бывший для меня одним из поэтических учителей, после религиозного обращения такие начал стихи сочинять, что их, по чести, стыдно читать. Кое-что, наверное, в них от Красовицкого осталось, но все равно – горько и обидно, не пойму, зачем он их пишет.
– Вы произнесли, правда цитируя чужую жизнь и чужие высказывания, слово «грех». Интересно узнать, что является грехом лично для вас и не изменились ли с течением времени ваши о том представления.
– Я никогда не был моралистом…
– Вот-вот, без всякого морализма…
– Ну, подойти можно по-разному, допустим, с точки зрения традиционной, будь то десять Моисеевых заповедей или римское право. Сам я себя грешным человеком не считаю, других тоже остерегаюсь судить, осуждать; что же до вещей безоговорочно для меня неприемлемых, того порога, который, по-моему, нельзя переступать, то это предательство. Да, в первую очередь предательство, вот, наверное, единственный грех, не прощаемый мною людям. Не укради? Не прелюбодействуй? Не думай плохо про Господа своего? Эти мысли нас могут часто посещать, и только предательство абсолютно недопустимо, я не хотел бы, чтобы моя совесть была им отягощена. В памяти остались даже малолетние, детские прегрешения этого рода, глупо как будто сегодня их вспоминать, но они тем не менее глаза мне открыли.
– Что служит для вас нынче критерием поэтического, идет ли речь о стихотворном тексте или о любых прочих, в чем бы ни выражались они, предметах и состояниях, сталкиваясь с которыми внезапно осознаешь их неприкровенно поэтическую природу?
– Я живу как поэт и переживаю эту реальность поэтически, что бы ни происходило со мной, есть, так или иначе, факт моего поэтического бытия. О методах своей работы, о стихах своих я говорить сейчас не буду, скажу лучше о том, как понимаю развитие европейской поэзии. Поэзия европейская насчитывает три эпохи: первая, самая важная по значению, связана с именем Гомера, вторая определена творчеством Данте, третья, мне представляется, открылась Велимиром Хлебниковым, создавшим не только произведения нового типа, но и явившим новое отношение к слову и к действительности, а также, что первостепенно, новый образ поэта. Я не исключаю, что были авторы более талантливые, более пронзительные или более удачливые, чем он, и, однако, Хлебников олицетворяет для меня абсолютную небывалость, еще далеко не закончившуюся, разве что третье тысячелетие предложит свою неизведанность. Он показал уникальный пример того, каким может быть человеческое существование в поэзии и в мире, пример того, что существование это может быть принципиально другим, нежели виделось до Велимира. Общеизвестно, что Гомер – отец европейской словесности в целом, что Данте заложил основу христианской поэтической традиции – правда, трубадуры начали свою работу раньше, и все-таки именно на долю Данте Алигьери, ее подхватившего, выпало быть создателем этой мощнейшей линии. И уже в XX веке пришел Хлебников, удивительный персонаж истории, о котором следовало бы говорить очень много и долго. Это мое отдельное мнение, я настаиваю на нем.
– Любопытно, что две из названных вами трех фигур были вовлечены в непосредственность действия, в борьбу своего времени и очень страстно сражались словом и делом, участвуя в распре гвельфов и гибеллинов, в Октябрьской революции; этот неслучайный момент мистико-политического напряжения, спиритуального воодушевления и разгоряченности от участия в событиях вами тоже учитывался, как-то на ваш выбор влиял?
– Я не стал бы определять так вот прямо, собственно поэтическая суть личности для меня гораздо важней социальной. Если Гомер поведал мифологическую историю человечества из глубин зарождавшегося сознания европейцев, если Данте говорил от лица складывавшейся христианской литературной традиции и сознания, то Хлебников, по-моему, стал строителем современного авангарда, аутентичной поэзии, базирующейся на личности, на ее необычайности, исключительности.
– Все трое – объективные авторы, формовщики огромных самостоятельных миров и, при всей лирической силе их дарований, при всей достигавшейся ими во множестве текстов проникновенности (применительно к Данте и Хлебникову это корректное утверждение), отнюдь не лирики, не адепты индивидуальной чувствительности.
– Объективность мне ближе, а прекрасных лириков была масса; никто уже, по счастью, никого не выбрасывает на свалку истории, все они с нами, от самых старых и древних до елизаветинцев; до людей нашего века. Благодаря развитию книгоиздательства удалось познакомиться с восточной литературой – особая страна со своим знанием, философией, иное дело, должен ли поэт включать в стихи философию, на сей счет разное было сказано. Для Йейтса это было излишним, он писал, что поэт философию должен знать, но в стихотворную ткань ее не впускать, другие декларировали другое.
– Есть ли у вас какие-то привязанности в современной русской поэзии? Кого отличаете, в ком разочаровались? Хотелось бы ознакомиться с вашим вариантом иерархии, расстановки сил на нынешней карте.
– Мне уже по той причине трудно выстраивать иерархии, что с большинством заметных людей в современной поэзии я хорошо знаком, мы довольно близкие друзья, как это было с Бродским, с которым приблизительно в одно время начали писать стихи. Я тогда больше занимался живописью, скульптурой, поэтому он для меня в том, что касалось стихов и самого поэтического отношения к миру, был образцом. То же самое Толя Найман, Бобышев, Володя Уфлянд – старые друзья мои, с которыми долго общались и, так или иначе, пытались сообща создавать новую русскую литературу. Это не значит, что принадлежали мы к одному кругу, но близки были точно; потом более молодые явились, Эрль и компания например, называвшие себя «хеленуктами». Я склонялся к школе абсурдной поэзии, к элементу игры, действительность ведь настолько была непристойной и неприличной, настолько не укладывалась ни в какие нормальные рамки, что о ней не хотелось ни толковать, ни рассуждать (смеется). О чем угодно, но не об этом… Сейчас Виктор Кривулин социальные пишет стихи, выступает со статьями, в те времена на эти темы и высказываться-то невозможным считалось.








