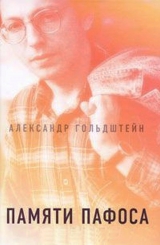
Текст книги "Памяти пафоса: Статьи, эссе, беседы"
Автор книги: Александр Гольдштейн
сообщить о нарушении
Текущая страница: 36 (всего у книги 40 страниц)
– Тем не менее ты живешь в умственном центре мира и, похоже, собираешься жить в нем и дальше, несмотря на перечисленные тобой прискорбные черты. Этот город, вероятно, затягивает?
– О, да. К тому же, коль скоро не в моей власти что-нибудь поменять – я чужак, аутсайдер, иностранец в Париже, правильной стратегией будет воспринять ситуацию под знаком того интеллектуального опыта, каким он тебя наделяет и который может очень дорого тебе обойтись. Индифферентное созерцание ведь невозможно, да и неинтересно. И почему бы не увидеть в парижских сложностях, в процветающих там чрезмерно запутанных формах увлекательный биографический эксперимент? Ты сам, кооперируясь с обстоятельствами, ставишь его над собой, и, кто знает, не окажется ли он полезным, даже необходимым. Вдобавок время отчужденного философствования прошло. Постмодернизм заслуживает суровой критики, но после него уже нельзя отстаивать фундаментальное различение текста и тела, нахождение на нейтральной полосе между своей мыслью и своим человеческим бытием. Эта нерасторжимость способна побудить к новой философской активности, к достижению новых результатов, и пусть никому не ведомо, какими они окажутся, ради будущего эксперимент стоит продолжить.
– Один характерный штрих выделяет тебя из бесконечного ряда молодых людей, пытающихся завоевать Париж. Ты, мало сказать еврей, ты, что еще хуже, израильский гражданин, французские же интеллектуалы к этой породе благоволят не слишком. Мишель Фуко, едва ль не в единственном числе занимавший произраильскую позицию, под конец жизни именно из-за ближневосточной политики разругался с носителем общего мнения Жилем Делёзом. Чувствуешь ли ты на себе специфические идейно-эмоциональные излучения?
– Честно говоря, нет. Открытого бытового антисемитизма в парижской интеллектуальной среде я не встречал. Конечно, немало людей может не любить евреев, или они настроены пропалестински и не делают секрета из своей неприязни к Израилю, но это не становится реальной помехой на пути твоего самоосуществления в их обществе. Что касается Фуко и Делёза, то надо иметь в виду следующее. Делёз, разумеется, не был бытовым антисемитом – масса еврейских знакомых, с тем же Деррида он поддерживал дружеские связи. Расхождения подобных людей определяются не их юдофобией или юдофильством, анти– или произраилизмом. За всем этим у личностей такого калибра стоит их собственная интеллектуальная стратегия, и если кто-то позволяет себе антиеврейские, антиизраильские или, наоборот, антиарабские высказывания, заявления, действия, то их нужно рассматривать как некий ход в игре – в игре, которая ими очень хорошо продумывается и с политической, и с философской точки зрения. Искать в их словах всамделишную ненависть к евреям, Израилю, сионизму было бы неверно. Они, повторяю, стратеги и игроки, отлично просчитывающие свои ходы. Мой нынешний руководитель, профессор Сорбонны Жан-Люк Марион, – верующий католик и советник одного высокопоставленного парижского католического иерарха – открыт для разговора с представителями любой культуры, открыт искренне, сердцем. У него есть аспиранты из Ирана, арабских стран и я – из Израиля. И таких, как Марион, в той же Сорбонне много, я пожалуй, не назову там никого, кто был бы маркирован своими антиеврейскими настроениями. В этой области причин для волнения нет.
11.11. 99
ТРИ ЖЕРТВЫ
Беседа с Михаилом Гробманом
В разговоре с Михаилом Гробманом не миновать рассуждений о славе и справедливости. Он любит касаться их чувством и разумом, ему, кажется, внятно содержание этих понятий, толкуя которые словари сообщают все, кроме главного: отчего некто, имеющий много достоинств, известностью обойден и, следственно, по его, обделенного, мнению, терпит урон от неправды, тогда как другой, с десятикратно меньшими дарованиями, в течение целой жизни своей не покидает арены скрещенных лучей – вот что хотелось бы уяснить. И попутно осмыслить, не является ль благом именно эта оскорбительная конструкция сущего, ведь если бы мир был создан иначе и базировался на педантичнейшей закономерности воздаяния, человеку пришлось бы столкнуться с непримиримым ответом действительности на каждый, без исключенья, поступок, а это сулит куда худшие огорчения. Недавно, напоминаю я Гробману то, о чем он не забывал, в петербургском Русском музее прошла ретроспективная выставка произведений его за четыре десятилетия работы в России, в Израиле – честь, которой удостаиваются единицы. Вопрос мой – что, выражаясь по-гоголевски, предносилось воображению автора на открытии, какие эмоции им владели: удовлетворение ли от правильно розданной биографической партии, ощущенье ли вовремя, не загробно достигнутого признания, т. е. лично и кровно завоеванной справедливости?
– Слава и справедливость ощущаются на далеком от них расстоянии, на дистанции недостижимости. Они подобны раю – попадая в него, убеждаешься, что никакого рая нет, только сытая жизнь да бродят избранные гурии; я говорю абстрактно, не о себе. Справедливость покамест оставим в покое, это особая категория, а относительно славы скажу, что осознается она лишь в том случае, если принадлежит кому-то другому, например наблюдаемому по телевизору очередному герою мирового хозяйства. Истина тоже не дана в конкретном обладании, по направлению к ней можно двигаться, никогда ее полностью не обретая, так что мое присутствие на петербургской выставке, а были и другие, аналогично желаемые и несбыточные для большинства художников, словно само собою отодвигалось в сторону и не позволяло проникнуться им как моментом успеха. Короче, богатые тоже плачут – это очень точная формула.
– Тем не менее людей, связанных с публичной деятельностью, с выставлением продуктов своего труда на всеобщее обозрение, состояние славы интересует чрезвычайно.
– Интересует – возможно, но нормальный человек этим не занимается. Художник не занят добыванием славы и денег, они – побочный результат его работы…
– Не мне вам говорить, что XX столетие явило яркие образы артистов, акцентировавших свои усилия на зарабатывании успеха и приписывавших этой деятельности художественное содержание, – тот же Энди Уорхол, допустим, который утверждал, что известность и богатство суть неотъемлемые компоненты современной эстетики и доказательства его, Энди, могущества именно как творца.
– Уорхол меня волновал слабо, хотя поп-арт, бесспорно, явление замечательное. Конечно, в наши новые времена мы нередко видим персонажей вполне ничтожных и весьма знаменитых – сама их слава оказывается фактором, имеющим вес. Уорхол, полагаю, это хорошо понял и начал работать с мотивом безграничной популярности как с художественным материалом, но он же не стал от этого лучше, чем Раушенберг, Джаспер Джонс, Лихтенштейн, да и умер он, бедняга, до обидного рано, с такими-то деньгами мог бы уберечься от напасти. Меня слава интересует лишь постольку, поскольку к обладателю ее прислушиваются, а так – не дозвонишься, не достучишься. Миром правит пошлость, хочется выкрикнуть против нее резкие слова, и только высказывания человека известного будут встречены со вниманием. Сами по себе слава и деньги – херня, но они придают твоему голосу силу, вот в чем их смысл.
– Что вы подразумеваете под пошлостью?
– Это стремление к благополучию и комфорту любой ценой, это невыносимо раздутые репутации…
– Будем называть имена?
– Безмерно преувеличенной фигурой был Иосиф Бродский, сумевший найти путь к уму и сердцу среднего стихотворца, среднего инженера, а раз он такой великий русский поэт, то и Запад, нуждавшийся в заполнении соответствующей ниши, короновал его премией, тем более что и там он, в переводе на латинские буквы, идеально отвечал вкусам усредненного доктора и профессора.
– Очевидный факт, что он нашел этот путь к коллективному сердцу, подтверждает как раз незаурядную крупность фигуры Бродского.
– В международной жизни искусства – уже названный Уорхол, удачно смотревшийся на газетной полосе и на телеэкране, это бездуховная ситуация. Впрочем, одно его начинание было хорошим – журнал «Интервью», мне нравится нацеленность этого издания, его вид, форма, все-таки делал журнал человек нестандартный, талантливый.
– Существует мнение, отчетливо выраженное, как сказал бы английский классик, «нашим общим другом» Павлом Пепперштейном. Согласно этой точке зрения, никакого универсального дерева славы – нет, вместо него вырос чахлый лесок маленьких елочек, на которые незачем карабкаться, и если лет десять назад русских художников можно было поймать на крючок бесплатной, но очень почетной выставки в какой-нибудь европейской столице, то ныне единственным мерилом считаются деньги, а остальное презрительно отвергается.
– Я с большой осторожностью отношусь к суждениям наших русских друзей о природе западного общества, о тамошних механизмах наград и распределений. Как правило, эти люди, даже подолгу живя на Западе, представления о нем не имеют. Однажды я слышал, как Лимонов по телевидению гордо возглашал, что у него двойной опыт существования – российского и европейско-американского, но позвольте не поверить: на Западе Эдик не жил, он обитал на самом низу этого мира, где, собственно, и находится подавляющее число эмигрантов. Его просто не было ни в Америке, ни в Европе, ему неведомо, как это общество структурировано. Вдобавок у него, как у множества русских, параноидальное видение реальности, опутанной заговорами, конспирациями… Человек, несмотря на происшедшие за сто лет колоссальные изменения, трансформировался крайне мало, с XIX веком нас больше связывает, чем разделяет, и не случайно многие художники до сих пор одержимы синдромом Ван Гога – сегодня, дескать, меня не понимают, зато завтра… Для той же огромной массы мощнейшим фактором влияния по сию пору служит Сезанн, что говорит о косности человеческой натуры. Ну что такое Сезанн? Автор прекрасных работ, давным-давно превращенных в музейную классику, десятилетия неактуальных – так нет же, еще твердят о каких-то кубах и цилиндрах, всерьез обсуждают.
– Кстати, о синдроме Ван Гога. В XIX веке, когда жил Винсент, нередко образовывался временной зазор между результатами труда художника и оценкой их со стороны выносящих свой вердикт инстанций, в связи с чем истинное понимание того, что делалось радикальными живописцами и поэтами, запаздывало порой на срок жизни целого поколения. Возможно ли это положение сегодня или нынешнее, поумневшее общество реагирует на все мгновенно и сама ситуация отсроченного понимания становится принципиально неосуществимой? Верно ли, что зазор между сколь угодно дерзким художественным поступком и адекватным откликом на него измеряется сейчас кратчайшими единицами времени?
– Я думаю, что и раньше большинство художников сравнительно быстро добивались признания, вспомним хотя бы импрессионистов. А с Ван Гогом – да, несчастный случай, что-то у него не заладилось, быть может, если б он вел себя менее вызывающе…
– Тогда бы он не был Ван Гогом…
– Впрочем, и он ведь был оценен в своем кругу, люди, находившиеся с ним рядом, отлично догадывались об уровне его работ.
– Круг по размерам ничтожный…
– Ничтожный, однако удельный вес входивших в него фигур, как выяснилось потом, был колоссальным. Так или иначе, и в XIX веке дождаться правильного к себе отношения удавалось при жизни. Уж на что невероятный авангардист Уолт Уитмен, а даже он после довольно короткого периода неприятия успел сподобиться репутации национального поэта, классика, ему рукоплескали огромные залы, публика вставала при упоминании его имени. Полагаю, и сегодня все обстоит примерно так же: художники, говорящие необычным языком, в пределах собственной жизни совпадают с общественными потребностями, временной зазор между их деятельностью и ее восприятием истеблишментом, институциями – невелик. Разумеется, всегда есть и будут отщепенцы в народной семье, но чтобы полностью выпасть из границ понимания – по правде, я не вполне представляю, что нужно для этого совершить, какую произвести революцию новизны. Не уверен даже, что в этом есть логика, к ван-гоговскому казусу, вероятно, примешались и некие посторонние мотивы, связанные, повторяю, с его непривычным поведением. Он и его окружение ведь были людьми очень странными, чокнутыми, они рисовали с натуры, постоянно куда-то ездили, придавая чрезвычайное значение внешнему миру, будучи связанными с ним. Теперь-то, чтобы изобразить дерево, натура не нужна, все, что можно было нарисовать с натуры, уже нарисовано, а их эта идея непосредственного взаимодействия с природой буквально держала за горло. Вообще я должен сказать, что непризнанных гениев не бывает; даже тот, кто, на первый взгляд, существовал в облаке непризнания, в действительности, как Рембрандт, был окружен профессионально вменяемой средой, пусть узкой, зато квалифицированной, знавшей ему цену. А для подлинного, тотального непонимания нужен такой атомный взрыв, такая чудовищная вспышка, нужно все вокруг спалить дотла! Свидетельств этому вроде бы нет.
– Давайте поговорим теперь о вашей среде, о художниках и писателях, с которыми вы начинали работать в одном городе, в Москве, на стыке 1950–60-х годов, о компании, откуда вы родом. Несколько десятилетий прошло, многих раскидало по свету, иные умерли от незадавшейся жизни, другие, завидно здравствующие, сумели поймать и надолго возле себя удержать громкое международное счастье. Все они получили свое по делам своим? Судьба распорядилась ими, каждому воздав по заслугам?
– Если бы речь шла о Франции, Америке или Израиле, то на вопрос этот было бы ответить легко, ибо в системах подобного типа судьбы авторов, в том числе их конфликты с властями и публикой, подчиняются естественным закономерностям. Но в России все происходило по-другому, там параллельно советскому миру и автономно от него, даже если и соприкасаясь с ним по линии заработка, обитала малая группа художников, литераторов, композиторов, окруженных здоровым государством и глубоко больным обществом. Разлагающееся общество, в котором отсутствовало духовное развитие, а было только технологическое, не знало собственных классиков, его гражданам дозволялось знакомиться лишь с разрешенными именами – незачем в тысячный раз говорить о его псевдоискусстве, псевдолитературе. Все мы там выросли, и если советская власть кончилась, то советский человек остался и даже обладает изрядной электоральной силой, что показали недавние выборы. Сложно ответить на заданный вопрос, опыт был поставлен в ненормальных условиях, это как играть в шахматы при землетрясении. В том мире все было прервано, отсутствовала преемственность достижений, распалась иерархия ценностей. Она так и не восстановлена, денег на это в России нет, во всем, что касается искусства, организации выставок, страна передоверяет ведение своих дел Западу и затем предъявляет ему претензии – мол, Запад не тех отобрал, он формирует искаженную картину нашего искусства. А Запад отвечает – пожалуйста, формируйте ее сами, после чего все снова упирается в нехватку средств у российских музеев, которые и выставки-то устраивают за деньги: пришел, заплатил, выставился.
Уродство ситуации отчетливо видно на примере, допустим, Левого МОСХа – эти ошметки сезаннизма по-прежнему болтаются в воздушных ямах русского творчества, более того, бывшим левым мосховцам принадлежит власть. Или: чего стоит причисление Арсения Тарковского (в 1970–80-е годы) к рангу значительнейших стихотворцев! Дикий абсурд, иначе не определишь. За Тарковским тянется длинная череда других авторов, советских поэтов, некоторые из них уже скончались, их хоронят с почетом. Можно подумать, это похороны целой культуры, только к русской культуре эти евреи не имели никакого отношения. Наоборот, недавнюю смерть Игоря Холина, пролагателя новаторских путей, общество не заметило точно так же, как и его долгую жизнь и работу; это ли не превратное положение вещей. И мы видим кое-кого из наших близких друзей, не хочу называть имена, ставших прямо-таки литературными фигурами номер один, а они не номер один, не два и даже не пять.
Запад, воспитанный в убеждении, что культура России великая и таковой, несмотря на все испытания, остается, создает собственные схемы ее развития, но исследователей, всерьез разрабатывающих это месторождение, немного, основная их часть говорит на выученном литературном языке. Значение слов они понимают, а самих слов не чувствуют – немцы, немые, что им Гекуба, что они Гекубе. То же самое с современным изобразительным творчеством – обыкновенно, за редким исключением, занимаются им те, кто напрочь в нем не смыслит. Да и чего от них требовать, российское искусство должны изучать русские искусствоведы, иначе возникает нелепость, вот показательный образчик ее – выставка еврейского русского искусства в Еврейском музее Нью-Йорка. Куратор Сюзан Гутман слепила, к радости присутствовавших, сущую глупость, ни на что иное она решительно не способна. Лишь иногда материала касаются действительно глубокие ученые, рассматривающие проблематику в универсальном, европейско-американском контексте. Вся Россия им, разумеется, тоже неизвестна, они довольствуются фрагментами для построения своих иерархий, на взгляд Запада, достаточно полных, позволяющих судить о процессах и вехах, причем объектом фрагментарного описания становится и искусство начала столетия, эпохи авангарда – все здесь сбивается на одни и те же хрестоматийные имена, а прочие, подчас весьма важные фигуры игнорируются. Я повторяю: требовать от Запада нечего, это дело российских искусствоведов, но в итоге русские художники – сироты, за ними никто не стоит, нет за ними страны. За израильтянином стоит Израиль, его музеи, истеблишмент, деньги, критики со своими концепциями, то же самое в распоряжении художников из других устоявшихся, цивилизованных государств. И только русские – сироты. Слава Богу, находятся еще какие-то добрые европейцы, американцы, берущие их под защиту, – никому, кроме этих опекунов, они не нужны, и куда бы еще несли они свои жалобы.
– Всюду слышатся речи о тяжелом кризисе, переживаемом современным искусством, и, по моему скромному убеждению, очень даже оправданные. Суть кризиса, пожалуй, не в исчерпанности символического языка, хотя и этот момент надо учесть, а в распадении связей, соединявших работу художника и человеческую душу. Возникло удивительное расположение звезд, при котором в сознании человека слово «искусство» не отзывается ничем значительным, экзистенциально существенным, потому что впервые со времен Ренессанса и уж тем паче впервые с финальной трети XIX века, когда сложились контуры новой эстетики и новой морали искусства, публика ничего не ждет от артиста, ничего не ждет от творчества. Конечно, она по старой памяти любит ходить на выставки, но рассмеется или останется в недоумении, если ей скажут, что особая этика изобразительной деятельности не сводится к дизайну буржуазных пространств, что она предполагает (вернее, предполагала) ответственное отношение художника к миру – вплоть до намерения его изменить, просветить, исцелить. Эта фанатичная уверенность артиста в социальной и религиозно-этической ценности его призвания передавалась зрителю, в свой черед убежденному, что он, посредством созерцания изображений, причащается священной вере и обряду. В наше время стороны уже не настаивают на этом союзе, он распался, и неясно, за счет чего может быть снова скреплен. Место же, оставшееся в душе пустым после ухода из нее искусства, заполняется искусством другим, уже не заикающимся о свойственных ему прежде амбициях.
– Я с этим не согласен, потому что сам являюсь посетителем значительных выставок и непременно выношу что-нибудь для души.
– Разве искусство занимает сейчас ту позицию в структуре жизни, какая принадлежала ему раньше?
– Безусловно. На открытиях важных выставок, устроенных институциями, которым публика доверяет, ты наблюдаешь огромное стечение народа, покупающего далеко не дешевые каталоги, приходит множество молодежи, студентов, это настоящее событие. А уж на показах классики всегда столпотворение…
– Ну, классика – понятно, с тем же успехом можно показать троянское или скифское золото, и тоже не пробьешься сквозь толпу…
– Нет, нет, люди идут не для того, чтобы побыстрей отыскать Мону Лизу и поставить галочку, они хотят видеть оригинальные вещи, они жаждут получить то самое эстетическое наслаждение, которое на протяжении веков сопутствовало искусству. Это ажиотаж потребления духовной пищи, а не поход в паноптикум, – я говорю о посещении классики. Но и позиции современного искусства в обществе очень прочны, и не случайно так много его коллекционеров, не случайно столь велико количество людей, занятых в сфере, обеспечивающей его функционирование, популяризацию.
– Мне трудно оспорить вас фактически, поскольку я лишь по праздникам бываю в тех прекрасных обителях, где вы частый гость, но сама атмосфера эпохи вам противоречит. Вы очень верно употребили словосочетание «эстетическое наслаждение» – действительно, как в том анекдоте, ничего больше от выставляемых современными художниками изображений не получишь, духовного измерения они лишены.
– Возьмем, однако, такие известнейшие и регулярные события, как венецианское Биеннале или «Документу» в Касселе – экзальтация, огромное, искреннее притяжение зрителей. Работы на них представлены самые разные, каждый тянет в свою сторону, делая упор то на политике, то на эстетике, – короче, у меня нет ощущения, будто интерес публики выветрился, уменьшился. Напротив, ажиотаж остается, зрители ждут новых веяний, новых идей. С идеями, я этого не отрицаю, в настоящее время непросто, определенная исчерпанность их налицо, но это закономерно, потому что XX столетие ознаменовалось невероятным их выбросом, было придумано и опробовано фантастическое количество возможностей, Ренессанс по сравнению с прошлым веком, в особенности с периодом модернизма, – это ребенок, подросток. После такой неслыханной интенсивности немудрено впасть в растерянность. Художники, интеллектуально чувствительные, ощущают неудобство, они пытаются сызнова наладить взаимодействие искусства и общества, выйти к языку, которым можно было бы говорить с людьми, ведь модернизм изъяснялся на языке очень чистом, эстетическом, герметичном. Время, полное проблем, стало быть, увлекательное, и, как никогда, высоки ставки. К тому же необходимо обладать смелостью, чтобы отвергнуть уже сделанное, оттолкнуть его от себя – в надежде пробиться к новому переживанию, осмыслению.
– Какими идеями лично вы руководствуетесь, продолжая свою работу художника?
– Для жизни, и это имеет прямое отношение к искусству, ибо мы живем не в искусстве, а в жизни, нужны три вещи. У человека, во-первых, должно быть несколько близких людей, ради которых он готов в любую секунду умереть, пожертвовать собой. Во-вторых, он должен обладать чем-то, во имя чего он готов воевать, взяв винтовку и отправившись добровольцем на фронт, как Аполлинер. Этим чем-то будет культура – Книга, называя вещи по-еврейски. В-третьих, у человека должно быть то, на что он готов тратить свои тяжким трудом заработанные деньги. Перед нами три жертвы, определяющие смысл существования, и искусство оказывается важным для других, если художнику удается сделать зримой, доступной фундаментальную жертвенную составляющую его человеческого опыта. Искусство – неотъемлемая часть коллективного опыта, а художник отнюдь не монах, погруженный в свои обособленные молитвы. Качество, являющееся обязательным условием работы, рождается из стремления заново осмыслить мир, когда же этого стремления нет, красота линяет, как акварель под дождем, она превращается в бесцельную эстетическую игру, и наглядное тому подтверждение – эволюция концептуализма. Его ранний период, характеризуемый, к примеру, ланд-артом или боди-артом (а до этого был поп-арт, числящий в предках своих дадаистов, Дюшана), демонстрировал органическую нашу связь с природой, прекрасную естественность тела. И была у концептуализма остро выраженная политическая и общественная направленность, он смело работал со знаковыми механизмами социума, с материей, из которой скроена социальная система, – все это было. Но постепенно западный концептуализм сошел на нет, по той простой причине, что начал говорить о себе, он растворился в себе же самом, как в единственной теме своих высказываний, уставился в зеркала и заменил реальный мир иллюзией, отражением, фикцией. Русский концептуализм, сложившийся под влиянием западного (особый русский путь – это путь европейский, а вовсе не какая-то несуществующая монголоидная самобытность, что нимало не отрицает его специфически национальной укорененности), изначально содержал сильный игровой момент. В нем доминировала замкнутая игровая стихия, вследствие чего это направление выдалось уединенным и удаленным от общенационального интереса, от широкого чувства. Оно не обращало своей речи ко всем, это была келейная игра группы интеллектуалов, сейчас она несвоевременна и не участвует в международной системе искусства – максимум ее бисер радует отдельные умы. Прямо не знаю, что еще произнести о концептуализме.
– О концептуализме – достаточно, лучше еще несколько слов о положении художника в окружающем мире.
– Европейские государства и общества – преуспевающие, в искусство вкладываются огромные деньги, считается, что это хорошо, престижно, средства инвестируют банки и корпорации, и кое-кому удалось пробраться к кормушке. Не рискну заявить, что художники живут в сытости…
– Отменно кормятся генералы, критерии отбора которых вызывают сомнения, армия ходит полуголодная и в обносках; даже я, не бог весть как осведомленный, могу назвать целый ряд искалеченных или недовоплощенных судеб…
– Все равно обитают они в сытых странах и если и недоели, то сознание их есть сознание недоевших сытых людей. Что опасно – сытая психология непроизводительна, она противоположна творческой. Ведь творчество – это жажда заглянуть за небесный покров, чтобы узнать, что за ним спрятано.
20.01. 2000








