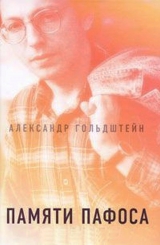
Текст книги "Памяти пафоса: Статьи, эссе, беседы"
Автор книги: Александр Гольдштейн
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 40 страниц)
Среди мощных чучел зверей затерялось «Священное» работы Джейн Симпсон – объект, более прочих выражающий тотальное разуверенье артистов Sensation в возможности другой антропологии и другого искусства. Sacred, алтарь, забрызганный алой краской, этой грубо симулятивною кровью, замещающей кровь художника, но не ту, что лет десять копилась по капле, а ту, которая проливается сразу, без дальних расчетов, путем принесения себя в жертву; во имя чего – в данном случае вопрос некорректный, повод всегда существует и после того, как его отменили. Вот этому жертвоприношению, показывает постсовременный художник, и неважно, какие эмоции – сожаления, сладкого ужаса или злорадства – он испытывает в момент отрицания, этой жертве уже не бывать. Она ликвидирована устранившей свои культовые основания культурой, которая не ждет и не хочет от артиста самоотреченного следования своему художественному призванию, т. е., попросту, без напыщенности говоря, исполнения им профессиональных обязанностей. Понятно, чего боится культура. Ее смущают конкретные примеры и кровью вытекающее из них правило. Ей страшно увидеть новую притчу о Голодаре, который, невзирая на переменчивость публики, со всем буквализмом возьмется воплощать крайние парадоксы эстетической этики, этики искусства как прямого служения и полноценной жизненной практики. Обжегшись на Современном искусстве, она боится возвращения Художника. И зря, потому что это не красный, а вымерший зверь.
В 1969 году Рудольф Шварцкоглер, представитель венской группы акционных художников, публично себя оскопил и умер, обозначив не только финал боди-арта, частного направления визуального творчества, но и завершение телесности как таковой, отказав ей в праве на размножение. Кроме того, он пытался продемонстрировать решимость артиста соответствовать своему ремеслу – так, между делом. В историях искусства XX века его поступок обычно стыдливо обходят, а если упоминают, то неизменно сопровождая текст указанием на помутившийся разум самоубийцы. Легко допускаю, что Шварцкоглер был психически неуравновешен, не мне судить, и совсем уж пошлый обычай – спустя много лет из мелкобуржуазного далека пропагандировать чужое безумие. Но надо, вопреки призывам к отказу от интерпретаций, увидеть и символический смысл этого максимально отклонившегося, не должного быть повторенным деяния: вычеркнув жертвоприношение и жертвенность артиста, или, иными словами, предельную логику художественной ответственности, культура не смогла залечить открывшейся раны, не преодолела невроз и получила то искусство, которое она сегодня имеет. Втайне она его презирает, но справедливо опасается дать дорогу другому обряду, воскрешающему хорошо забытый порядок. Ведь его второе пришествие знаменовало бы поругание постсовременной культуры. Личная жертва, вроде той, что была упомянута, есть экстремистский, отчаянием вызванный, взывающий к неповторению порыв поколебать нестерпимую превратность устоев. Но это и объективный и, согласен, ужасный, как полюс холода, архаический maximum художественного призвания, суть которого в том, что высказывание должно быть оплачено. Самыми разными проявленьями долга. Не обязательно, как Шварцкоглер и Аттис, который тоже себя оскопил и потом еще пел и плясал, ощущая небывалую легкость.
Речь всего лишь о том, что искусство, эффектные образцы которого были представлены на столь громко и международно прозвучавшей Sensation, не отвечает за свои слова, это компания с очень ограниченной ответственностью. Его призывают к разбору и диалогу, а оно отпирается: я совсем не это имело в виду, я вовсе такого не говорило, тут надобно видеть дистанцию, персонажную маску, овцу и акулу, работу с чужим, инородным сознанием, да и можно ли говорить «от себя», если субъект испарился в безличных потоках, можно ли вообще «говорить»? Его спрашивают, что оно думает о профессиональной этике долга в ее отношениях к правилам общественного поведения, а оно машет руками, испуганно отбиваясь от депутаций в защиту меньшинств и животных, заранее, без вины виноватое, соглашаясь с их политкорректными требованиями. Оно готово безопасно рискнуть чужими телами, хранящимися в ледниках скотобоен, но уж точно не поступится собственным – даже не то что телом, а холодильником. Эти бесспорно талантливые люди достойны того, чтобы морская волна смыла их образ с песка. Впрочем, рано ли, поздно ль это произойдет с каждым из нас.
Остается некрофилия с живым мертвецом Современности, дети от этой любви не родятся.
Простейшее историческое воспоминание не обманывает: после свиданий с Современным искусством человек уходил с перевернутым мозгом, изменившимся восприятием жизни. Он бывал так истощен, так измучен и обозлен лившимися на него потоками энергии, что ему не оставалось иного выхода, как стать другим – зрячим и сильным. Сегодня он, в своем жаждущем тех же впечатлений потомстве, постоит пару минут возле рыбы в растворе, потрогает пальцем, из чего сделан голый старик, и, незамутненный, не измененный, отправится восвояси. Домой, в контору, на рынок, на новую выставку: выйти из гомона толп и машинного рокота.
01. 01. 98
ПРОЗА В СТИХАХ
Пушкин писал стихи и прозу, назубок знал прозвания малых народов империи, классикам республиканского красноречия предпочитал авантюрных волшебников сладострастия и любил многих женщин, отвечавших ему приязнью и лживым раскаяньем. Ильянен, герой незаметного критикам петербургского поэзо-прозаика Ильянена, мечтает во всем соответствовать Пушкину, но, влекомый созвездием хромосом и эстетических навыков к юношам и дневниковому журнализму души, принужден в начальных строках сверять свой стиль с Харитоновым. Невольничий рынок жанра, плен и закон. Франциск Сальский покровительствует писателям французского католицизма, автор домашних арестов блюдет голубую ветвь русской словесности. Памятник самооплакивания, он у входа в охраняемый им вертоград разложил на коленях христианскую плоть своих утеснений (соленые, вторящие форме очей озерца натекли в пробоины сердца), и каждый, кому в безопасные времена доводилось гулять в том саду хоть на миг, для комичного ретрохамелеонства, примерял маску патрона, откуда из отверстия рта змеились шептания лихорадочных губ и сквозь верхние прорези непечатно смотрели глаза. Из Харитонова, а также из более глубоких и первородных источников, о чем скажем после, Ильянен взял игру с прециозностью, нарочные парфюмерные охи и вздохи, обмолвки, выпады, интимную стенографию, примитив, сдвигологию смыслов, насекомых в каллиграфической паутине, узор – и сходство с подпольным артистом кончается. Нет трущобного изобретательства, катакомбного озарения, гордыни, грубости, страха и смерти.
Но это не все, ибо главное отличие таково. Где у Харитонова – чувственно-эмоциональные, словом оформленные состояния тела, как, например, любовь, тоска, одиночество; где он работает в первом словесно-соматическом плане, без ролевой дистанции в отношении темы и агента высказывания, там Ильянен, трепещущий по отложившимся, отчасти пародийным следам исповедальной голубизны, знает лишь свободный от психотематической зависимости, замкнутый границами автономного представления, на себя обращенный язык. Язык обозначает уже не материю похоти, тоски, наваждения, но кодифицированные языковые эмблемы этих состояний, из которых по ходу рассказа проступает опять же язык – змея кусает свой хвост. Возникает эффект не столько литературы, сколько, что называется, текстуальности (тоже, понятно, литература, но с другим центром тяжести). Речь разворачивается в плоскости чужой речи, последнюю остраняя и с ней не сливаясь, излагая с ее помощью собственный образ, систему валентностей и авторефлексий. Харитонова по сей день читать неуютно, ибо он, испытатель неодолженных слов, писал о себе, про свое уничтожение и вычитание. Зная судьбу его, видишь, как дыхание в нем иссякает и буквы от страницы к странице мрачнеют, становятся траурными. Ильянена, автора персонажного, не потому принимаешь легко, что герой его жив, работящ и возвышен, но оттого, что оба они, автор и персонаж, созерцают не свои организмы, в которых, как в любом теле, обитает печаль, но жанр и язык, смещая их в сторону меланхолической вивисекции. Это не запоздалый московский или несуществующий петербургский концептуализм, когда слова преподносились исключительно чужими губами. Артикуляционная база своя, персональная, вообще масса «личного», и все-таки монолог в согласии с правилом стилизации и хорошего тона (давно пора его отменить, заговорив прямо и трудно) ставит прозрачный заслон между фигурой рассказчика и конфигурацией текста, которые с одинаковой скоростью выползают из рукава их создателя. С Пушкиным же нарратора и вправду роднят важные обстоятельства, что позволяет потомку наладить твердую идеологию преемства и общности. Но сперва – необходимое предуведомление. Поэтика утверждает, что в романах, написанных от первого лица, хроникер удваивается или раздваивается: одна его половина фабульно и сюжетно функционирует, другая о том повествует. Какие бы резкие способы ни применялись (в начале 60-х французский новый роман безуспешно пытался растворить акты сюжетного действия в усилиях письма, сделав самоописание процесса рассказывания единственным повествовательным происшествием), устранить противоречие невозможно, разлученные близнецы не обнимутся под сенью близнечного мифа. И все-таки есть одно исключение чуда, которое выпадает на долю счастливцев, берущихся, как Ильянен, по-русски и от своего персонажного Я разрабатывать стихопрозу о Пушкине. Дело в том, что Пушкин – это наше Все. Следовательно, он наше Ничто. Великая, погашающая все разногласия буддийская бездна, о сущности коей абсурдны любые вопросы, и Просветленный не отвечал на них, обращаясь под хлебным деревом лишь к тем из учеников, которые, подобно ему, чурались пустых прений о непредставимом. Пушкин – аннигилирующая воронка русской культуры. В ее жадном горле исчезают противоположности, устраняется само пространство существования оппозиций и радикально отсутствует содержание. Пушкин есть эпоним бессодержательности, совершенная полнота неприсутствия смысла как следствие безграничности слагающих пушкинизм смысловых расширений. Означая Ничто, он тем самым не означает ничего. В нем царит тотальная однородность всего, что было различным, и если черное стало одного цвета с белым, а бытие совместилось с небытием, то действователь подавно равен сказителю. Достаточно произнести имя Пушкина, и попадаешь в зону грандиозного спокойствия и всепоглощения, когда неважно, от какого лица писать, да и нет больше разницы лиц. Только имя, и безмятежность в членах оповестит, что колесо превращений остановилось. Впрочем, мощь этой литературной позиции (шутка ли, сама собой доказалась апория) меркнет в сравнении с ошеломляющей красотою отождествлений, открывающихся, стоит только приблизиться к человеческому воплощению национальной бездонности и божества.
Александр Сергеевич любил сочинять лежа, его восприемник поутру без лампады ткет свою пряжу в постели. По долгу военного переводчика командирован он в город далекой провинции, где построен завод, сбывающий гусеничные изделия за рубеж, и плещется Понт ссылки и мусических трудов вдохновения. Толмач и писатель, он окружен арапами, франкофонным офицерством Востока, посредничая между их смуглой стыдливостью и кириллическим диалектом своего призвания и досуга. Безукоризненное владение французским наречием соблазняет доверять ему тайные мысли, отчего и русский письменный слог увит трогательными побегами иностранщины – галльской, латинской, другой (пар экзампль, нота бене, ет сетера, вери мач). Непрезентабельное бытовое скитальчество, точно старинная буквица, украшено золотом и киноварью легенды, осеменено ее драматичным весельем и выражает себя в истовом и ликующем, несмотря на камерность тона, произнесении фамилии покровителя. Существование уместилось в шести литерах главного имени и безмолвным отражением бьется о стенки седьмой, на конце упраздненной (ъ). И разумеется, финн, о котором написан роман. Наряду с внуком славян, тунгусом и калмыком он назван в Нерукотворном Памятнике и благодаря этому обелиску получил гражданство в русской цивилизации, т. е. право на жизнь. Не будь Памятника, не было бы и финна, который обязан своим благоденствием пушкинскому стихотворному завещанию. Но и сам поэт фатально зависим от финна – от Ильянена.
Памятник – горацианская тема с невообразимо давними истоками, египетскими или еще более незапамятными. Лемех палеолитературного анализа, подрезая пласт за пластом, извлекает посредствующие звенья разноязыкой традиции, и слышны отгулы бронзы, всемирной словесности древних народов как системы межплеменных заимствований и взаимовлияний, рассчитанной на бессмертие. Строящий Памятник жаждет неусловного, но реального бессмертия. Памятник есть кимвалом звенящее заклинание против гибели стиха и сознания. Одический вопль о сохранении слова и бытия, эсхатологический призыв к завершающей ипостаси своего духа – Последнему пииту, чьи сроки совпадают с временем подлунного мира. Мечтая о вечной жизни, Пушкин, однако, не верит в буквальное восстановление праха, в чудо плотского воскресения. Тогда надежда на метемпсихоз – убежавшая тленья душа начнет стихотворно вещать из телесной оболочки читателя будущего: славянина, тунгуса, калмыка и финна. Кого-то из них, не все ли равно, ведь в этой компании каждый является законным наследником имперской культуры и вправе потянуть на себя одеяло реинкарнации, предложив свое тело как единственно подходящее для поэта.
Финн должен в зародыше остановить других соискателей. Они недостаточно хороши, плечам их не выдержать великодержавного гнета и мифа. Оружием служит философия языка, притязающая аргументировать чухонское первенство в тяжбе о психее и священномученическом гласе поэта. Прелесть языку русскому придает эллинско-иудейское начало, странность в нем от финской основы, жизненность – от татарской. Два первых слоя задавлены вульгарной латынью «татарщины, на которой с кашей и хреном во рту» лопочут славяне, тунгусы, калмыки, противно глаголят писатели, и только горстка возглавленных чухонцем отверженцев не отчаялась воссоздать прелесть и странность, вернуть забытый язык. Эта задача подвластна лишь петербургскому финну. Долго его не было в литературе, она его заждалась, и немыслимо усомниться в первопоэтном возвращении речи, которая, если смешать ее с кровью пророка, очистит жилы народам, ополощет им глотку. И народы сходятся на откровение о нерукотворном Памятнике, дабы узреть, как встретятся мертвые и живые, увидеть Последнего пиита и ангела, что слетел к обетованьям его и шепчет ему: поднимайся и говори, слова сами найдутся. А он, светозарно преобразившийся финн, – уже никакой не болотный чухонец, даже никакой не писатель, но спаситель, пришедший к народам, чтобы они разрыдались от жертвы его и воззваний на ангельском языке, и узнали, что за прелесть и странность таится в послании, произнесенном из сердца, бьющегося близ лобного места под посконной рубахой, и стали б свидетелями, как душа его в прощальном полете объединяется с пушкинской, и обе они начинают искать третье, бестелесное тело.
Ах, Пушкин, Пушкин, сказано в великой поэме. Не Пушкин – Гоголь. Происходит слом ожидания, наивный и аутсайдерский стиль упирается в преткновение, в неожиданный реприманд, становясь публичным, вызывающим, экстатически адресованным граду и миру. Близ финала роман разворачивается назад, заново освещая пролистанное, и в обратной перспективе его открываются Записки сумасшедшего – клубящиеся и горячечные поприщинские признания (этим наблюдением со мной поделился Глеб Морев). Рассеянные в четырех журнальных подачах, они достигают восторженной концентрации к моменту падения занавеса. Поприщин декламирует выбранные места своей миссии, размышляет о божественной литургии и в чем наконец существо русской поэзии. Всей логикой заключительной сотни страниц доказывается правота сумасшедшего: без поэтики профетических обращений нельзя, без них литература пуста и жеманна. Принципиальный, загодя подготовленный ход, доказательство ума, артистизма и осознания замысла. Будто на обэриутской сцене один классик спотыкается о другого, любимого до боли и ненависти, уготованного ему в вечные спутники, и корчится в судорогах вернувшийся к Петербургу недорезанный петербургский период. Сколько раз хоронили солнце Петрополиса, а оно светит и проницательно слепнет над городом и литературой, доказывая неотменимость холодных лучей. Северному солнцу русских иероглифов, омытых нильской водою каналов и присыпанных островною землицей, спел гимн накрывшийся лицедейской шинелью автор. Вот о чем этот роман. Знаменательно, что обошлось без декаданса, дешевой апокалиптики и вульгарностей постленинградского акмеизма, вегетарианского, в мемориальных таблетках, питания литераторов, избегающих смотреть в глаза современности. По другой культуре тоска: будущей, несвершенной, воскресшей после дуэли и голодной смерти от скорби ума. Этого Пушкина будетляне не бросили б с парохода – ведь поэт только рождается, возрождается, предстоит. Из Гоголя же они вышли сами, он был их непотопляемой колыбелью и сектантским прародительским кораблем.
Изящная и, по первым листам, необязательная летопись толковника-педераста разрешается мощным движением лирической одержимости. Похоже, у нее есть шанс найти стихийное, под небом и звездами, вместилище своей необузданности, но, увы, не собор, способный внять этой проповеди, и тем паче не массовых потребителей, дерзнувших хронику прочитать. Народы потому и мерещатся взору рассказчика, что Ильянен в силу сознаваемых им особенностей своего дарования обречен на весьма неброскую известность и, конечно, смирился с этой данностью. Бездарно другое – яркую прозу игнорируют профессиональные оценщики слов.
15. 01. 98
ПОРТРЕТ ХУДОЖНИКА С ЖЕНЩИНАМИ
Жизнь с первородным клеймом незадачи, точно некто из тьмы захотел посмотреть, как будет дергаться в рамповом свете эта потешная, на обрезанных ниточках марионетка. Истерично серьезное отношение к нравственным обязательствам, что, извернувшись навыворот, должны были вывести его по ту сторону своих же запретов, к щемящим провинностям и – да-да, всей стопой за черту – преступлениям, дабы позднее, омытый слезой покаяния, он мог затаиться в норе и там сызнова выбрать прыжок в недозволенность.
Стэнли Спенсер (1891–1959), английский художник, был вынянчен в колыбели заштатного протестантизма, давно разлученного с живительным уклонением ересей и оттого весьма мало пригодного для контроверзных раскачиваний меж оргией и аскезой. Его опрятная дряхлость длила свое бытие в сумасбродной и лютой, истинно старческой ненависти к обновлению религиозного духа и стиля. На скандинавском Севере память еще несла след тех времен, когда провинциальный священник, потратив лучшие годы на возведение храма, внезапно бросал ключ от него на дно озера, ибо безответная тяжба с Всевышним, которого он пытал, отождествившись с гневным и гнойным, скребущим коросту вопрошаньем Иова, приводила к убеждению заменить богатую церковь бедным царством души, а перенесясь взором в столицу, можно было увидеть одинокого диалектика экзистенциальных соблазнов, учившего наперекор ханжеству клира, что у людей нет критериев распознать божеское в человеческом и что эти инстанции невыразимы одна чрез другую. Шествуя под добровольным конвоем отказа, северная теология не унижалась останавливать свою кровь арникой утешения и лечить раны корпией, нащипанной с мира по нитке. Краснокирпичный же свод верований Кукхэма-на-Темзе страдал неколебимым здоровьем и в оных прописях медицины не нуждался тем паче. Удивительно, что ему все-таки удалось воспитать выродка и урода.
Стэнли Спенсер вырос в семье церковного органиста, который по воскресеньям обрушивал на тела своей паствы бравурно-скорбящие звуки: Стэнли запомнил, как хлопья моральных прелюдий прилипали к мыслям о пудинге, влажной уборке и ценах на уголь. Сидя на жесткой скамье, он слышал запах ношеной обуви, сбежавшего молока и ипотечных задолженностей. Шепот стариков и нетерпеливое, в предвкушении радостей свободного дня, покашливание молодых. С ним ласково собеседовали, осведомлялись о самочувствии домочадцев, гладили по затылку. Прирученный звереныш, он был слуховой щелью их плебейских, не ведавших иного конспиративного примененья секретов – всех до единого, от овсянки до погребальных расходов. За исключеньем того, что изнурял его ежедневно и особенно еженощно, когда руки сами собой лезли под одеяло: незримого механизма совокупления и зачатия. Этим опытом не делился никто, так что тайное тайных вырастало до распаленных габаритов чудовищ из сновидений и оставалось с ним, взрослым ребенком, воочию, наяву, всем ужасом несвершения. Подростковый невроз, улыбчиво жертвуя незатейливый аргумент в пользу уже знаменитой в ту пору теории, отчасти смирялся искусством, очень рано отворившим для Стэнли снисходительное убежище компенсаций. Но чем невозвратней текло превращение мальчика в юношу, тем унизительней (ведь он твердо знал, что есть главное в жизни, во имя чего ее и надлежало отдать) казались предложенные культурой паллиативы.
Арт-школа Слэйд избыточно удовлетворила его полузадохшийся от непристойных видений социальный инстинкт и на сходке выпускников в голос, как померещилось Спенсеру, обсмеяла его половое убожество: он покидал эти стены исстрадавшимся девственником с горящими маслинами глаз, что в упор смотрели на зрителя с академического автопортрета, сей эмблемы гордыни и уединенного самокалечения. Довелись ему спозаранку обжечься на психоанализе, он еще остерегся бы в терапевтических целях кромсать свой недуг заскорузлыми ножницами, он, наверное, содержал бы его в теплой тряпице и вытирал проспиртованной ваткой. Отсюда, из этого именно гиблого места, изливалась фантазия, и эта болезнь непорочности (если можно так обозвать измучившее его воздержание), а отнюдь не излишества секса, диктовала ему живописные образы. Однако он был чересчур далек от рассудка, чтобы безоговорочно принимать его доводы, и, лелея надежду уврачеваться, связывал ее с мировою войной, подвернувшейся как нельзя более кстати. Естественная фронтовая неразбериха и падение гражданских уставов, справедливо рассчитывал Спенсер, помогут ему сойтись с Женщиной, и он столь храбро, столь добросовестно служил в инфантерии и медицинских частях, что за четыре года бойни народов не набрался решимости взять за руку ни одно из отзывчивых, в маскхалатиках милосердия, созданий, которые скромно, но откровенно испытывали интерес к нелюдимому парню.
Версаль узаконил капитуляцию германского варварства, как его с пиететом пред собственной милитаристской традицией называли интеллектуалы Антанты. Прореженной, с перевернутым сердцем вернулась генерация британских поэтов, уцелевшие герои которой вместе с условными мощами погибших и захороненных в братских свекольных полях стихотворцев нынче лежат под плитами Westminster Abbey. Поколение прозы тоже извергло войну и отшатнулось от растления мира; вознеся к небу лицо и согнув в локте руку, оно изготовилось вострубить в горн потери. Бешеная инфляции поруганных немецких кварталов, где пролетарий Нью-Йорка мог за пару сот долларов если не купить на корню, то арендовать особняк разорившихся буржуа, обернулась горячечным джазом американского бизнес-плана. Фотографии солнечного затмения, сделанные на острове Принсипи близ Западной Африки, подтвердили обоснованность Эйнштейновых контуров мироздания. Странная ломка миров живописных, тогда же сказал русский провидец стиха, была предтечею свободы, освобожденьем от цепей и – вестником напророченных другими людьми закабалений, коими вскоре оделись страна и сотворенные ею холсты. Италия впрок запасалась касторкой и корпоративной системой. Лоуренс требовал вернуться к язычеству, дабы стыдливые леди невозбранно под звук козлоногой свирели дарили себя лесникам в их дремучих сторожках. И как, черт возьми, не воскликнуть на последнем взмахе ресниц полуослепшего, в манере Дос Пассоса, киноглаза, что все это время артист Стэнли Спенсер неотступно искал свою Женщину, пока наконец не изведал: нежная и подвижная, она откликается на волшебное имя Хильды Кэрлайн – девушки из приличной среды. Тайна пола открылась ему в установленном месте, не ближе, не дальше; радость узнавания оказалась так велика, что он, свыкшийся с одиночеством, предложил Хильде разделить с ним сладкие узы христианского брака. Они сошлись в середине 20-х и немедленно, на доходы от живописи, построили себе дом. Мечтой Стэнли было под ручку с подругой бродить окрест голышом, но жена выторговала себе компромисс, закрывающий нижнюю часть ее видного тела. Идиллия, не считая кратких лакун усыхания страсти, продолжалась лет десять, ее кульминация пришлась на попытку супруга учредить в родном Кукхэме капище Хильды, ритуально-алтарной основой которого должна была стать ее детородная, выносившая двух дочерей плоть, а художественным обрамлением культа – серия картин на тему вакхических радостей совместного проживания. Хильда не возражала, но чаемое воздвижение ереси было подорвано нашествием Патрисии Прис, чей стратегический гений играючи совладал с добродушной прихотью Спенсера и, будто Цезарь Галлию, поделил его существование на три неравные части. Первую, наиболее комфортабельную, по-хозяйски обжила незваная гостья, во второй с трудом уместилась отвергнутая ими обоими Хильда, в третьей, напоминавшей тюремную камеру или чулан, бил крылами потерявший голову Стэнли.
Слабый художник и лесбиянка. Патрисия обладала ценным опытом обращенья с мужчинами, которых нередко воспринимала в качестве дойных козлов. В постели, по слухам, она мимикрировала с такой изворотливой прытью, что даже закоренелый мерзавец не опознал бы в ней драйва к однополой любви. Впрочем, товарки по Афродите ее тоже интриговали не слишком; в первую очередь она предпочитала улаживать материально-имущественный аспект эротизма. Спенсер являлся на редкость удачным объектом, не требующим ни кропотливой осады, ни риторических монологов, ни партизанских вылазок из чащобы: деньги и дом принадлежали воплощенью доверчивости, коего грех было не облапошить. Патрисия очаровала жертву демонической чувственностью, о наигранности которой Стэнли, разумеется, не догадывался, и касательным сообщением с блумсберийским кругом философов, поэтов и романистов, чьими работами он восхищался. Однополый позыв, культивируемый в жизнестроительных обрядах Блумсбери, был конструкцией вполне рассудочной. Желчно сторонящийся тихоструйности, сантиментов и мистицизма, отличавших, допустим, атмосферу немецких мужских союзов Винкельмановой и более поздней эпохи, он служил необходимым фабульным добавлением к интеллектуальному соблазну, иронии, таинствам элитаризма, бисквитам, головной боли и физической слабости, оставаясь в основном фактом ума, нежели измереньем поступка. Литтон Стрейчи, один из вождей этого ордена, немного преувеличил, когда на вопрос председателя суда (собиравшегося упечь его за решетку по причине пацифизма во время войны), что бы он сделал, кабы германский солдат вознамерился изнасиловать его сестру, бодро ответил: «Постарался бы встать между ними, ваша честь!» Отвлеченная содомская метафорика блумсберийства Патрисию не волновала, и она приберегла эпатажные колкости до замужества. Уж очень ей приглянулись дом и пейзаж.
Она быстро от(л)учила Стэнли от тела, тихой сапой выжила мужа из комнат и мастерской, словом, реализовала весь план от Шекспира до Зощенко, но мимоходом зевнула в психологической карте своего подзащитного важнейший, как выяснилось в дальнейшем, момент. Этого человека нельзя было убить. Он неизменно вставал после смерти. И не просто вставал, но, преобразуясь из жертвы в мучителя, делал тех, кто хотел его истребить, униженными соучастниками своих мстительных воскресений. Вамп-простушку Патрисию ожидало самое страшное – растянувшийся на полтора десятилетия треугольник, в котором ни одна из сторон не ведала, под каким углом она стремится к другой и что обещает встреча. Спенсер с упорством маньяка предъявлял права на обеих, и все они, включая мнимую победительницу, были равно несчастны. Но если Прис и Кэрлайн проклинали судьбу, то для него эта участь была светоносной. Его творческий организм точно так же нуждался в несчастных отношениях с женщинами, как прежде требовал девственности. Сознание ручьем лило слезы, а тело просило лишь этого, единственно верного поворота событий.
То был, конечно, не мазохизм, но самосохранение артиста. В сумасшедшие годы он работал с утроенной продуктивностью, извлекая все преимущества из найденной в прошлом манеры и доводя ее до предела претворения в какое-то субстанциально новое свойство. Серия поздних картонов, гротескно запечатлевших крестные муки в совсем не патетической обстановке родного Кукхэма-на-Темзе, дышит бесслезной болезненностью (жалом в плоть Киркегорова слова) религиозного настроения, выдавая в Спенсере задатки несостоявшегося мыслителя-ересиарха или площадного трибуна, опять и опять возглашающего отреченный Завет. Он будто возвращается к детству, к страшным историям, к отцовскому громозвучью назидательного органа, но лишь ради того, чтобы продемонстрировать несвершаемость официального благочестия, ибо вера, если я правильно его понимаю, выражается исключительно чрез свою невозможность, через парадокс ее отторжения, предполагающий еще более безотрадно-глубокую веру. Наряду с позднейшими же портретами, в которых он с вызывающим анахронизмом бросает перчатку любви Хансу Гольбейну, именно эти работы стали основой для нынешней канонизации Стэнли Спенсера – без малого через 40 лет после смерти артиста.
22. 01. 98








