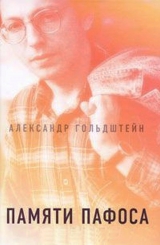
Текст книги "Памяти пафоса: Статьи, эссе, беседы"
Автор книги: Александр Гольдштейн
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 40 страниц)
МАСТЕР ЖИЗНИ НА ИСХОДЕ ДНЯ
Вот-вот должно свершиться.
Едет, доносится, едет. И дом поспевает в отмеренных сроках, за малостью дело осталось: то ли оборудование для подпольной типографии в погреб не завезли, то ли резной конек на крыше по забывчивости не укрепили.
Я нарочно с первых же нехитрых строк выбрал этот глумливый тон – пусть читатель узнает, как сегодня в России пишут о неминуемом возвращении патриарха, о грядущем явлении тринадцатого, со всех сторон потайного имама, махди, повелителя утраченного времени национальной истории. И если степенный Владимир Солоухин, недавний адепт, всего лишь этнографически окает, недоброжелательно перекатывая речь на среднерусских колесиках своей излюбленной гласной (оно, конечно, хорошо, что пожалует, да только роли сыграть не сможет), то филолог Григорий Амелин уж совсем не миндальничает: «Многотомный до грыжи, с голливудской бородой и начищенной до немыслимого блеска совестью, он является в Россию праздничный, как Первомай, и, как он же, безбожно устаревший. Протопоп Аввакум для курехинской поп-механики. В матрешечной Москве он будет встречен как полубог, вермонтский Вольтер. А кому он, в сущности, нужен? Да никому. Возвращение живых мощей в мавзолей всея Руси. Чинно, скучно. Ему бы бежать из Ясной Поляны собственного хрестоматийного гения, а он возвращается на осляти – безжизненный, загробно-американский, давно уже ничего не понимающий ни в России, ни в Западе. Из Америки – да в хармсовский анекдот. Он – евнух своей славы… Солженицын – это перезрелый Лимонов. Ну не разнятся же они, ей-богу, тем, что один пишет о том, как он занимается сексом, а другой – обо всем, кроме этого. Сходства между ними сейчас больше, чем различия. К примеру, Лимонов – это как бы Достоевский-сладострастник, а Александр Исаевич – Достоевский-художник, учитель».
Достоевский здесь совершенно ни при чем, а сравнение с Лимоновым интересно, но только Амелин не догадался, какие великолепные возможности оно открывает, о чем немного позже. А пока отметим, что оба знаменитых героя в самом деле частенько оказываются рядом, да к тому же в сексуально окрашенных контекстах. Если Солженицын брезгливо, дабы не замараться ненароком, распекал охальника Эдичку за поругание нравственных святынь русской словесности, как если бы речь шла о растлении несовершеннолетней, то для Лимонова великий Солж знаменовал своей неподъемной персоной ненавистный диссидентский истеблишмент, и скандальный некогда автор описывал, как он сладостно занимался любовью «под Солженицына», обучавшего с телеэкрана американцев правильной жизни (забавное апокрифическое свидетельство неизвестно кого: один из сыновей Александра Исаевича читал запрещенный отцом лимоновский роман – в уборной, украдкой, чтоб не досталось на орехи). Да и эрос их позднего сочинительства – сходный. Солженицын все никак не мог кончить бесконечное «Красное колесо», а когда довел дело до точки, то никакой иной реакции, кроме трех фаллических восклицательных знаков в «Новом русском слове», не дождался; Лимонов же, согласно сравнению поэта, коего имя я разглашать не уполномочен, пишет сейчас так, как порой совокупляются после пятидесяти – из чувства долга, без любопытства к процессу, и художественного интереса к себе вызвать не в состоянии. Но, конечно, не в том подлинный смысл сопоставления.
Оба они – мастера жизни, вот что их реально роднит, вот в чем их действительный мессидж. Никто другой в русской словесности второй половины столетия не построил свою биографию с такой чистотою и цельностью, как два этих антагониста. В отношении Лимонова тут все ясно, но применительно к Солженицыну такое суждение должно показаться полным безумием. Что еще за биография, если все обстоятельства складывались против нее и были тотальным насилием над жизнетворческой волей и представлением? Можно подумать, он заранее программировал для себя восточно-прусский фронт, лагерную отсидку, раковый корпус, подпольное писательство, высылку. Так ведь не в этом же дело – главное, как он все это использовал.
Безвылазный пленник острожной системы, он трансформировал удары судьбы в эстетический материал, исполненный артистизма, соорудив из кусков этой жизни, бедной и грубой, творимую легенду, в структуре которой еще предстоит разобраться. Что бы ни учиняли над Солженицыным, он всякое лыко обращал в письменную строку. Вы меня убьете, а я вас потом опишу, говорил он своим мучителям и при этом хитро смеялся. Ему все время подсовывали насильственный текст, а он, покивав для порядка начальству, эти жуткие буквы втихомолку тайно соскабливал, нанося поверх них недозволенный палимпсест. Якобы подневольная биография естественным образом стала для Солженицына связной мистической повестью. В ней обнаружилась надличная правда, пугающая и губительная для слабых сердец, и только смирение автора не позволяло ему открыто поведать миру и Четвертому Риму, откуда исходил ему явленный свет, Кто держал и водил его рукой с поистине вечным пером, непреложно предназначая к писанию, обнажая значение там, где, казалось, были лишь хаотический шум, окровавленный трепет, лязг и стенание. Отсюда же – глубочайшая уверенность автора в своей правоте и та магия победительной неуязвимости, которая потрясала его врагов. Он словно заколдован, с ним ничего не может случиться, он выходит невредимым из всех переделок. Борясь и «играя», он находился в своей несомненной стихии – стихии жизнестроительства и, разумеется, получал от этой опасной игры удовольствие.
Стоит ли говорить о том, что Солженицын полюбил ужасающий материал, к запечатленью которого он был приуготовлен – нет, не людьми, не долгом, не совестью, но горнею волею? В «Архипелаге» прямо трактуется о любви, и это чувство понятно без объяснений, оно свободно и царственно, как все, что внушается свыше. К тому же Солженицын никогда не сомневался не только в историческом и провиденциальном, но и в собственно литературном и даже техническом смысле своего описательства. Русская литература являет собой готовый набор нарративных стратегий и форм – данных и заданных (других и не нужно), идеально пригодных к выраженью любого, самого каверзного содержания. Русская литература, то есть словесность по преимуществу, пребудет всегда, ибо вся она насквозь преисполнена назначения и значения, которое ни одному супостату не по силам дискредитировать и уж тем более – упразднить. Ведь это как если бы кто-то всерьез усомнился в осмысленности надличного распорядка, освященного неотменяемым заревом Заветных идей. А он этой литературы пророк и держатель.
Наибольшей свободы от монструозного материала, исторического и биографического, Солженицын, обыкновенно художественно архаичный и нечувствительный, добился в «Архипелаге» – единственно замечательном своем сочинении. Главная прелесть «ГУЛАГа» в том, что книга – чрезвычайно смешная: таковой она автором и задумана, именно в ней он раскрыл все могущество своего комедийного и саркастического дарования, всю доступную ему тонкость композиционной режиссуры, благодаря которой потрясающе монотонная летопись народных страданий предстала увлекательным чтением. Горе дошло до самого края, через край перелилось, все вокруг себя захлестнуло, и единственной освобождающей реакцией оказался смеховой катарсис. Посмеялся – и облегчил душу. Облегчился, добавил бы Салтыков-Щедрин. Между прочим, одна из этимологий «катарсиса» – очищение в самом брутальном физиологическом смысле, возможно, желудочном: это, так сказать, освобождение от пуза. Место «Архипелага» – в не слишком осознанном пока что ряду русской прозы, в котором помещается, например, «Сдача и гибель» Аркадия Белинкова и, вероятно, оказались бы и «Зияющие высоты» Александра Зиновьева – если б не помраченный, с очевидными провалами в графоманию, «логический позитивизм» последнего впечатляющего труда, испорченного к тому же несносными «кавээновско-итээровскими» юмором и сатирой. «Архипелаг» – изящное, несмотря на гигантский объем, мениппейное путешествие на край ночи, смеховая борьба с государством и глубокая благодарность ему за предоставленный уникальный материал. Это радостное сочинение, ибо автор не пожелал сокрыть от читателя переполнявший его творческий восторг. Целевая и моральная философия этого опыта художественного исследования также достаточно очевидна: ГУЛАГ уже потому имел право на существование (обладал смыслом), что стал объектом запечатленья в «ГУЛАГе».
У Солженицына есть абсолютная цель. У него есть великая биография, совершенная, как классический текст. Солженицын – Шахерезада. Пока он рассказывает, смерти нет, всем очень весело и якобы очень страшно, как у святочного очага, а русская литература вовеки пребудет без изменений. И здесь коренное отличие от Варлама Шаламова – ярчайшего «экзистенциалиста» в русской словесности последних десятилетий.
Шаламов произнес, может быть, самую страшную фразу, способную перевесить и отменить все тома обличений: лагерный опыт не имеет для человека никакого смысла. Это не значит, что он обессмыслен, ибо бессмыслица (абсурд) – всего лишь полярная точка на той же традиционной семантической шкале. Подобного рода опыт просто расположен по ту сторону разума и привычной системы оценок. Он нейтрален, пуст и как бы не существует, его нет и не может быть. Он находится вне строительства жизни, вне пределов биографического текста, и человек, обладающий им, по сути дела, не обладает ничем – он лишен биографии. Литература не предназначена к выражению этого потустороннего бытия. Она также обнаруживает здесь собственную пустотность, никчемность. Шаламовские описания не имеют ничего общего с солженицынским претворением материала в свободные артистические конструкции, согретые изначально присущей им неотменяемой «значимостью». «Колымские рассказы» – это абсолютно внесмысловое травматическое вытеснение из себя чудовищного сырья, к коему процессу автор приговорен неизвестно кем и зачем, с неведомой целью, потому что никакой внеположной писанию-вытеснению цели у него, конечно же, нет. Допустимо сказать, что это писание-вытеснение становится искусством в уайльдовском понимании – оно «совершенно бесполезно» – и религией в понимании Тертуллиановом – оно «абсурдно».
Форма «Колымских рассказов» отрицает любую телеологию, любую устремленность – литературную и биографическую. В основе их – дурная бесконечность, концентрическая повторяемость. В отличие от линейного и телеологически распрямленного повествования Солженицына, неизменно стремящегося к своему Граалю и катарсису, они циклизуются вокруг пустоты и зияния, они расходятся, как круги на воде – в отсутствие камня. Количественно их может быть сколько угодно: больше, меньше, вообще ни одного – это не меняет дела. В каждом из них, как в голографическом фрагменте, заключена вся конструкция, и смысл целого не превосходит смысла осколка, вернее, о «смысле» здесь вообще говорить не приходится. И о литературе – тоже.
Шаламов первым отрефлексировал конец литературы, пишут сейчас критики. Не менее важно отметить, это как будто еще не было сказано, что он первым в новой русской словесности осознал фатальный конец биографии – связного жизненного повествования, наделенного неким значением. С этим Солженицын – великий артист героического жизнестроительства – никогда бы не согласился. Вот почему он так опасается возвращения, так обреченно откладывает неизбежный сей миг.
Возвращение – первый текст в единой и неделимой солженицынской биографии, с которым автор не знает, что делать. Он лишен для него смысла, непригоден к творческому употреблению. Автор уже все сказал, что хотел, остальное является лишним, а ему вдруг подсовывают новое роковое событие. Возвращение, и в том парадокс ситуации, разрушает стройность его биографического ряда. Почетное, искусительное, оно таит в себе куда больше насилия, нежели все ужасные прошлые переломы в его судьбе: там были ясны все концы и начала, а нынче они улетучились бесповоротно. Что бы ни вытворяли с Солженицыным раньше, он был уверен, что использует навязанный материал по жизненному и литературному назначению. Символический смысл возвращения очевиден, но реального он уже не имеет: был, да весь вышел, им уже не заполнишь никакую лакуну, из него не способна произрасти никакая «ризома» – специфически литературное корневище. Возвращение есть выпадение из сложившегося биографического канона, нечто такое, что лежит вне его границ и неподвластно авторской воле. Поверх этого нового нелепого текста, к которому он приговорил себя сам, всеми предыдущими инкарнациями, он не сможет уже написать привычный для себя крамольный палимпсест. Так что критики могут не злобствовать, их запал неуместен.
А что же делать с ним родной стране? Выдвинуть в президенты? Оставить в покое?
Помилуйте. Это было бы слишком банально. В Россию возвращается единственная имеющаяся у нее сейчас международная поп-звезда. Солженицын – это не красный (белый) Лев Толстой, тут даже сравнивать неприлично. Солженицын – это русский Майкл Джексон, русская Мадонна, транснациональный суперстар, если угодно – привет Амелину – протопоп Аввакум из поп-механики, но только отнюдь не курехинской, а повыше бери – небесной, со своим режиссером.
Ничего умом не понимающий в современной эстетике (недавно он узнал, премного возмутившись, о ползучей угрозе концептуализма), Солженицын репрезентирует эту эстетику собственной персоной, да так, как всем этим умникам и не снилось, ибо это он, националист и почвенник, а совсем не они – единственный русский международный человек, единственный, которого Запад не переварил, а, подавившись, выплюнул и позволил жить по своему усмотрению. Вермонтский бессрочный сиделец, упакованный, как объект Христо, в экологически чистый целлофан окрестных лугов и лесов, мужичок-хитрован в новеньком френче, любитель тенниса и словаря Даля, воспитавший, посмеиваясь, сыновей на американский манер, и все время пишет, пишет, пишет до одури, и раз в год размягченно и не без кокетства беседует с горожанами, а потом, облачившись в костюм и при галстуке, так уютно себя ощущает в старушке Европе, не забывая направо-налево давать интервью, – да это же все потрясающе эстетично, да это ж и есть «постмодерн» (им побиваемый вслух по старой конспиративной привычке), ренессансное по размаху художество жизни, и только слепец не заметит здесь истинного посленового артистизма, который с натугой и фальшью пытается изобразить из себя молодая Россия!
В сущности, он может не опасаться своего возвращения. От него ничего не потребуется. Разве что время от времени манифестационно взбираться на подиум и являть себя миру – в скрещенье лучей своей нынешней путаной славы. Разумеется, он заслужил эту светлую участь.
19. 05. 94
МЕЖ ДИОНИСОМ И ЭДИПОМ
Книга Александра Эткинда «Эрос невозможного. История психоанализа в России» обещает много, но слово свое держит плохо. Так мне казалось по мере чтения и перестало казаться по прочтении этой работы – просто ожидания мои располагались в плоскости иной или не вовсе тождественной той, в которой предпочитает помещать свои ответы автор обозреваемого сочинения. «Эрос невозможного» порожден нынешним временем, парадоксально сочетающим две разнонаправленные тенденции, два вектора самопроявления: сильный производительный выплеск и почти повсеместное ощущение усталости и финала. Культуротворческая динамика все больше вытесняется каталогизацией уже накопленных ценностей, их прощальным собирательским оглядом – прежде чем замкнувшийся исторический цикл не будет отделен от нас железным занавесом полного непонимания.
Конкретным выводом из такой ситуации обыкновенно становится эклектика. Это хорошо отрефлексированная эклектика постмодерной эпохи, если угодно, нового александризма, нимало не стыдящегося своей утомленной релятивности – ироничной и грустной, обаятельной и обреченной, с чем все легко примирились. Книга Эткинда – плоть от плоти эклектического времени, и, может быть, в этом главная прелесть и секрет ее не слишком сложного занимательного артистизма. К тому же постмодерное описание, во всем усматривающее возможность игры с затвердевшими смыслами завершенной культуры, очень удачно корреспондирует здесь с природой и судьбой самого объекта запечатления, с его поистине идеальным финализмом: «Психоаналитическая традиция в России была грубо и надолго прервана. Часть аналитиков нашла прибежище в педологии, но и эта возможность была закрыта в 1936 году. Сейчас, уже в самом конце XX века, мы вновь стоим перед задачей, которая с видимой легкостью была решена нашими предками в его начале. Только теперь задача возобновления психоаналитической традиции кажется нам почти неразрешимой».
Идейная поэтика «Эроса невозможного» – безусловный знак времени. И, будучи взятой в этом своем репрезентативном качестве, книга просто взывает к тому, чтобы ее сопоставили с каким-нибудь столь же характерным аналитическим текстом ушедшей эпохи. На мой взгляд, на эту роль претендуют «Очерки по истории семиотики в СССР» Вяч. Вс. Иванова, вышедшие в свет почти два десятилетия назад. Сравнение не является произвольным: люди, создававшие в России то, что впоследствии было названо семиотикой, не могли избежать психоанализа, мимо него вообще никому не удавалось пройти. Труд Иванова напоминает «Илиаду» – его начало и конец условны, это как бы случайный, но также и абсолютно непреложный эксцерпт из героического мифа о становлении, гибели и посмертном возрождении великой науки. Автор находится посреди мифа как его законный адепт и послушник, он погружен в мифологическую истину, а его функция участника-повествователя заключается в непрерывном воспроизводстве и возобновлении этой правды – чтобы костер не погас. Пафос создателя «Семиотики» есть пафос авангардистский. Он предполагает нисхождение в отдаленные шахты и штольни, в глубины утраченного или насильственно вытесненного смысла, в забвенные области немотствующего наследия, дабы они снова обрели первозданную речь. Повествование об этом умолкнувшем языке разворачивается в формах самого языка, а вернее, его новаторских диалектов, и мы, таким образом, становимся свидетелями подлинной драмы идентичности, когда погибшая речь вспоминает себя по ходу своего нового проговаривания, возвращаясь к сознанию и бытию.
Идеология «Эроса» принципиально иная. Здесь нет ни драматургии самостоятельного движения имперсональной мысли, за которой автору нужно лишь поспевать, но которая проявляет себя и без его помощи, ибо эта мысль объективна, ни орфического нисхождения в глубину вослед Эвридике исчезнувшей истины, потому что постмодерн уничтожил различие между поверхностью и глубиной, ни ощущенья себя посреди текста истории в качестве его сотворца, ибо психоанализ в России утрачен и едва ли вернется. Здесь доминирует единственно возможный эрос – эрос рассказывания увлекательных историй. Имманентный и неприступный миф «Истории семиотики», этого памятника надежды на независимость внутри брежневизма, сменяется занимательным беллетризованным повествованием после конца света, ироничным и совершенно безнадежным, ведь финал этой истории слишком хорошо известен уже в самом истоке рассказа, и начинать в который уж раз приходится на пустом месте. И еще одно резкое различие двух сочинений. Книга Иванова к моменту своего выхода в свет представляла собой уже некое общее место – в ней подводились итоги многолетних неофициальных кружковых бесед, и люди, которым в этих беседах приходилось участвовать или о них слышать, уже не могли отнестись к «Семиотике» как к сочинению личному и оригинальному. Напротив того, монография Эткинда – продукт его индивидуального творчества, она не связана с отвердевшей, как общее мнение, кружковой традицией. Этот текст – очень личный.
Читатель, ждавший от «Эроса невозможного» концептуального проникновения или разгребанья архивных завалов, будет премного разочарован. Те же, кому надоели каталоги идей, но не вовсе наскучили судьбы их разработчиков, получат бесспорное удовольствие от занятных и печальных историй. Впрочем, авторская метода конгениальна объекту жизнеописания. Что есть классический психоанализ, если не обмен устными историями между врачевателем и лежащим на венской кушетке расслабленным подзащитным, обмен вопросами, ответами и рассказами, как бы прорубающий шахту для нисхождения к той, самой главной и заблокированной праистории, с коей и начался этот замкнутый и потом в идеале разомкнутый лекарем травматический круг? Не сказать ли нам, укрупняя масштабы сопоставлений, что и мир наш общественный, а также и распорядок географический и политический суть производные от изустных историй, что в мире том господствует политэкономия обмена рассказами? Вспоминается притча одного из французских структуралистов. Лазутчик гуннов повествует начальству о великолепных землях, через которые пролегал его путь. Эти богатые земли вместе с их населяющими племенами возможно и должно подчинить славе оружия гуннов. И войско гуннов снимается с места. А что лежало в основе этого импульса к власти? История, поведанная соглядатаем.
Психоанализ есть царство рассказов о влечении к любви и смерти. Священно-таинственная связь рассказывания с любовью, жизнью и смертью была осознана уже очень давно. Пока длится история, смерти нет – есть лишь Эрос, торжествующий над Танатосом (уж позвольте мне вымолвить две-три случайные фразы в манере Вербицкой с Нагродской). Архетипическим доказательством служит, конечно же, «Тысяча и одна ночь», где любовь побеждает смерть и текст организован с помощью двойной повествовательной мотивировки. Шахерезаде дарована жизнь до тех пор, пока она будет рассказывать сказки своему Шахрияру. Многотомное говорение уберегает рассказчицу, и оно же, говорение, является необходимым условием развертывания текста, который, повинуясь собственной логике, не может закончиться, прежде чем выложит себя без остатка, а значит, и рассказчица не умрет, покуда не выплеснет из себя все истории, а там ее уже окончательно полюбит и простит Шахрияр. Метафорическая эта ситуация обретала, однако, реальность в советских концлагерях, где уголовные щадили тех, кто умел для них «тискать романы» – авантюрные и любовные. Шкловский вспоминал, как он в молодости, путешествуя по Кавказу, искупался в какой-то горной реке, в которую иноверцам входить запрещалось. Старейшины горного племени собирались отрезать ему уши за это преступление. И тогда он принялся рассказывать истории. И его отпустили с миром. Даже если Виктор Борисович это воспоминание сочинил (откуда бы уболтанным им старейшинам так хорошо знать русский язык?), то сочинил очень правильно, как истинный автор и теоретик словесности. Самое время теперь возвратиться к «Эросу невозможного».
Центральная и творчески наиболее самостоятельная глава книги посвящена соотношению фрейдовского психоанализа и русского символизма. По мнению автора, оба эти направления мысли стремились ответить на один и тот же комплекс вопросов: что есть «внутренний человек»; каким образом лучше всего осветить его темную душевную подноготную; каково содержание этой потаенной жизни и открывают ли к ней доступ сны, фантазии, мифы и произведения искусства; возможно ли сделать сексуальность фактом культурного переживания и осознания; что нужно совершить для того, чтобы интегрировать зловещие инстинктивные поползновения в созидательную цивилизаторскую активность, – и еще многое-многое в этом же роде. Но если психоанализ, настаивает автор, был прежде всего рациональной системой познания, острокритической в отношении любой мистифицирующей мифологии и склонной к тому, чтобы укрепить в человеке его разум, индивидуальность и независимость перед лицом массовых поветрий столетия, то символизм был скорее мистическим орденом и в основе своей – антиинтеллектуальным течением мысли, опасно растворявшим отдельного человека в смесительном лоне «тоталитарной» соборности, магизма, религии Богочеловечества и андрогинной сексуальности.
Эмблема психоанализа – Эдип. Эмблема русского символизма – Дионис. Между ними – пропасть. Приведу большую цитату: «Сущность Эдипа в его отдельности и его идентичности. Он человек, мужчина и сын, он принадлежит к своему роду, своему полу и своему поколению. Его чувства и поступки заостренно индивидуальны, он любит только свою мать и убивает именно своего отца. Его чувства не смешиваются одно с другим, его любовь отлична от его ненависти. В мире Эдипа любовь и влечение к смерти так же далеки друг от друга, так же не могут слиться в одно, как не может он спутать свою мать и своего отца, вообще мужчину и женщину. В этом мире противоположности существуют в своем чистом виде, не могут найти медиатора и не должны искать его… Дионис, наоборот, снимает в некоем синтезе противоположности индивида и универсума, мужчины и женщины, родителя и ребенка. Его сущность – в циклическом умирании и возрождении. Возрождая сам себя, Дионис не нуждается ни в родителях, ни в детях, ни в партнере другого пола… Его эрос обращен на самого себя. Дионис – Нарцисс, но он же и Осирис. Он любит и ненавидит в одно и то же время потому, что рождается и умирает в одном и том же акте. Дионис – Христос, но он же и Заратустра». Конец цитаты.
Отметим и то, что сущность Эдипа – в индивидуальном разгадывании страшных загадок, Эдип – это синоним познания, борьбы мысли со смертью, это одинокий путь отдельного, не коллективистского человека, желающего избегнуть своей судьбы. Дионис – бог вина, оргиастических плясок и загробных странствий – только и делает, что пьянствует, хохочет и «заголяется». Это бог, не сознающий себя, потому что у него нет своей идентичности. И это лишь кажется, что он один, а на самом деле его даже слишком много, он объединяет в себе толпу и массу. По первому впечатлению человекообразный, он меньше всего напоминает о человеке и не хочет им быть. Впрочем, у него нет желаний, связанных с мыслью и волей, как их нет у животного или у пляшущего племенного божества (разница между ними невелика, и они все время перетекают друг в друга).
И тут нам, конечно, все становится ясно. Книга Эткинда – не про Эдипа и Диониса. Вернее, эти вечные образы намекают на что-то другое, куда большее, нежели психоанализ и символизм. «Эрос невозможного» – любопытнейший документ современной души, души очень еврейской и западнической, утомленной тяжелой для нее привязанностью к России, которая (и привязанность, и Россия) имеет характер невроза и от которой невозможно избавиться. Эдип – символ Запада, вот к чему приводит нас автор. Дионис, соответственно, – России и русской идеи. Он высокомерно философствует в «Мусагете» (значение аполлоновского элемента в русской культуре эпохи модерна Эткиндом явно занижено), а потом пьет, пляшет и плачет под забором, вымазавшись своей и чужой кровью. И все симпатии автора, как вы уже догадались, на стороне его неявного оппонента – того, кто обладает разумом, сознает себя и не боится предстать перед Сфинксом.
Мысль Эткинда отнюдь не нова, ей легко предъявить упреки в банальности. Однако она привлекает другим – остротой, с которой она воскрешает типовые духовные матрицы, в данном случае – традиционное историософское противопоставление России и Запада, чуть ли не с конструктивистским напором (но и с печалью) решенное в пользу последнего. Можно съехидничать и подметить, что этой мысли тоже присуще своеобразное дионисийство, ибо она все время себя воскрешает в зеркале великих образцов и, таким образом, выказывает свою фатальную зависимость от русской идеи с ее назойливым возвращением-возрождением. Иронизировать между тем как-то не хочется, да к тому же едва ли получится – для этого нужно быть человеком свободным.
Русский дионисизм, простирающийся в диапазоне от символизма до большевизма (они, как уже не раз отмечалось, частенько говорили на одном языке), есть для Эткинда стремление к аморальному синтезу, к слипанию всего и вся в беспринципнейшем вареве. Это безоглядная русская коллективистская утопия, которая в соединении с еврейским активизмом приносит хорошо известные плоды. Дионисизм все ясное и отчетливое делает мутным и липким. Он из человека образует толпу, а из мужчины и женщины – андрогина, которого собирается полюбить, ибо в любви к андрогину – смысл настоящей любви. Он повсюду выискивает избу для хлыстовских радений. А соборность его – свальный грех. И, что хуже всего, он возрождается, возрождается…
История русской идеи и советской идеологии как закономерного ее продолжения сводится в книге к истории дионисийских реинкарнаций. Очередная пришлась на 30-е годы, когда с советским Эдипом было покончено. В то время Бахтин написал своего «Рабле», и вышедшую спустя четверть столетия книгу ошибочно, по мнению автора, посчитали освободительной и антитоталитарной (не только советские шестидесятники, но и, к примеру, политически правый латиноамериканец Марио Варгас Льоса). Эткинд пошел по легкому пути – чтобы сегодня обвинять Бахтина в потакании коллективистскому оргиазму, больших умственных усилий не требуется. В знаменитом сочинении о Рабле в самом деле имеется весь хрестоматийный дионисийский набор – общенародное гротескное тело, сминающее человека в своих карнавальных ладонях, неразличение рожденья и смерти, погребения и зачатия, мужчины и женщины, тяготенье к телесному низу и любовь к андрогину. Но работает Эткинд здесь грубо и бесконтекстно, не называя имен. Бахтин у него отвечает за все и за всех, как если бы не было близких идей у других знаменательных авторов ушедшей эпохи – у Ольги Фрейденберг в «Поэтике сюжета и жанра», у Голосовкера или у Лосева, который много позднее, в семидесятые, проклял дионисийство в «Эстетике Возрождения», сохранив трогательное влечение к Ницше и Вячеславу Иванову – с них, грубо говоря, весь этот «разврат» начался. Да и ведущего теоретика «Перевала» Абрама Лежнева упомянуть не грех – лишь нежелание загромождать затянувшийся текст цитатами мешает мне привести вполне дионисийские пассажи из смелой лежневской книги «Разговор в сердцах» (1930), во многом предопределившей судьбу автора.
Но не в этом же дело, и не тем любопытна защита Эдипа с его познавательным комплексом – после атаки Делёза и Гваттари («Анти-Эдип»). «Эрос невозможного», повторяю, – свидетельство, документ нашего времени, дневник беспокойного сердца. Очень еврейский по стилю и тону, еврейскую свою принадлежность намеренно акцентирующий, дневник показал нам желание автора вырваться из пределов вечного круга рождений-смертей, отождествленного с Россией и «русской идеей» – от символизма до наших дней. Желание это, объяснимое и несбыточное, придает сочинению душевную подлинность. Для психоаналитика книга – подарок отменный. И опыт в ней отложился – «дионисийский», коллективный, не личный.








