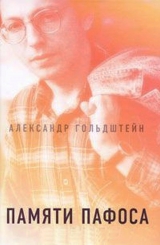
Текст книги "Памяти пафоса: Статьи, эссе, беседы"
Автор книги: Александр Гольдштейн
сообщить о нарушении
Текущая страница: 29 (всего у книги 40 страниц)
Признания он добился совсем молодым, через три года после Второй мировой, ворвавшись в искусство и общественный стиль на крыльях прекрасной армейской трагедии «Нагие и мертвые», и все же родина его истинной славы – Шестидесятые, когда он настолько не ведал усталости, что это граничило с чародейством. То было время Джона и Роберта Кеннеди, Мартина Лютера Кинга, Вьетнама, Мохаммеда Али, высадки на Луне, молодежного неподчинения, нью-журнализма, литературного взлета, время его, Мейлера, лучших замыслов, инспираций, героев, и он находился в центре любой, где бы ни возникала она, разрывной и критической силы, и что бы ни происходило потом, твердо знал – Шестидесятые не превзойдены. Возвыситься над ними могла бы культура, во всех отношениях более грандиозная, нежели та, что погибла в борьбе с гравитацией; этого не произойдет, ибо культура уже не пытается победить тяготение. Литература тоже не ставит перед собой восхитительно невыполнимых задач. Ее нет, покувыркавшись, она сомлела, как в жаркой перине позорная тварь, выхлопотавшая ренту за немолодую разборчивость в связях. Похрапывает вместе с писателями, салонными баловнями стилистических головоломок. Литература в прошлом, истлели ее безумные дни. Теперешняя не в счет, это его стойкое убеждение. Книги, выношенные в сухом чреве, рождаются мертвыми. Прозрения и лучевые пульсации – удел сочинений, возросших в надежде изменить жизнь людей, а не добиться от них денег и лести. Книги этого типа написаны в Шестидесятые, тогда же был и размах честолюбия («Неприятная правда состоит в том, что я живу, словно в тюремной камере, пленником представления о себе как о человеке, который не удовлетворится ничем меньшим как совершением революции в сознании нашего времени. Ошибаюсь я или нет, но я не могу разубедить себя, что именно моя настоящая и будущая работа перевесит работу любого современного американского романиста» – Норман Мейлер, «Самореклама»). Необходимо напомнить о времени, литературе и людях, доказав, что подобных им больше не было, вскрыв все ничтожество нынешних комфортабельных сумерек. Для этого, разумеется, недостаточно аптекарски взвешенных слов, аналитических выкладок, мемориальных облизываний, старческих возлияний у гроба. Нужен бешеный окрик, нужны в старых традициях драка, хук и нокаут, когда, отсчитавши до десяти, бросают с носилок на лазаретную койку и оттуда в могилу. Чужих так не бьют. Так бьют своих, чтоб чужие боялись. Но и своих уродуют с выбором, каждый первый на эту роль не годится. Надобен равный и хищный, одного возраста и напора судьбы, племенной рекордист, не меньше тебя самого отвечающий за баснословное прошлое, такой же, как ты, производитель Шестидесятых, и кто, если не Вулф, заслужил быть размазанным по канатам, а затем пасть вниз глазами, с багровыми полосами на спине. Во имя чего этот бой и удар? Это ритуальная жертва. Только жертва способна поведать о несгинувшем поколении, о высоте его помыслов, о том, что оно по-прежнему беспощадно к своим и в прекрасной безжалостности к другу и близнецу видит закон сохранения идеалов и дружбы; сплоченное пролитой кровью, это единственно стоящее поколение отвергает все, кроме правды, но и правдою факта готово оно поступиться ради превосходящей ее сверхистины примера и жертвы. Неважно, выдавил Вулф гадкий бестселлер или отменную прозу. Его книга лишь повод к тому, что давно уж назрело, к обрядовому умерщвленью сородича, который, взойдя на костер, осветит дряблый воздух растоптанных ценностей и еще раз – в последний, может быть, раз – пронзит мир презрением, вызовом и свободой. Презрительной, вызывающей и свободной была вся шестидесятническая литература, так пусть же узнают отменившие ее самозванцы, на каких весах надлежит взвешивать слово и жизнь.
По условиям времени и заботясь о пламенеющем будущем, которое непременно наступит, но в свой черед, не раньше, не позже, эти вещи нельзя высказывать прямо, о них говорят обходным языком, внешне сходным с обычною руганью, однако враги, чьим ушам адресована речь, устрашившись, поймут ее с полунамека, и уж конечно, поймет ее тот, кому предназначена главная роль ритуального оппонента и жертвы. Он, Том Вулф, вслух разразится колкою отповедью, в сердце ж своем будет держать тайный знак группового сообщничества, знак причастности заговору и незримой, покамест, победе.
Они увлеченно играют в эту игру, а партер и галерка аплодируют им; в период усталости от литературы литературная распря привлекательней толстых и тонких книг.
28. 01. 99
ЛУЧШЕЕ ЛУЧШИХ
Еще немного, и три нуля, убрав девятки, воззрятся наподобие бойниц. Радоваться смене цифр может лишь юность, не изведавшая сути перемен, да крапивное семя оракулов – торговцев надеждой и страхом. Не относясь ни к одной из этих категорий, воспользуемся эпохой канунов для размещения наших привязанностей среди других итожащих столетие таблиц и реестров. Вниманию публики предлагается пестрая лента – свиток наиболее знаменательных русских романов XX века. Основанием предпочтений послужила разнузданность личного вкуса, однако автор отказывается считать свой отбор произвольным. Напротив, он полагает себя эоловой арфой, выражающей трепетания какого-то общего мнения. Не потому, что, гипертрофируя собственную отзывчивость, наделяет ее медиумической чуткостью, но подчиняясь гораздо более элементарным резонам, а именно: автономия частного выбора угнетена властью механики, которая помещает человека в средоточие универсальных зависимостей, где отвергается и робкая мольба о персональном поступке и слове. Эти последние мыслятся исключительно как производные символических внушений Канона. Философия оттого с такой удивительной легкостью устранила субъект, что все его жесты, по ее философскому разумению, выварены в котле законодательных норм языка, уничтожающих область индивидуальной претензии и изобретательского порыва. Чтобы сегодня подыграть духу времени (так называемому Zeitgeist’у), требуется ничтожная малость стараний; необязательно мудрствовать, суетиться, тело само, без помощи мозга, исполнит духовную участь по нотам всеобщности. Нет ничего объективнее субъективного выбора, сказал бы пишущий эти строки, пожелай он обогатить их простым парадоксом. Следствием указанной, очень распространенной ныне позиции является подавление личной вменяемости и личности как таковой, с чем мы, впрочем, атавистически не согласны. Трудно смириться, что пальцы гуляют по клавишам под диктовку вездесущих репрессивных установлений письма, и в муках рожденный список романов, скрасивших столько уединенных часов, навеян коллективной грезою тех, кто, может быть, невнимательно листал эти книги. Посему упреки и предложения просим, по обыкновению, адресовать составителю, а на вопрос, что конкретно его вынуждало к отбору: художественное ли совершенство творений, сформированная ими новая картина реальности, степень влияния ее на сознание, драматичная и высокая судьба сочинителей либо что-то еще, ответим с полной искренностью, без обиняков – все перечисленное. И даже что-то еще. Оно и образует свечение тайны, для которой нет в словарях точного имени.
Теперь – обещанный перечень лучших русских романов века, в алфавитном порядке авторов и с краткими характеристиками произведений.
Даниил АНДРЕЕВ
«Роза мира»
Он израсходовал залежь интеллектуальных ресурсов, аргументируя неотлагаемое пришествие великой Розы – свадьбы церквей, их воссоединительного перевоплощения в межисповедную сверхмолельню, и доводы рассудка выказали свою несущественность по сравнению с тем, что открылось Андрееву в первозданном мистическом постижении. Роза расцветает в стороне от чьих-либо намерений и доказательств, ее можно только увидеть, там, где она и явилась творцу ее лепестков, в смрадной преисподней, возле параши, принявшей форму абсолютного низового ничто. (Неподалеку, под нарами, Лев Гумилев, создатель другой восхитительно тюремной доктрины – ибо чем, как не тоскою по воле, объяснить упоение степными кочевьями и ненависть к крепким стенам городов, – ощутил прикосновение жгучих крыльев пассионарности; есть легенда, что авторы встречались в темнице, значит, происходило взаимодействие мыслей, и андреевский романизированный свод озарений освещен также лапидарной, как фотовспышка, гипотезой, трактующей о внезапных движениях в даль, в неизвестность племен и народов.) Роза сошла к Андрееву не одна. Он узнал все небесные отрасли мира, иерархии уровней и слоев, отвратительную животность населяющих космос уродов, чавкающую бойню демонов государственности, ослепительно выследил, что Армагеддон случится в Сибири, и осуществил главную мечту русских писателей первой половины столетия – вступил в непосредственное общение с Иосифом Сталиным. Во глубине львиного рва Даниил держал повелителя царства и единственного соперника своего на ладони, предрекая ему гибель богов. Около сорока печатных листов достаточно внятного визионерства и галлюциноза, опыт провидчества, тем более тавтологичного, что роза – это роза, как сказано в «Анти-Дюринге» и повторено американской авангардисткой.
Исаак БАБЕЛЬ
«Конармия»
Память сначала цепляется за восточную пылкость стиля, упираясь затем в нервный узел русского и еврейского. Активность евреев идейная, их томление – о преображении сущего, осиянного иудейским вопрошающим смыслом и православной строительной кровью. Действия русских испытывают грань между жизнью и смертью, располагаясь на ускользающем перешейке, за которым подвижное и кричащее становится косным, немым и статичным; отсюда обряды мучительства и воскрешение старинных жертвенных фабул заклания (отец убивает сына, сын кончает отца). Расширенное созревание, плодоношение силы и пахучее, гнилостное буйство отличают русскую плоть. Бледная скудость и воспаление близорукого чувства свойственны плоти еврейской, боящейся обретаться близ лошадей, потных женщин, тачанок и выискивающей талмудический притчевый корень в риторике газетной страницы. Оба национальных, религиозных и плотских начала, присужденные к слитному страданию в истории, объединены святым телом События – Революции, наблюдаемой глазами еврея. То неповторимый взгляд постороннего соучастника, его дуальная оптика до сих пор фиксирует гнойные зоны славяно-семитских касательств и связей. Русский не мог бы с такой последовательностью дистанцироваться от своего и чужого; особому искусству невозмутимости, эмоциональной, жестокой, бьющей навылет, не вполне научилась и новейшая литература России. Но выставлять дело так, будто книга написана прикомандированным к наполеоновской армии чужаком, тоже неверно. Чужак не передал бы благоговейной раздавленности, охватывающей повествователя, когда он окончательно проникается, что прикован к этой стране и не вырвется из ее лап.
Андрей БЕЛЫЙ
«Петербург»
Хронологически первая экспериментальная проза столетия, глубоководная бездна, священное озеро с утонувшими в нем и градом и колоколом. Слово «концептуальный» захватано до неприличия, но это и первый концептуальный роман, в специальном значении термина, примененном более полувека спустя к литературной и изобразительной практике, так переплавившей творчество и анализ, что ни единая молекула текста не избежала рефлексии. Ошеломительность беловской новизны опустила занавес над эпохой невинности, ибо все, что с начала начал мнило себя несомненным, от строения фразы до краеугольных, определяющих романное самосознание мифопоэтических схем, было уличено в причастности условнейшему из договоров с постоянно меняющимся содержанием статей. Петербург воздвиг свою твердь на болотах. «Петербург» вознесся над расколдованными параграфами литературной конвенции, питаясь их отприродным волюнтаристским притворством и открывая в нем новую, на сей раз уже безусловную – ведь ее разоблачили – магию власти. Литература тут выступает объектом безжалостной оперативной любви. Национальные мифы портретируются с чудной наглядностью, точно фотограф заснял их компактною группой, рассевшейся у стола на манер «Общества борьбы за освобождение рабочего класса». Тотальная сконструированность, но истинная сила книги в трагичном, глумливом и распятом голосе. Он поднимается ввысь и, паря в окутавшей страну пелене, плененно стенает, беснуется, мечется, кричит о нашествии оккультного морока, предрекает беду (будет, будет новая Калка) и сжигает себя в ярко-алой, как плащ-домино, стихии лирической подлинности, предвестии мессианских пожарищ.
Артем ВЕСЕЛЫЙ
«Россия, кровью умытая»
Гроссмейстер Нимцович, объясняя динамику пешечных расположений, иллюстрировал ее примерами из литературы и кинематографа, обратившихся к изображению масс. В этом была не скоропортящаяся мода искусств, но, говоря словами дадаистского манифеста, многотысячная правда времени, правда 10-х, 20-х, 30-х годов. Никто не дал более мощного, осязаемо убедительного движения коллективов, чем их эпический поэт Веселый, заслуживающий называться крупнейшим экспрессионистом России, и если бы из сонма эпохиальных свидетельств надо было выбрать одно, я остановился б на книге Артема, ибо речь его совершалась в безвыходном круге проклятий, упоения и крови. Пятнадцать лет смотрел он в лицо толпе, пренебрегая ее гуртовой психологией, тщеславием вождей и вожатых, концентрируя лучи ума своего на религиозном собирании в массу, на этом вселенском, в русских пространствах, соборе. Он занимался плотностью и весом орд, он следил за рассеянием толп и тем, как, рассыпавшись, они стягивались в новую ртутную целостность. От него, жившего жизнью страны, вряд ли укрылось, что за годы, потраченные им на книгу, революционные массы стали другими, что их несколько раз подвергали истребительным процеживаниям и селекциям, в результате чего массы поредели, и тогда он принял обет спасти всех хотя бы в написанных им страницах, где солнце народа и революции навсегда застыло в зените, а если спасение не удастся, то умереть, как умирали другие. Артем Веселый разделил судьбу российских толп – он был расстрелян.
Максим ГОРЬКИЙ
«Жизнь Клима Самгина»
Апокриф гласит, что автор, будучи спрошенным, кто прототип Самгина, молча начертил тростью в пыли садовой дорожки имя героя и обвел кружочками два сочетания букв – «Сам» и «МГ». Роман задуман и начат свободным писателем, примерно к середине третьего тома (две с половиною книги из четырех гениальны) наступает внутренний слом, вызванный тем, что по мере приближения заглавного персонажа к 1917 году автор все менее знал, как отнестись к этой поучительной вехе истории. В клубке эмоций, опутавших его больную душу, одно чувство подчинило себе остальные: растерянность старого литератора, не понимающего, способен ли он дальше вести строку таким образом, чтобы читатель не догадался об этом страшном смятении. Рука уже не держала перо, мы вообще затрудняемся объяснить, как ему удалось завершить свою прозу (впрочем, он ее, разумеется, не окончил), но в нарастающей панике – так брошенное войско видит опускающуюся с небосвода смерть – таится неостывшая прелесть романа. Современник рассказывал, что Горький помнил имена всех исхоженных в молодости деревень и всех встреченных им людей. «Самгин» – плачевная оргия памяти, циклопический мемориал, Тадж-Махал любви к России, любви тяжелой, истерзанной, и недаром плодом ее стало множество шаржированных уродцев всех сословий, профессий и званий, насельников мавзолея усопшего мира. Горький покрывает Россию, как Зевс свою европейскую телку, он прощается с ней накануне рокового события, сводя счеты с героем, которому сквозь ненависть соболезнует, потому что это он сам в зеркалах обреченности.
Илья ЗДАНЕВИЧ (ИЛЬЯЗД)
«Восхищение»
В начале 30-х несколько ключевых фигур русского футуризма, стремясь оправдать свою молодость, выступили с отчетами об антибуржуазном прошлом движения, и пронизанный славяно-азийскими историософскими обобщениями «Полутораглазый стрелец» Бенедикта Лившица встал в ряд с простеньким мемуаром «Наш выход» Алексея Крученых, чей сервилизм выдался слишком испуганным, чтоб просочиться в уважавшую ненаигранный пафос печать (дивное диво – этот же человек взорвал некогда воздух роскошными стихами и декларациями). Книга крайнего футуриста Зданевича, крохотным тиражом опубликованная парижским издательством в марте 1930-го и спустя 65 лет в столь же мизерном числе экземпляров перепечатанная небогатым московским энтузиастом, по мнению комментатора, с которым мы солидарны, должна быть прочитана как аллегория восхождения и гибели будетлянства, развернутая у кавказских отрогов и близ снежных вершин, в окружении старцев, разбойников, красавиц, сокровищ и кретинов, распевающих нечленораздельные песни. Главным преимуществом автора-эмигранта перед теми, кого он оставил в Москве и Тифлисе, оказалась свобода от исповедального покаяния, и он употребил ее на создание волшебной, как заговор колдуна, прозы, коей почти первобытная баснословность изложена речным и глубоким, промывающим зрение языком. Ничего подобного до Ильязда в русской литературе не было, так что пессимистический роман о падении левого искусства не с чем сравнить, разве с иными прозрачными тканями Хлебникова, тоже сочетавшего авангард и архаику. «Восхищение», вероятно, навсегда разминулось с известностью, и причиной тому не эзотеричность романа, но бездарность русских оценщиков и пропагандистов. Любителей зрелого Джойса, умеющих получить от «Улисса» и тем паче «Поминок» нелицемерное удовольствие, вовсе не миллионы, а стражи английского слова, критики и профессора, хладнокровно ставят ирландца, не смущаясь его герметизмом, на первое место в столетии… Известие о самоубийстве Маяковского Зданевич получил через несколько дней после выхода книги.
Михаил ЗОЩЕНКО
Все написанное
Исследование советского муравейника как цивилизации небывалого типа, в то же время до странности узнаваемого. Лучше поэта не скажешь: Библия труда, автор заслуживает памятников по стране. Опись переходных состояний сознания – социалистического, в тибетских терминах говоря, Бардо, когда после освобождения от колеса превращений, нависавшего нестерпимым возвратом к ветхой культуре и отреченному гуманизму, душе открывается путь рождения в счастливой земле, месте пребывания бессчетного племени праведников, изъясняющихся на коммунально-барачном жаргоне и почему-то подверженных тем же страстям и порокам, что люди до сотворения мира. В записанных философом Л. Липавским разговорах обэриутов читаем: «Что в общем произошло? Большое обнищание, и цинизм, и потеря прочности. Это неприятно. Но прочность, честь и привязанность, которые были раньше, несмотря на какую-то скрытую в них правильность, все же мешали глядеть прямо на мир. Они были несерьезны для нас… И когда пришло разоренье, оно помогло избавиться от самообмана». Подобно обэриутам, Зощенко обладал взглядом, избавленным от самообмана, но, в отличие от этих катакомбных мыслителей, у него было ясное утопическое намерение устранять порчу и заблуждения посредством литературного слова (из обэриутов в этом отношении с ним сходствует, пожалуй, один Заболоцкий). Он пишет смешно не для того, чтобы публику рассмешить, а в силу утрированного, выделенного положения слова, занимающего примерно ту же позицию, что и, допустим, визуальный объект в поп-артной эстетике. Проза его наставительная, проповедническая, иногда прямо житийная, он стремится влиять на умы и на совесть, исцеляя человека и общество. Значение Зощенко возрастает. Его творчество бодрствует у истоков какой-то еще не явившейся литературы.
Всеволод ИВАНОВ
«У»
Формальный план книги, несколько десятилетий пролежавшей в запасниках, обрисован отчетливо Шкловским. Схема петрониевского романа, дно города, похождения очень талантливых авантюристов, время приурочено к сносу храма Христа Спасителя (от себя и в скобках заметим, что авантюристы, затеяв наконец довершить ретортное выкипячивание Адама советикуса, вербуют рабсилу и подключаются к другим сомнительным мероприятиям). Похоже на бахтинскую мениппею, но Шкловский с автором этой теории враждовал и термина избегал. Содержательная сторона романа осталась в тумане, и если я правильно ее различаю, сводится (о, конечно, не сводится) к показу формирования закрытого общества. Отгороженное от всего, что извне, мутное и липкое внутри, оно подавляет свободные коммуникации, вытесняя их устным преданием: сплетнями, косвенной речью, шепчущей подозрительностью. Атмосфера мистифицирующей провокации достигается душным, пародийно-двусмысленным языком, главным агентом романного действия, и структура этой речи удивительна. Представим, что «Столп и утверждение истины» о. Павла Флоренского, не поступившись ни византийской червоточивостью, ни изуверской церковною сладостью, ни упованием натурально, без винно-просфорных заместительных околичностей, причастится крови и плоти Спасителя, представим, что этот сочащийся ересью богословский эпистолярий перетек в плутовское советское повествование, и тогда нам откроется психологос романа. Он плохо усвоен даже ценителями искусства Иванова.
Илья ИЛЬФ, Евгений ПЕТРОВ
«Золотой теленок»
Цитатник поколений, редкий образчик нигилистической лирики и бесслезного, чреватого мизантропией тупика, в котором холодеет религия и не помогает агностицизм (ср. «Записные книжки» Ильфа). Странное, загадочное сочинение об отщепенстве, внутренней эмиграции и поражении огромного среза культуры. Проза с непредумышленным зарядом идей, вырвавшихся за пределы лояльного замысла. Более подробное толкование книги, буквально взывающей, чтобы ее рассмотрели в международном «контексте» литературы о тщете любого усилия (напрашивается, кстати сказать, и Селин), приберегу для специального разговора.
Эдуард ЛИМОНОВ
«Это я – Эдичка»
Молодой человек честолюбивой наружности и поэтических дарований, воспитанник Государства, в котором, в отступление от велемудрых заветов Платона, социальная беспрозванность компенсировалась стихотворной известностью в полуподпольном кругу (и это был статус, если кто усомнился или запамятовал), молодой человек, алча обителей славы, соблазняется Западом и, потрясенный, осознает, что его новое, американское положение стократ хуже прежнего, покинутого столь опрометчиво. Трущобная крыса с коркой велфера в голодных зубах, он утрачивает оправдание унижений – веру в необходимость своего литературного слова, ибо вокруг нет внимающих этой речи людей, теряет любовь, уставшую делить его нищету, расстается с несбывшимся сном о признании, блеске, награде и взамен получает протяжный, на три сотни страниц растянувшийся вопль, тот единственный вопль, что во все времена исторгался лишь одержимою глоткой свободы. Наступает же эта свобода в момент, когда, кроме нее, надеяться больше не на что. Невзгод он себе не желал, но жанр вопля оплачивается угнетенным состоянием автора, и даже если разум не хочет страданий, тело, потенциально готовое к пронзительной откровенности, так извернется в судьбу, что крик становится неизбежным. Лимонова в той же мере назначили выкрикнуть «Эдичку», в какой Солженицына приговорили к написанию «Архипелага». В одном случае книгу ждали миллионы убитых, в другом ее встретила русская литература, изнемогшая от целомудрия и фальшивых приличий. Вопль – однократное действие, было бы глупостью требовать его повторения. С той поры, уйдя от поэзии, автор выточил много прозы и публицистики, вернулся назад, увлекся политикой, несколько раз прекрасно говорил с экрана о революции и любви, сменил облик, стиль, поведение, женщин, и только глаза на одряблевшем лице иногда выдают, что это все еще он – Эдуард Лимонов.
Юрий МАМЛЕЕВ.
«Шатуны»
Возгорись кто со всеми удобствами выпытать душу, разверстую под небом русской земли, не найти ему территории богаче и комфортабельней «Шатунов». Только здесь можно свидеться с дремучим правдоискателем, убивающим путников в надежде проникнуть в их темные мысли, с умельцами, чье вожделение замкнуто поеданием собственных организмов, с изощреннейшей партией солипсических выродков, мечтателей уничтожения сущего, с легионом иных мракобесий, и эта чудовищность – национальная, из чресел России, из ее особой, вестимо, судьбы. Литература, дабы собрать под крылом своим все накопления духа, должна хоть однажды катапультироваться из гуманизма, и в русской словесности Мамлеев этот рискованный номер исполнил. Его Россия – нелюдское и гиблое место схождения противоречий (ты там, где тебя нет), область чудесного помешательства и тоски. Человеку в ней уготована подчиненная роль, а сольные партии отданы астральным слоям и великой Традиции, леденящему сверхперсональному комплексу верований, исполненных безысходной кромешности, которая старше начала времен. Родословной автор не утаил: Серебряный век и с определенностью «Серебряный голубь», повесть-пророчество об интеллигенции, захлебнувшейся в сектантском народе. «Шатуны» – бурлескная на ту же тему вариация, а равно обелиск московскому обществу эзотериков 60-х годов, обрамленному экзотической труппой бытовых психопатов, мамлеевских придворных персонажей и шутов. В последние два десятка лет автор развивает запутанную концепцию Богореализации, но более на высоту «Шатунов» не взлетал.
Юрий ОЛЕША
«Зависть»
Олеша гордился своими метафорами, в «Зависти» они растут как цветы и затем усыхают, а сама проза неизбывно свежа, ибо разыграна на неметафорических квадратах боли и жалобы. Почти каждый боится нищеты, бездомности, одиночества, того, что пьяным будет изгнан из пивной и унизительно подобран посторонним, и куда нести сердце, помнящее Иокасту, что делать с собою, рожденным для любви, если вместо нее, обманувшей, жирная баба, с которой спят в очередь. Эта боязнь в природе людей, ее не знают только избранные. Автор к ним не относился и, освобождаясь от страха, т. е. принимая всю его полноту и последствия, до босоногого странничества, о чем он сказал на писательском съезде, – сумел найти слова отчаяния, прекрасные и строгие, какие-то античные, Эдиповы слова. Дальнейшая эволюция писателя подробно прослежена Белинковым, сделавшим, на мой взгляд, неточные выводы. Олеша деградировал не потому, что скурвился («сдача и гибель советского интеллигента»), но из-за серьезного отношения к литературе. Время уже не мирволило к раздирающим исповедям на жестко прописанном социальном фоне, компромисс Юрия Карловича не интересовал, и, чтобы не осквернять призвания соглашательством (а остальные возможности у него были отняты), он просто на все это плюнул и, демонстрируя презрение, погнал заведомую, невменяемую халтуру, уже никак не связанную с его личностью. Личность он вскорости пропил.
Борис ПАСТЕРНАК
«Доктор Живаго»
Потребитель воспринял роман с точки зрения психологического реализма и был оскорблен условностью фабулы, вторжением богов из машины, нарочитым слогом, перемежающим московское интеллектуальное просторечие барочной корявостью сибирских крестьян, а кроме того, Пастернак интеллигенции не потрафил идейно. Меж тем «Живаго» – великое символистическое произведение, книга смерти и новых рождений, и надо опять войти в эту реку, препоручив себя ее минорным водам (так в фильме Джима Джармуша «Deadman» смертельно раненный поэт плывет в пироге к воскресению), и легкие будут заполнены колоссальным объемом печали, и глаза увидят лес, узкоколейку, кровь, стихи, Россию, снег и летний, раскаленный городской трамвай, обогнанный старухой трижды. Мне больше нечего сказать о «Докторе Живаго», за исключением того, что он написан гением.
Андрей ПЛАТОНОВ
«Котлован»
Долго колебался, не предпочесть ли «Чевенгур». В этом грандиозном романе действие разворачивается медленно и чарующе, точно сон, в котором спящего удушают с педантичной тщательностью запрещенного ритуала, но у «Котлована» не меньше достоинств, он устремляется к цели со скоростью борзой, гепарда и стихотворения, обретая неслыханную даже в платоновских широтах языковую компрессию. Есть и еще одна, главнейшая причина, она-то и определила выбор: в стране советов должен был найтись рапсод, способный взять в свой голос гибель и падение рабочих, и рыдающим, смеющимся от ужаса запечатлителем убийства пролетариата стал Андрей Платонов. Мне кажется, он продолжает, в радикально изменившихся условиях, антропологический поиск молодого Маркса, предпринятый в фундаментальном тексте Нового времени – «Экономическо-философских рукописях 1844 года», где исследование отчуждения труда подводит к горчайшему заключению об искоренении экзистенциального содержания мира, его стержневой человечности, съеденной цивилизацией машин и коллективного найма. Но вышло то, что Марксу не являлось и в кошмаре: вместо заповеданного им уничтожения труда, залога всеобщего освобождения, в Советском Союзе произошло уничтожение трудящихся, отправленных в мясорубку вслед за продуктами их рабской работы. Платонов не сопротивляется, не протестует, он безропотно, тропой героя архаического мифа уходит в смерть, чтобы она воспользовалась его переимчивой речью, рассказав, как ей удалось совладать с целым народом.
Александр СОЛЖЕНИЦЫН
«Архипелаг ГУЛАГ»
Перед автором стояла труднейшая художественная задача превратить в увлекательное повествование гору однообразных свидетельств о казнях – от их бесконечного перечня читатель, даже обуреваемый гражданскими чувствами, уснул бы на 29-й странице. Стандартный автор, скорей всего, скрепил бы материал слезой и пеплом, поднимаясь до пафоса близ братских курганов, измеряемых египетскими, начальством сокрытыми числами. Солженицын в этот капкан не попался, разглядев во тьме парадоксальный выход из западни. Он избрал последовательную стратегию остранения и сарказма, обрушив не только на палачей, но и на весь комизм ситуации – посреди огромного государства десятилетиями процветают острова истребительного рабовладения – раскаты победоносного хохота. К ненависти монстр был готов, с нею он научился справляться, но проклинающего веселья Кощеево сердце не выдержало. Солженицын выразился еще очень скромно, заявив, что страна, прочитавшая «Архипелаг», проснется другой. Она развалилась от этой книги.
Федор СОЛОГУБ
«Мелкий бес»
Любо-дорого наблюдать, как прилежно работает Сологуб с декадентскими типовыми мотивами (диалоги о красоте, трансвеститная игра полов, удовольствие от боли), погружая их в густую среду, с областными словечками и выпуклой симптоматикой провинциального быта, и грызли бы книгу архивные мыши, но решающее обстоятельство эвакуирует текст в бессмертие. Сологуб первым из русских писателей века и, может быть, первым на Западе усомнился не в затхлых нравах, не в общественном строе, но в жизни как таковой, в условиях существования и принципах миропорядка (отмечено Вик. Ерофеевым). Он гностик, отвергнувший тварный мир и материю, сверх-Маркион, отрицающий оба Завета, равно клейменных необходимостью «соответствовать» («приезжайте и соответствуйте», вдохновенно и дерзко пишет Передонов графине). Передонов плюет на обои, мажет кота вареньем, хочет жениться сразу на нескольких сестрах и выдает изумительную, одновременно домостроевскую и психоаналитическую интерпретацию Пушкина, что с учетом превращения поэта в российское солярное божество знаменует предельное злоумышление против устоев. Ардальон Борисович, сдается, спятил. В этом ключе рассуждают, однако, лишь те, для кого мир по-прежнему покоится на слоноподобных китах здравого смысла, кому невдомек, что земля с ее доходными домами, гимназиями и теплыми церковками вздыблена иррациональностью и абсурдом, что она корчится и, неровен час, взорвется и лопнет. Стихийный революционер Передонов острей Сологуба почувствовал это движение Сейсмоса и заметался, несчастный, не в силах унять лихорадку. Нет ему пристанища по сей день.








