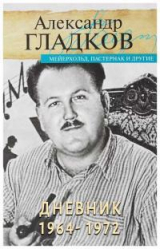
Текст книги "Дневник"
Автор книги: Александр Гладков
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 41 страниц)
Эмма приехала вместо 3-го – 2-го, я ее не встречал, так как не знал, но она дозвонилась с помощью Левы до меня, когда я сидел в «Искусстве» у Овсянникова[167]. То, что случилось с ней – зверское избиение после банкета… Но об этом писать я не хочу[168].
<…> [АКГ отправляет ее обратно в Ленинград: ] Вечером 3-го заезжаем к Леве за оставленными у него вещами Эммы и провожаем ее.
Ночую у него. Утром еду на новую квартиру Н. Я. Эммин подарок клеенка. Долго сижу. Потом заезжаю к Наталье Ивановне – она мне в прошлый раз по ошибке дала не ту папку, и беру рукопись стихов И. Г. <…>
Вчера в «Новом мире» знакомство с Дементьевым[169]. Он говорит мне комплименты и зовет больше писать.
Вот и все кажется. Вечером запру дачу и уеду. [АКГ собирается в Ленинград] <…>
На сердце тяжесть. В голове каша.
13 нояб. Уже 5 дней в Ленинграде. <…>
С Эммой – то тяжело, то полегче. <…>
Короткое письмо Эмме от Над. Як., где она хвалит мою статью в «Вопросах литературы», но косвенно сожалеет, что я задел Э.Герштейн. <…>
В общем, все довольно хреново, мягко выражаясь.
Зачем я все это записываю? Наверно, чтобы не прерывать нить записей, к которым привык, и чтобы хоть немножко побыть наедине с самим собой.
18 нояб. Рано утром приехал в Комарово. <…> [там Дар и Л. Чуковская] <…>
Л. К. Чуковская рассказывала, что Анне Андреевне лучше и диагноз микроинфаркта не подтвердился. Но К. И. Чуковский заболел. У нее идет последняя корректура книжки о «Былом и думах». Она совсем слепнет и резко постарела за год.
20 нояб. Третьего дня под вечер приехала Эмма и уехала сегодня утром. Ее трогательный и милый рассказ о разговоре с моим пиджаком, висевшим в передней[170] и о том, как она вдруг собралась (раньше она хотела приехать только на другой день). <…>
В газете «Известия» сообщается о скоропостижной смерти Ермилова. Почему-то в «Правде» ничего нет. Мало кто его пожалеет, кроме Анисимовых и ему подобных.
21 нояб. <…> Знакомство с М. Поповским[171]. Он пишет биографию Н. И. Вавилова, собрал много неизвестных и ранее секретных материалов (вплоть до «следств[енного] дела»).
Следователь, ведший «дело», жив и живет в Москве. П-му не рекомендовали искать встречи с ним. Люди из «органов», знающие его, сказали, что это «страшный человек», который может выследить П. и задавить его машиной.
Вот, глава из романа[172].
23 нояб. Более суток был в городе. Вчера утром встреча и длинный, трудный разговор с Товстоноговым у него дома. Насчет ухода Эммы. Он протестует и бурно ее хвалит, обещая все в мире, но тут же мельком говорит, что если обком запретит ставить пьесу Зорина («Римскую историю»), то он сам уйдет из БДТ. В его комнате есть нечто мещанское. <…>
Вечером провожаем с Э[ммой] Нину Ивановну [мать Эммы], уезжающую в Новочеркасск. Ночую на Кузнецовской. <…>
Бродский в Ленинграде, как рассказывают, чувствует себя довольно неплохо: о нем заботится Союз и многие доброхоты, он сам держится умно и сдержанно. Его история – яркий провал обкома и победа интеллигенции. Нового в этом прежде всего то, что даже совершая ошибки и срывы, у нас научились поправлять их без особенного урона. Интересно, чем закончится дело Синявского?
Стал иногда подумывать о том, чтобы написать повесть о годах 28 – 30-х, о том как я кончил школу и как все было вокруг. Этот период почти совсем не описан, а он интересен, но очень сложен. Вопрос только в том, как сочетать «поэзию и правду», т. е. о степени документальности, к которой меня очень тянет. У меня сохранились дневники этого периода. Они хоть и беглы, но в них что-то есть.
Прочитал наконец и знаменитое письмо Эрнста Генри Илье Эренбургу. Оно датировано 30 мая 1965 г. Оно в общем вежливо и убедительно и главное неопровержимо. Думаю, что и сам И. Г. с ним в душе согласен, несмотря на свое привычное ироническое высокомерие.
26 нояб. <…> [письмо от Н. Мандельштам] Н. Я. не понравилась книжка Каждана[173], статью Солженицына она называет «идиотской»[174].
Днем вчера я был по приглашению М. Поповского на его докладе в ВИР-е (Всес. Инст. Растениеводства) о гибели Н. И. Вавилова. ВИР помещается в барском особняке на углу Исаак[иевской] площади и улицы Герцена. В маленьком зале, где не раз выступал сам Вавилов и где его помнят не только стены, но и люди, работающие еще с тех времен, собрались растениеводы и биологи всех поколений, чтобы услышать эту трагическую повесть. Я сел на эстраде сзади Поповского и видел все лица в зале. Как по-разному все слушают, сколько разнообразных выражений – тревога, беспокойство, любопытство, волнение, слезы, азарт познавания правды, недоброжелательство, благодарность… В первом ряду директор с лицом бюрократа, как его играют в сатирических комедиях. Он слушал почти брезгливо, видимо не ожидал, что писатель расскажет про т а к о е. Уходит в середине доклада. Странное ощущение, что из стариков остались только те, кто извертелись, исподличались, предали всех, кого можно, ухитрившись не очень запачкать себя. Сейчас они играют напускное возмущение. Молодежь – лучше: хорошие лица.
Поповский говорил почти три часа. Он прочитал с разрешения Руденко[175] подлинное следственное дело Вавилова. Много цитировал документов, которые, как казалось тем, кто их оформлял, будут вечно секретны: противоречивые протоколы, где отрицанье перемежается со скороговорочными и нелепыми признаниями. Потрясающий протокол очной ставки, где Вавилов и его ближайший сотрудник и друг, тоже арестованный, врут друг на друга. Потом какое-то заявление Вавилова Берии, что он ни в чем не виноват. Мне о В-ве рассказывал А. И. Казарин, сидевший с ним в одной камере в саратовской тюрьме в 42-м году. Там же сидел Луппол и Левидов[176]. Там же сидел и Стеклов[177].
Все это – и потрясающие факты доклада, и вся атмосфера этого собрания в ВИР-е, и лица – огромное впечатление. Шел пешком до метро и думал о том, как открываются тайны истории[178].
28 нояб. <…> Взял у Лидии Корнеевны ее рукопись: более 600 выписок из разных книг (главным образом, из Герцена и Толстого), которую она назвала «Мои чужие мысли»[179]. Это умно и интересно.
30 нояб. 1965 <…> Познакомился сегодня с Иосифом Бродским, приехавшим сюда повидать Д. Я. [Дара] и Лидию Корн[еев]ну. Но Д. Я. уехал в город и мы угостили Бр[одского] его обедом. Он хорошо сложен, скорее рыжеват, чем рыж, голос высокий, слегка картавит, речь неразборчива, неважная дикция. Говорили о Н. Я. (у которой он был на днях в Москве), о Цветаевой (при этом Бр[одский] оживился и сказал, что это самый большой русский поэт, не исключая из числа тех, кто ниже, – и Пушкина). Оказалось, что он пробыл ссылку где-то под Коноше[й], т. е. совсем рядом с Ерцевым[180]. Лидия Корнеевна, седая, слепнущая, больная, при нем была оживлена и почти кокетничала. Он получил несколько заказов на переводы каких-то польских и чешских поэтов, живет в семье – все в одной комнате, еще не улажены взаимоотношения с милицией, но жить можно и работать тоже. Странная судьба. Теперь ему во что бы то ни стало нужно быть гениальным, прочего ему не простят. Рассказал, что получил письмо от Иваска, того самого, корреспондента Цветаевой.
3 дек. 1965. <…> Вчера пол-ночи читал стихи Бродского. Он, конечно, очень талантлив, в нем есть своя музыка, но я не ощутил т е м ы, или она на такой глубине, что сразу не чувствуется.
Л. К. говорит, что это потому, что я взял разные и случайные вещи (хотя и много). Он похож на Мандельштама иногда, но импрессионистичней, тот четче, острее. И, хотя он мне и сказал, что Цветаева самый большой поэт и больше Пушкина, совпадений с Цветаевой почти нет, или мало.
Трудно угадать его судьбу. Он неуравновешен и даже был освобожден от военной службы поэтому. Раним. Странен. Положим, «не странен кто ж?». Будто бы не тщеславен и не славолюбив, чему, все-таки, не верится. <…>
Послал письма Н. Я., Ц. И. и другим.
13 дек. 1965. <…> Бродский читал новые стихи: «Два часа в резервуаре», «На смерть Элиота», «Другу-поэтессе», «Распутица», «В деревне бог живет не по углам» и др. – написанные в этом году. Большею частью это интересно и талантливо. Читает он по-своему, сначала тихо, потом все громче, где-то посередине снова стихает и опять набирает громкость, как сир[е]на, и кончает всегда очень громко. Вообще читает слишком громко для размеров маленькой комнаты. Он был небрит, торчала рыжая щетина. Лоб у него маленький, плечи широкие и вообще «кость» широкая. Читает, смотря куда-то в себя. Спросил мое мнение. Еще были кроме Л. К., Д. Я. и некий Яша Гордин с женой, его приятель.
Письма от Беньяш и Н. Я.
15 дек. <…> Н. Я. пишет в письме, что ничего общего у Бр[одског]го с Мандельштамом нет: «все разное, они в разных плоскостях»[181].
17 дек. <…> Недавно у меня был не то, чтобы спор (нет, пожалуй, все-таки спор) с Лидией Корнеевной об Ахматовой. Она поклоняется ей беспредельно и считает ее выше и Мандельштама и Цветаевой. Ну уж – нет!
22 дек. <…> На почте письма от Ц. И. Кин, из АПН[182], от Н. Я. Мандельштам и открытка от Б. Н.
30 дек. 1965. <…> В последнем письме Н. Я. пишет: «Мне трудно по разным причинам…». И еще: «Мне хвалили Вашего Бориса». (Это значит – мои воспоминания о Б. Л.) Интересно, кто хвалил? В Москве ведь рукопись малоизвестна. Лева передает приветы от Шаламова и К. Г. [Паустовского] К. Г. говорил ему, что я «идеальный собеседник». Видимо, в понимании К. Г. я «идеальный» потому, что умею долго молча его слушать. <…>
Это был год странной камерной славы и успеха моей рукописи о Б. Л. и многих знакомств, образовавшихся вокруг этого, год самоосознания себя именно эссеистом…[183]
Описание хобота как составной части слона
О «непечатных» темах в дневнике Александра Гладкова
По тем данным, которые предстают перед читателем и исследователем дневников Александра Константиновича Гладкова (далее буду использовать сокращение АКГ), он должен был бы называться – ходоком. Но не в том смысле, что любил пешие прогулки – как раз наоборот, о чем будет сказано ниже, а именно в том, что гулял налево, будучи ходоком по «женской части». Более того, имел обыкновение фиксировать эти «выходы» в своем дневнике. Стоит ли заострять на этом внимание? Думаю, все-таки стоит, чтобы не создавать однобокого (или даже, если угодно, – однохоботного) представления о человеке: вспомним здесь известный образ из древнеиндийской притчи о шести слепых, задавшихся целью определить суть слона, а в результате оставивших шесть совершенно разных его описаний[1].
Мне представляется возможным, что сохранность в дневнике АКГ записей интимного характера объясняется вообще чистой случайностью – именно тем тривиальным обстоятельством, что автор не успел их убрать оттуда. Он совсем не собирался расставаться с жизнью той весенней ночью 11 апреля 1976 года, когда его настиг последний сердечный приступ, в 64 года. И явно предполагал свои записи продолжать, по крайней мере в течение нескольких ближайших лет (а то и десятка-другого), и наконец когда-нибудь в будущем, посидев над ними вплотную, возможно, подверг бы дневник серьезному редактированию. (Последнее – мое собственное предположение.) В результате, вероятно, многие слишком личные материалы из дневника просто исчезли бы. Так, во всяком случае, поступали перед смертью другие опытные дневниководы, – что самому АКГ, кстати, было прекрасно известно. Так, например, сделал Александр Блок, основательно проредив дневник перед смертью: но Блок задумался над этим уже к 40 годам. И у самого АКГ мы находим рассуждения на эту тему, мол, надо было бы дневник почистить… Но осуществить это намерение ему было не суждено.
В последние годы АКГ неоднократно признавался самому себе, что ведет дневник уже полвека, – хотя на самом деле, даже когда он умер, ведению дневника, откуда ни отсчитывай его начало, все еще не хватало одного года до полных пятидесяти. Во всяком случае, первые из оставшихся собственно дневниковых записей относятся к 1928 году: именно тогда, в свои 16 лет, АКГ окончил московскую школу-семилетку и сразу окунулся в журналистику, печатая заметки и репортажи (в газетах «Кино», «Рабочий и искусство», «Комсомольская правда», «Рабочая Москва», а также журналах – «Новый зритель», «Советский театр»[2]) и постепенно сосредоточивая усилия на театральной критике. Все более раннее в его записях и вырезках – это отдельные листки и блокноты, собственно в дневник еще не оформленные, что обычно при издании относят к записным книжкам.
Вот очевидная веха при отсчете АКГ его «сознательной жизни», начало самостоятельного чтения: «С лета 24-го года я читаю почти регулярно газеты», что записано в дневнике от 4 мая 1969. Летом того самого 1924-го ему всего лишь 12 лет. Ведет ли он уже дневник? Очевидно, нет: с тех пор он просто начинает хранить свои записи, осознав их ценность, регулярного дневника в ту пору еще нет. Полвека же говорилось в конце жизни несколько с авансом, в расчете на предполагаемое в будущем обязательное продолжение.
АКГ писал:
7 июня 1971. <…> Вчера сшил прошлогодний дневник. У меня уже 20 «томов» сшитых и 18 не приведенных в порядок и не сшитых[3]. Если это не пропадет, то когда-нибудь историки времени будут мне благодарны. Но пишу я без подобного расчета, конечно. Просто – инстинкт и привычка – как умыться с утра.
Вот те самые 20 томов, плюс еще 5, которые будут им написаны до конца жизни (и тщательно сшиты), скорее всего, и следует считать дневником в собственном смысле слова, приготовленным для чтения не только внутреннего, самим автором, но и внешнего, читательского, т. е. литературным дневником[4].
Нужно ли вообще считать, что человек, ведущий дневник, обязательно каждый день в определенное время садится за стол, аккуратно открывает что-то вроде амбарной книги, макает перо в чернильницу и – начинает записывать произошедшее за день? И как вообще записная книжка или разрозненные листки делаются дневником? Ясно, что последний – нечто гораздо более организованное для чтения кем-то другим, а внутри первых текст ориентирован преимущественно только на себя самого, автора, это всегда некий подсобный материал. (Так было и у классиков жанра, в русской традиции, например, у Льва Толстого.) Записи на отдельных листках, в записной книжке или сложенные некой бесформенной кучей в папке – еще весьма далеки от того, чтобы их перепечатывать и «сшивать», что, как мы видели, делает АКГ:
25 сент. 1966. <…> Почти целый день привожу в порядок дневник за последние 5–6 лет. Есть в н<ем> и пропуски, но многое и сохранено. Почему я этим занялся? Не знаю. Перепечатал то, что было набросано карандашом на отдельных листочках. Три года даже сшил для порядка.
Переписывает набросанное карандашом или перепечатывает, склеивает части подневных записей – следы этого видны в дневнике АКГ. И здесь, и в других местах мы убеждаемся, что запись дневника несинхронна [5]: последние редакции «доводятся» автором задним числом, преобразуясь из некого сырья, отдельных листов, записных книжек, вырезок печатного текста. Иногда же они так и остаются в статусе записной книжки, в дневник не перекочевывая:
16 авг. 1974 <…> Приводил в порядок дневник за 1946 год. Он в большом беспорядке, многие записи без дат, большие пропуски, на отдельных листках бумаги. Это был трудный и нервный год, и не всегда хотелось записывать. И многое пропало навсегда.
«Пропало» здесь, очевидно, именно то, что сам АКГ при перечитывании задним числом, почти два десятка лет спустя, уже не может расшифровать, перенося свой первоначально рукописный текст из записной книжки в дневник. (О том, чтобы это сделал кто-то другой, кроме него, не может быть и речи: множество сокращений и – подчерк!) Тот послевоенный год для АКГ в самом деле оказался «нервным»: в 1945-м за пьесу «Давным-давно» он был привлечен к суду по обвинению – ни больше ни меньше как в плагиате. И только в 1946-м, не без труда, ему удалось оправдаться, обвинение было снято (но об этом следует рассказывать особо). «Трудным» этот год выдался еще и потому, что очередная пьеса АКГ, «Новогодняя ночь» (другое название «Жестокий романс»), как раз в 1946-м была снята с репертуара как «безыдейная»… За обоими обвинениями как будто стоял известный в ту пору гораздо больше, чем сам АКГ, старший собрат по перу – Николай Погодин[6].
Можно наблюдать, как составляется дневник – из отдельных записей, собираемых воедино, из вырезок газет, собственного печатного текста, клочков бумаги, отдельных листов. Параллельно этому записи, конечно, редактируются, некоторые дополняются тем, что автор не успел записать сразу, что вспомнилось при перечитывании или перепечатывании, другие же сокращаются или вовсе отметаются как не подлежащие восстановлению: некоторые оказываются просто нечитаемы, не расшифровываются (или намеренно по тем или иным причинам оставляются нерасшифрованными).
Вопрос: стоит ли обнародовать, например, такую информацию, пусть со ссылкой, в пересказе некого С– ва (очевидно, вполне известного знакомого АКГ, разносчика не совсем приличных историй, любителя «жареных фактов», например, что такой-то и такой-то известный человек тогда-то и тогда-то был доносчиком, стукачом), услышанное от третьего лица, который назван уже явно:
23 сент. 1971. <…> Рассказы Шкловского С– ву о разном[7]. Горький был в сексуальном отношении очень большой потенции, но не получал от женщин удовлетворения до Н. А. Пешковой (Тимоши)[8]. Максим знал, что она живет с его отцом, но относился к этому равнодушно. Эйзенштейн был сначала импотентом, потом стал пассивным педерастом.
АКГ понимает, что сам этот пересказ – на уровне сплетни: факты подобного пошиба, с «ароматом» сенсации, конечно, могут и даже часто бывают предметом обсуждения, но – либо в профессиональном сообществе, либо в какой-то неофициальной обстановке, «свойской» или так называемой «мужской» компании.
В воспроизведении следующей (того же рода, что и предыдущая) записи в дневнике АКГ, очевидно сделанной с чьих-то слов, а потому остро субъективной, возможно, недостоверной, уже нет как будто ничего специально зазорного (кроме как для одного из упоминаемых в ней лиц, на тот момент уже 20 лет покойного):
19 мая 1966. <…> Литинский [9] подтверждает то, что рассказывал мне художник К. Ротов [10]: его посадил Лебедев-Кумач[11], ревновавший к нему свою жену, которая была влюблена в Костю. Сам Литинский тоже сидел какое-то время.
Информация вполне «умопостигаемая»: просто типичная передача частного мнения, которое каждый может или воспринимать или отмести как недостоверное, просто как «слух». История, надо полагать, расставит в итоге подобные разрозненные свидетельства по своим местам, отсеяв ошибочные, привходящие обстоятельства, но – подтвердив факты.
Здесь мы переходим уже ко второй запретной теме дневника. Естественно встанет и вопрос, насколько этически обосновано распространение тех или иных слухов. Ведь при передаче «слуха» происходит опасное размывание ответственности за сказанное. Особенно в тех случаях, когда он выдается за достоверное утверждение[12].
Если мы исходим из того, что все, старательно расшифрованное, перепечатанное, сшитое в дневник самим АКГ, является уже продуктом в последней инстанции, окончательно подготовленным для печати, то – наверно, да: т. е. его дневник, по крайней мере переплетенную его часть, надо издавать полностью и без всяких изъятий (как уже говорилось, в наследии АКГ есть значительная часть и непереплетенных дневников, состоящих либо из «томов» на отдельных машинописных страницах, склеенных из кусков, либо из томов несброшюрованных). Но… даже и это еще не все.
Ныне покойный архивист, много сделавший для публикации наследия АКГ, Сергей Викторович Шумихин, придерживался мнения, что при последующих перепечатках дневник АКГ всегда только расширялся, расцвечивался дополнительными деталями, а не сокращался: «Возможно, это относится также и к геркулесовым подвигам Гладкова на амурном поприще, старательно восстановленным в дневнике на основании скупого конспекта». «Следы обработки (вырезанные и вновь подклеенные фрагменты, целиком перепечатанные, судя по шрифту, на другой машинке листы) <…> связаны, в основном с реставрацией весьма откровенных описаний любовных похождений, которые прежде, по-видимому, шифровались»[13].
Позволю себе усомниться в столь однозначно описываемой исследователем закономерности превращения предварительных записей события (записной книжки) в «окончательную». На основании приведенных в публикации самого Шумихина двух форм одного и того же дневникового текста АКГ (за 22 июня 1941: обе даны рядом, в виде таблицы, для сравнения) нельзя утверждать, что во всех случаях в более поздней редакции имеет место расширение, литературная, поэтическая амплификация. На мой взгляд, продолжается прежде всего все тот же процесс расшифровки записи, с уточнением фактов: что-то сокращается, как малосущественное (или же сообщаемое еще и в другом месте, чтобы избегнуть повтора), а что-то другое действительно пополняется деталями, дополнительно извлекаемыми из памяти (тут, правда, как настаивают психологи, и происходят наибольшие деформации).
Конечно, принципиальных возражений против полной публикации всех дневников, без всяких изъятий, не может и не должно быть – за исключением, на мой взгляд, все-таки случаев, как раз подобных дневнику АКГ. Во-первых, та реальность и те люди, которые фигурируют в его тексте, еще не слишком удалены от нас – можно кого-то всерьез обидеть, из родственников, знакомых, потомков, и во-вторых, а наверно, это и главное, сам АКГ еще не достиг ранга классика в наших глазах, чтобы, скажем, его шалости, подобные пушкинским откровенным письмам (скажем, Вульфу или Соболевскому, соответственно, 1826 и 1827 годов – касательно «вавилонской блудницы» А. П. Керн, с весьма ее откровенными наименованиями), мы бы так же легко прощали и ему. Это дело времени. Должен быть установлен какой-то срок давности, возможно, даже не полвека, а – 60 лет после смерти автора (т. е. для АКГ он наступит только в 2036), вплоть до которого его текст, написанный исключительно для себя (или для ближайшего круга лиц, как в случае писем Пушкина), не мог бы воспроизводиться полностью и свободно. Хоть, может быть, это и выглядит «ненаучно», но этические соображения подталкивают именно к такому выходу. Ведь до литературного дневника текст АКГ доведен не был.
Как бы то ни было, известно, что однажды Надежда Мандельштам (АКГ познакомился с ней в январе 1960-го) при откровенном к нему обращении (в письме от 8 февраля 1967-го – с довольно-таки щепетильной просьбой) присвоила ему следующий несколько шокирующий и, может быть, на взгляд непосвященного человека даже обидный титул: «Вы литературовед и бабник…»[14] В самом деле, его сердечные увлечения были известны в окололитературных кругах, а Мандельштам в ту пору являлась его конфидентом, в частности, в том, что касалось романа и близких отношений (чуть было не закончившихся всамделишним разводом с первой, но все же так и оставшейся единственной женой, актрисой Антониной Тормозовой, и – браком с любовью последнего десятилетия его жизни, также актрисой, Эммой Поповой: причем Мандельштам была явно на стороне последней).
Понятно, вообще говоря, что отношения с женщинами, как АКГ это и сам не раз констатирует, почти никогда не выглядели для него безоблачными:
15 сент. 1964. <…> С утра наслаждаюсь – чтение, размышление, одиночество. Потом появляется Т[оня] и все по обычному, с этим связанное.
Это сказано о жене, Антонине Тормозовой, брак с которой в то время стал тяготить его и фактически распадался. Позже он оставит ей с дочерью квартиру на улице Грицевец, сам же купит квартиру на «Аэропорте».
23 июля 1970. <…> Отношения с Э[ммой] как гроза, которая все ходит где-то близко, погромыхивает, а ливень все никак не разразится. Но небо все темнее и темнее. А м.б. все уже кончено и мы только делаем вид, что это не так?
Давно уж мне не было так остро горько…
А это уже – об Эмме Поповой, с которой ему хотелось, но так и не довелось соединить свою жизнь: хотя довольно продолжительное время, в начале и середине 60-х, АКГ жил у нее и строил планы насовсем перебраться в Ленинград.
С другой стороны, как характеризуют нашего героя некоторые свидетели, имевшие возможность наблюдать его еще в заключении (т. е. исправительно-трудовом лагере Ерцево, в Архангельской области, где он сидел почти шесть лет, в 1949–1954 годы, будучи осужден за «хранение антисоветской литературы»), основной интерес его жизни всегда состоял в том, чтобы полежать на кровати – с какой-нибудь интересной книжкой. А уж если надо было куда-то передвигаться, то почти никогда не ходил пешком, предпочитая ездить на такси, что фиксировал и его товарищ в 1960 – 1970-е годы Варлам Шаламов[15]. (В результате чего в зрелые годы постоянно боролся с ожирением.)
Окончив школу, Гладков сразу сделался журналистом, даже не задумываясь, казалось бы, о возможном выборе – естественном продолжении образования, не делая попыток поступить в какой бы то ни было институт. Ну а потом страстно и действительно надолго увлекся театром, работал в студии, участвовал в постановках, писал пьесы, делал сценарии к фильмам. Но от такого же страстного увлечения еще и кинематографом и телевидением, когда был по работе связан уже с кино– и телестудиями, почему-то все-таки последовательно воздерживался. К примеру, почти через 10 лет после выхода на экраны фильма Э. Рязанова «Гусарская баллада» по его, АКГ, пьесе и, соответственно, спустя два десятка лет после выхода на сцену самой пьесы «Давным-давно» посмотрев фильм по телевизору (очевидно, в черно-белом изображении), он сравнивает – свое детище с фильмом:
10 янв. 1971. <…> Любопытно, окажет это влияние на сборы в ЦТСА[16] или нет? Думаю, что не очень, а м.б. даже послужит рекламой.
Пьеса куда лучше фильма.
Главной страстью АКГ следует признать именно драматургию и чтение. Но если театром он увлекается в молодости, работая в студии, в театре Мейерхольда, организуя и собственную студию («Юношеский театр» в Болшеве [17]), сотрудничая в этом какое-то время с А. Арбузовым, И. Штоком и В. Плучеком, а в лагере еще и просто работая автором, сценаристом и режиссером в одном лице, то потом, после 50–60, к концу жизни, АКГ постепенно отходит от театра. Но страсть к чтению остается с ним всю его жизнь. Отсюда же, наверное, родилось устойчивое влечение к каждодневной фиксации фактов, к регистрации дат событий, к мемуарам и – ведению дневника.
Вот уже позднее его размышление, наедине с собой, на личную тему (с середины листа в дневнике на новой машинке или с новозаправленной лентой):
22 мая 1974. <…> Давно уж я не ездил в Ленинград. А бывало…
Еду без ясных намерений и желаний. Только потому, что Э[мма] попросила приехать. Не спросив – зачем? По какому-то инстинкту: попросила – еду. Возможно, это каприз, настроение…
Ничего не жду, н[и] на что не рассчитываю.
Впрочем, видеть Э. я всегда рад. Но знаю, ее семья будет меня тяготить, хотя вероятно Н. И. [мать Эммы] будет угодничать. Но это тем более тягостно.
Надеюсь на свой такт, который мне редко изменяет.
Почти не везу обычных подарков. Мне как-то неловко вставать в прежнюю колею. На подарки тоже надо иметь право.
За годы разлуки я ни разу не пытался объясняться.
Мне все время казалось, что «следующий ход» принадлежит Э. Правда, жизнь не шахматная партия и в ней редко ходят по очереди.
А вот запись, сделанная в дневнике через год, уже всего лишь за год до смерти, – по поводу книги Роя Медведева, изданной к тому времени на Западе (АКГ читает самиздатовскую перепечатку или, скорее всего, данную ему автором рукопись[18]):
6 мая 1975. Сутки напролет читаю (вернее – перечитываю) работу Р. А. Мне все это страшно интересно. Ведь в этом тайна эпохи, в которую я жил и живу, тайна века.
И моя память как бы пишет заметки на полях этой книги[19].
Делать заметки на полях чужих книг, тем самым как бы участвуя в описываемых событиях, все время дополняя, поправляя и уточняя факты очевидцев, своих предшественников и современников, т. е. как бы снова помещая себя в гущу происходящего, – это и было для него настоятельной, страстной необходимостью. Ну а следующая запись, сделанная много раньше, в первых числах июня 1963-го, попросту периодически повторяется в его дневнике, вновь и вновь возвращая читателя к основному интересу жизни автора:
<…> Третий день сижу в Загорянке.
<…> Начал разбирать и, увлекшись, читать дневники. В них нет многого личного, но зато зафиксированы настроения прошедших лет. Если в своих юношеских дневниках я слишком подробно писал о разных перипетиях романов, то в папках последних лет – этого почти нет. Эта сторона жизни, как и семейная, как бы – за скобками. Если я иногда и не до конца откровенен, то всегда искренен. А в общем – это дневник современника за 35 лет, часто наивный, часто сдержанный, полный недоговоренностей, но все же насыщенный подробностями событий ныне забытыми. Все мечтаю, разбогатев, дать перепечатать все эти папки и потом перечесть подряд.
Но в конце жизни так и не разбогател и свой дневник перепечатывал – сам (всякий раз перерабатывая материал для него: следов работы машинистки как будто не наблюдается). Да и ранний свой дневник от «разных романов» так и не почистил. Однако тут верно отмечено одно из отличий дневников человека, которому перевалило за 50, от его же записок молодого возраста.
Читатель, ожидающий «клубнички», дневником зрелого АКГ будет разочарован. Во-первых, потому что подробности похождений АКГ просто далеко не так интересны – как, скажем, амурные дела Пушкина, Толстого или Достоевского, чтобы нагружать ими текст[20]. Это решающий аргумент в пользу того, чтобы обойтись без них в публикации. К тому же мне кажется, что это текст внутри дневника, принципиально обращенный еще не к читателю, а – лишь к самому автору.
В дневниках, особенно молодого возраста, в самом деле довольно много описаний перипетий романов, того, в чем можно заподозрить вполне здоровое молодое (а может быть, все-таки немного и болезненное?) самолюбование. Только уже ближе к шестидесяти он наконец более-менее в этом отношении угомонится. А до тех пор дневник, т. е. отдельные его места, можно было бы считать неким «компенсаторным» текстом, важным для изживания автором каких-то нереализованных комплексов.
Но это ведь и было традиционным местом отведения души: вспомним «дневник Глумова» из пьесы «На всякого мудреца довольно простоты» А. Н. Островского. Бывает, что АКГ неприязненно отзывается или прямо брюзжит (сам признавая и отчасти осуждая себя за это, но, видно, не в силах удержаться) о своих бывших, более удачливых, как ему кажется, друзьях-товарищах, довольно зло подтрунивает, впрямую издевается над ними – А. Арбузовым, И. Штоком, Н. Оттеном …[21] Так же, наверное, автор испытывал и видимое удовольствие, задним числом, от описаний своих романов – возможно, подобно некому набоковскому «соглядатаю», а может быть, компенсируя тем самым свои реальные или только воображаемые художественные неудачи…








