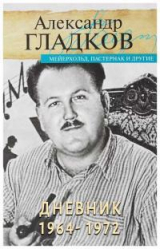
Текст книги "Дневник"
Автор книги: Александр Гладков
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 41 страниц)
Сначала я, кажется, избрал довольно нелепый адрес для всей этой маленькой и смутной душевной бури…
2 июня. На улице Грицевец. Т. выписалась из больницы, но плохо себя чувствует и напугана. Плачет при девочке. Тяжело. Оставляю деньги (70 р.) и ухожу. Говорим о квартире. Она соглашается переехать.
У Юры. Он хвалит мои мемуарные сочинения. Его мать. Ловлю себя на зависти. К чему? Просто к тому, что у него есть мать.
4 июня <…> Утром говорю по телефону с Эммой. Ее родные уехали и она меня ждет. Нежна, мила, нетерпелива. Обещал приехать через несколько дней.
Бибиси сообщает, что две британские газеты напечатали письмо Солженицына съезду писателей. <…>
5 июня <…> Бибиси сообщает, что военные действия [война Израиля и ОАР] начались. <…>
Бибиси передало полный текст письма Солженицына без комментариев. <…>
Написал письма Дару, Шаламову и Н. [см. запись от 13 июня] Завтра отправлю. [потом отметит, что отправил, 6-го]
7 июня. Уже днем Бибиси передало, что по заявлению Израиля, их войскам остается пройти только 30 клм до Суецкого канала. Это похоже на полный разгром арабов. <…>
У Н. Я. Книжка еще не вышла. Читаю ее рукопись об Ахматовой. Она расширяется (раздвигается) и растет. Спор об отношении к М-му в 30-х годах. Очень все интересно и еще интересней устные дополнения Н. Я. («только не записывайте») об интимной жизни А. А. Приходят молодой Борисов[165] и Кома Иванов с женой.
8 июня. Американцы передали о нашем «письме», но снова многое перепутав (т. е. о «письме» президиуму съезда за обсуждение письма Солженицына), сказав, что оно подписано 82 «выдающимися литераторами» (это верно, если допустить, что все подписавшиеся «выдающиеся», что по совести сказать нельзя), они называют в числе подписавшихся: Евтушенко, Твардовского, Аксенова и Паустовского. Из названных «письмо» подписал только Паустовский [чернилами добавлено: и Аксенов], а остальных американцы прибавили, так как именно эти имена в их представлении образуют обойму «литературной оппозиции». Кажется, Аксенов и Евтушенко писали что то лично и отдельно, а Твардовский конечно ничего не писал и не подписывал.
9 июня. Пестрый, шумный день. <…>
У Левы обмен в разгаре. Люся защитила диплом.
Потом у Трифонова. О том о сем. ЦДЛ. Лавка писателей. [у Борщаговского] <…> Какой-то телефонный звонок: утром референт Кино-комитета зашел в кабинет к Е. Д. Суркову, а он, спрятавшись под стол, на него залаял… Его увезли в больницу. Перед этим он удручался своим провалом в речи на писат. съезде, будто бы. <…>
Саша как то провел день с Солженицыным. Тот сам от руки переписал 250 экземпляров своего письма без копий. Будто бы было какое то обсуждение его в секретариате. Как то поддержали С. Симонов и Салынский[166], остальные – против. Но всем не хотелось об этом говорить. Кто то предложил – сначала прочесть романы Солж. (членам секретариата). Все обрадовались отсрочке на полтора-два месяца. <…>
Саша говорит, что Солж. наверху ненавидят остро и злобно, но непримирим. Федина называют «Чучело орла» и «Пальма из вокзального ресторана».
10 июня <…> Вчера в поезде утром заговорил с сидевшей напротив хорошенькой молодой женщиной, шутил и проверял свое старое и заброшенное оружие – умение знакомиться. И оказалось, что оружие мое не заржавело. После шуток и ее легкого отнекивания она мне назначила свидание на завтра на 11 утра в поезде и вообще проявила благосклонность. А завтра я в это время буду уже в Ленинграде.
Я, кажется, не записал рассказ Эммы в письме как они в последний день съемки собрались у Белинского[167], а туда пришел Володин[168] с письмом Солж. и дважды прочитали его вслух. Ходит анекдот о том, как будут экзаменовать по литературе в ХХI веке: первый вопрос: тип Печорина, второй – роль письма Солженицына в истории русской литературы и третий – о рассказах для народа Толстого.
Итак, еду. На этот раз, что-то может измениться в моей жизни. Впрочем, вряд ли.
Не записал еще вчера про встречу с Шаламовым с его бывшей (и настоящей м.б.?) женой О. С. Неклюдовой[169] на Аэропортовской днем. У него обвязана голова и она провожала его в поликлинику: он упал и разбил голову. Но он веселый – в руках у него связка книг: первых авторских экземпляров новой книги стихов «Судьба и дорога»[170]. Тут же надписывает мне. Неклюдова раздражена на него, шипит все время и мне неловко. До сих пор я ее ни разу не встречал. <…>
[после отточий] Ну, ладно! Прячу машинку. Через 2 часа еду в город, а через 3 часа отходит поезд.
Трезво понимаю, что лучше всего, чтобы не вышло так, как я хочу. Ведь бывало же, что не выходило, и оказывалось, что если бы вышло – было бы плохо. Примеров много, но давно. Видно не пришло еще «позорное благоразумие». Не хочет стареть сердце.
Пожалуй, сейчас – самое страшное распутие.
Но……
Иду рвать Эмме цветы…
11 июня. В Ленинграде пасмурно: мелкий дождик. <…>
Вчера Лева [видимо, Левицкий] не приехал в Загорянку за ключами и даже на вокзал (как он хотел в крайнем случае) и я увез их с собой. Так что моя дача будет стоять запертая. Забыл у Борщаговского книжку Шаламова.
13 июня. Вчера [слово вставлено сверху, синими чернилами] Уутром звоню Н. <…> Ее муж знает, что она пошла на свидание со мной. <…>
14 июня. <…> На Ленфильме. Жежеленко[171] понравился мой замысел о молодом Горьком и, кажется, даже очень понравился. Я рассказал о нем почти случайно, зайдя узнать, что нового насчет тиражирования «Зел. кареты». Но об этом никто не знает и не интересуется. Дурацкая практика: прокат фильма студию не интересует.
<…> [о либретто для Гарина и Локшиной] Но там все идут одни разговоры, а жить мне на что то нужно. Буду делать то, конечно, за что будут платить деньги. Можно писать «в стол» прозу, эссеи, но сценарии писать стоит только с реальным производственным расчетом. Г[арин] и Л[окшина] обидятся? Может быть. Но, увы, делать нечего.
Плохо сплю и все думаю, думаю… <…>
Прочитал напечатанный в «Севере» роман Ремарка «Возлюби ближнего своего»[172]. Местами это инерционно по манере и почти «беллетристично», но все таки сильно и трогательно. И что ни говори, а Ремарк в серии своих романов создал огромную и яркую историческую фреску – трагическая Европа от Первой мировой войны до конца Второй. Никто другой этого не сделал. Да, кое где это беллетристическая скоропись, кое где утилизация собственных творческих находок уже теряющих свежесть первооткрытия, кое – где подражание Хемингуэю, кое – где чувствуется усталая рука писателя, – и все же огромно, впечатляюще и – просто-напросто – нет ничего подобного. Все большое в литературе создается только долгим, непрерывным и последовательным усилием, а не наскоками импровизационного порядка. Ремарк, кажется, прожил жизнь (после своей первой славы) гурмана и сибарита, на его лице есть отпечаток чего то роднящего его психологически с С. Моэмом и Вертинским – м. б. пресыщенность лакомки, – но это не помешало его писательской одержимости так полно выявить себя. Теперь из всех частей его «фрески» нам неизвестн[а] только одна – роман «Искра жизни» о немецких к[о]нцлагерях. Но там задет «еврейский вопрос» и у нас его не издадут, разве что только «Огоньку» придет в голову выпустить собрание сочинений Ремарка[173]. Именно так появился у нас заключительный роман Фейхтвангера об Иосифе Флавии.
15 июня. Целый день до вечера переделываю либретто «Таинственного Иегудиила Хламиды». Если даже есть тень надежды на договор, надо все сделать для этого, ибо матерьяльно меня это спасет. Но сердце сосет тоска.
На днях в передовой «Правды» о литературе – странная фраза о том, что «советские литераторы пойдут с коммунизмом до конца». Какой «конец» имеет в виду автор передовой? Это звучит двусмысленно и даже зловеще. Но вернее всего, это просто бездумный словесный штамп. <…>
Читаю книжку рассказов Вас. Гроссмана[174]. В нее вошли его отличные очерки об Армении, запрещенные несколько лет назад при печатании в «Неделе». То ли они сокращены, то ли просто забыли, какая там в них крамола?
Никуда не выходил кроме как к газетному киоску, даже автомат обходил стороной. Завтра еду на Ленфильм, займусь, наконец, делами Н. Я. и цитера…
Все еще прохладно, но полусолнечно.
17 июня. <…> Письма к Н. Я, Х. Локшиной и М. Н. Соколовой по дачным делам. Здесь в доме на днях открылась почта: это очень удобно.
Не звоню в условленное время Н. Возникло какое-то сопротивление внутреннее, от чего, впрочем, тоска стала не меньшей. <…>
Плохо спится из-за начавшихся белых ночей.
Пишутся стихи. Написал нынче 3 и одно неплохое о сараях – так сказать – юбилейное.
18 июня. Письмо от Д. Я. Дара из Комарова. В. Ф. больна, лежит там. Плюс к стенокардии – спазмы сосудов головного мозга. Это ее очень пугает: больше всего на свете она боится паралича и невозможности работать. [в след. записи, 20 июня, АКГ сочувствует ему (после телеграммы), т. к. у его жены, Веры Пановой, что-то вроде удара: «Бедная Паниха»]
А про себя он пишет: Настроение у меня, как и у вас отвратительное. Причина мне ясна: отвращение. К съезду и последующим за ним событиям. Именно, отвращение. Не злоба, не протест, а нечто брезгливо-тошнотворно мерзкое. Будто ноги в дерьме. И не очистить. Как ни три – пахнет. Пахнет от каждого номера газеты, а я без газет не могу. Прочитав газеты, сразу же выношу их из комнаты и открываю окно – не помогает. Запах дерьма преследует днем и ночью. <…>
В «Извест.» любопытная статья Смоктуновского, где он утверждает, что Каренин – прекрасный человек. <…>
20 июня. В газетах речь Косыгина в ООН.
Утром у киоска газетного (тут же бочка с квасом) откровенные антисемитские разговоры, вроде тех, что слышал в буфете поезда, когда ехал сюда. Это влияние истории с Израилем на наши широкие массы.
22 июня. <…> В десятом часу утра сел за машинку и встал в семь часов вечера. Почти не разгибаясь писал подряд <…> и написал, кажется, недурно. Всего страниц 15–17 за рабочий день – это похоже на былые темпы.
Тепло. Дождик. Лучшая погода для работы.
23 июня. <…> Письмо от Левы. Он пишет, что Солженицын действительно присутствовал на секретарьяте, [видимо, ССП] что он убедительно ответил, что не по его вине, а по их письмо стало мировой сенсацией и что будто бы с ним согласились. Настроение у него хорошее. Будто бы по инициативе Ильина (секретаря московской организации ССП, бывшего генерала КГБ)[175] на парткоме обсуждалось[,] какие репрессии применить к авторам письма «82-х», но что секретарь парткома Сутырин сказал, что он сам подписал бы письмо, если бы знал о нем, что в нем все разумно[176].
25 июня. <…> Эмма играла днем «Идиота», ее провожала толпа девочек, снимали американские репортеры: она приехала с розами в руках. На театр Шаламов прислал книжку «Дорога и судьба» с надписью. И опять под вечер попытка объяснений: вернее – провокация на уверенья, которых было слишком много и на которые нет уже ни сил, ни охоты. <…>
[о романе с Н.] Замечаю, что натолкнувшись на инерцию, увлечение мое если не идет на спад, то делается спокойнее. Собственно в таком-то состоянии и одерживаются победы.
Но не станет ли моя «победа» моим поражением? И наоборот?
Могу сказать одно: мне этого хочется.
26 июня. [врач говорит, что у В. Пановой – опухоль мозга]
[в интервью Косыгин на вопрос о Светлане Сталиной] ответил, что она больной человек и неблагородно больного, неуравновешенного человека использовать в политических целях. <…>
Кис[елев][177] подтвердил мне и мое наблюдение: почти все евреи – космополиты и ассимиляторы и любые – тайно или явно радуются победе Израиля. Это конечно не идеология, а гены.
27 июня. <…> Дома опять напряжение, позы, трагический голос. Все это на высоком актерском уровне, но я разлюбил театр.
29 июня. Вчера подписал договор с 2-м объединением [кино] и сегодня – быстрота удивительная! – получил деньги. На последнем этапе Киселев все-таки что-то ускорил, хотя и без него сделалось бы.
Мой будущий режиссер – симпатичный мудак, но здорово наивен и девственен интеллектуально.
Молдавский рассказывает, что он нашел много писем Зощенко к Сталину, удивительно верноподданнических. Он пишет о нем книгу[178]. <…>
Сегодня таксист, старый вояка, бранил Израиль и выражал готовность пойти добровольцем драться за арабов. Я пытался ему объяснить, что если арабы не хотят драться за себя, то им никто не поможет. Но в его голову это не укладывается так же, как и то, что евреи дрались хорошо. Он считает, что за них дрались американцы. – Я знаю евреев. – говорит он, – У нас все диспетчера евреи… Вот так. Сошлись с ним на том, что китайцы большие говнюки. <…>
От нечего делать и дурного настроения листал в который раз дневники и письма Блока. Удивительно точный и ясный ум! И огромное историческое чутье! М. б. эти его тома переживут стихи. Он мыслит прямо отточенными формулами: свойство у нас одного Пушкина. Герцен не таков: он образен, метафоричен, богат ассоциациями: он развивает тему в нескольких возможных вариантах и дает инсценированные картины исторической живописи. По сравнению с ним и Пушкин и Блок суховаты, но какая это насыщенная сухость. <…>
Доволен собой, что преодолел инерцию и продал в кино уже так давно задуманного «Хламиду». Это большое подспорье.
1 июля. <…> Звоню Леве в Москву. Он расстроен: не разрешили обмен <…>
Звоню Дару: у Веры Федоровны тромб, инсульт, с правосторонним параличем <…>.
Уезжаю с чувством, что м. б. больше не буду на этой квартире. Как все непрочно и странно в мире.
2 июля. <…> Подговариваю какого то шофера-калымщика и в пол-седьмого уже в Загорянке. Здесь упоительно <…> [слушает по радио «Голос Америки» об инциденте с Андреем Вознесенским], которого не пустили в США и кот. где-то в театре произнес речь о запретах и цензуре. Наверно этому честолюбцу не дают спать лавры Солженицына. Не верю в его искренность <…>
Леве отказали в обмене[1]. Это возмутительная история, видимо не без антисемитинки. <…>
Эмма дорвалась до сада и я еле вытащил ее в город. <…>
3 июля. На даче. Едим невообразимую загорянскую редиску, огурцы, молодую картошку.
Нашел на почте несколько писем: от Шаламова <…>
Шаламов благодарит за отзыв о книжке «Дорога и судьба» <…>
6 июля. Вчера Эмма уехала в Новочеркасск. <…>
Среди разных писем пришедших на улицу Грицевец, письмо из США от Кларенса Брауна, получившего сборник «Встречи с Мейерхольдом» и мило и остроумно благодарящего за него. Письмо на бланке Принстонского Университета. <…>
Любопытно, как израильско-арабское столкновение стимулировало рост еврейского национализма у нас, даже в исконно космополитско-ассимиляторской среде. Яркий пример Л. Сегодня я напомнил ему, как всего год или полтора назад он яростно спорил со мной о невозможности отрицать генетическую наследственность и о том, что есть у людей «славянское», «немецкое», «еврейское». Сегодня, когда он говорил о национализме как движущей силе истории, я напомнил ему этот спор, в котором он отрицал «национальное» в любом виде[,] и он сказал: – Значит, тогда я был неправ… Но он неправ и нынче, ибо опять верит в крайнюю точку зрения и готов все мерять мерилом национального. Мне это глубоко чуждо. Я ему сказал, что сионистские лидеры мне так же противны, как великорусские шовинисты, но у него шоры на глазах и он не желает этого понимать.
Пожалуй, сколько ни живу, я еще не видел такого цветения у нас еврейского национализма.
7 июля. <…> Бог весть, где я буду жить этой зимой!
13 июля. В городе. Отвез две огромные охапки белья в прачешную на Арбате <…>
В ЦК вызывали в связи с письмами «о культе» Бакланова, Аникста[2], Слуцкого и кого-то еще, но разговоры были вежливы. Инициатива секретарьята ССП о выпуске книги Солженицин[а] завязла в цекистских инстанциях.
15 июля. <…> Н. П. [Смирнов] показал мне письма В. Катаева Суслову и Антокольского Демичеву в защиту Солженицына, очень категоричные и страстные, особенно письмо Катаева. Группа ленингр. писателей написала письмо с протестом против дурного обращения с Даниэлем и его подписал в числе прочих Гранин[3], который стал будто бы первым секретарем ленинградской организации ССП вместо Дудина[4]. <…>
16 июля. Вот дата, которую не могу никогда забыть: день ареста Левы в 1937 г. Она помнится куда более ярко, чем даты дней, когда что-то случилось со мной самим. Впрочем, это тогда тоже случилось со мной, с нами со всеми…
Знаменательно, что в этот день я кончил читать «В круге первом» Солженицына. Прочитал я огромную рукопись в 800 страниц в два приема на дому одного знакомого. Одновременно, в других комнатах читали и хозяева, и еще другие: странички передавались, как по конвейеру, но я всех опередил и прочитал в первый день 320 страниц: во второй – остальное. Конечно, я считал по необходимости бегло, где-то пробегал (в любовных сценах, например), но некоторые страницы прочитывал дважды.
Что сказать? Это замечательно!
Это огромная фреска исторической живописи, подобно которой еще не было у нас. И это умно и в целом хорошо написано и, что удивительно, – прекрасно построено. Умная композиция, именно романная композиция, где все части по необходимости естественно входят в целое.
Умно выбран матерьял, умно ограничен, вернее – отграничен, ярко написаны люди: их много и все запоминаются. И все правда – та, хватающая за душу правда, без которой нет большого искусства. О многом я могу судить, как свидетель: я не был в «шарашке» (впрочем, разве наш лагерный театр – не «шарашка» своего рода?), я прошел тюрьму, этапы и прочее и все запомнил, и еще о многом слышал от товарищей по заключению, некоторые из которых побывали в этих самых «шарашках»; я знаю, так как собирал слухи и свидетельства, и многое о работе «начальства» до самого верха этой пирамиды. И тут все правда, пожалуй, за исключением психологического портрета Сталина, который все-таки сложнее: по-шекспировски сложнее: он злодей, но более сложный, более уникальный: он гений злодейства, а Солженицин, ненавидя его, упростил. Но это даже не промах, а некая художественная неизбежность, нечто входящее в замысел и даже имеющее право на существование, ибо святая ненависть автора чувство более высокое, чем хладнокровие мастера-художника.
Это существует, это нельзя уничтожить, это останется самым замечательным свидетельством о времени, о котором, как казалось нам тогда, когда это все происходило, не останется свидетельств.
Любопытно, что, как говорят, это было издано начальством в нескольких сотнях экземпляров и прочтено им.
Собственно, в романе нет антисоциалистической программности: это книга о режиме безнравственном и прогнившем, называемом социалистическим по инерции и сознательному лицемерию: если можно так сказать, при всей страстной субъективности автора, в самых сильных (а их много) местах книги он художественно объективен. Лучше всего это показано в фигуре Льва Рубина, прообраз для которого – Лев Копелев[5], нам всем хорошо знакомый; он был «там» вместе с автором и автор относится к нему с насмешливой снисходительностью.
Удивительная книга!
17 июля. [две вырезки из газет, посвященные премьере телевизионного спектакля по пьесе АКГ «До новых встреч», о подругах Люсе и Люке, отправляющихся в Москву одна поступать в театральный институт, другая – на завод.] <…>
Все думаю о «Круге первом».
Это много выше мелких вещей Солженицына, особенно тех, что пронизаны искусственным русофильством, словечками от Даля и пр. Он писатель глубокого дыхания: атлет, способный поднимать большие тяжести. Как романист он сильнее, чем новеллист. И это – настоящий крупный писатель, которого ждали и который пришел…
Роман А. Кестлера «Тьма в полдень» известен во всем мире, но он гораздо слабее, хотя и написан свободным человеком. Если не считать рассказов Шаламова, некоторых мемуаров и кое-каких стихов, то разумеется ничего подобного «Кругу первому» в литературе еще не было на тему о лагерной трагедии русского народа.
Это сильнее «Ивана Денисовича» и «Матренина двора». То было обещанием, а это уже большое свершение.
И меня удивляет, что Н. Я. и В. Т. [Шаламов] (кажется) так холодно отнеслись к этой вещи.
23 июля. <…> [о В. Некрасове] Что случилось с этим несомненно талантливым человеком? Он пьет, но и Хемингуэй пил. Говорят о какой то его физиологической драме после ранения: нечто общее с героем «Фиэсты». Но и это не объяснение. А «новомирцы» восхищаются им и скучнейшим Дорошем[6] и другими «своими». Лева – типичный говорун этой кружковщины. <…>
Блок дневников и писем мне уже давно интереснее Блока стихотворца и драматурга. <…>
24 июля. У Гариных. <…>
Слух (правда из недостоверных рассказов Н. Д. Оттена)[7] об усиленной борьбе с «самоиздатом», об арестах и особых мерах Андропова. Об исключении Владимова из ССП за его письмо[8]. Об отказе печатать Солженицина.
Смешные рассказы Тяпкиной о Плисецкой на репетициях «Анны Кар[ениной]»[9].
Читаем старого Эрдмана. «Заседание о смехе»[10] и басни. Возвращаемся в десять на дачу.
25 июля <…> По-прежнему не работается. Это влияние чтения «Круга первого». Рядом с этим все делаемое и задуманное кажется игрушками.
26 июля. <…> Письмо от Левы. Он получил ордер и собирается переезжать. Меня ищет ЖЗЛ: что-то хотят от меня для ЖЗЛ.
27 июля. <…> Меня ищет в Москве какой-то американец Браун, тоже занимающийся М-м[11].
30 июля <…> Читаю вторично «В первом круге», уже менее торопясь и более внимательно. Впечатление еще большее. Получил рукопись в другом месте, чем в первый раз. Уже одно это доказывает, что роман «пошел по рукам».
Вечером у Каменских[12] в саду жарим куриц на вертеле и запиваем их сухим разливным вином, которое продают на местном рынке какие-то южные лже-колхозники, и моей рябиновой наливкой.
Любопытно, что и там (у них еще одна журналистская дама из журнала «Искусство кино» – Кокукина[13] или что-то вроде) разговор о романе Солжен[ицына] и о том, как его достать и прочесть. Чувствую себя предателем, но молчу, что у меня сейчас рукопись: надо послезавтра отдавать, они не успеют прочесть и будет только обида…
Эта дама К. интересно рассказывает об одном своем знакомом в ранге редактора, почти сановном, и его разговор[ах] (она давно знает его и работала вместе когда-то). Он принадлежит к шелепинской группе, убежден, что Ш. [Шелепин][14] это «голова» и что ему не чета «нынешние хозяева», что они не знают, куда вести страну, что они «доведут ее». Это сталинисты, но без личного уважения и любви к Сталину, а потому что «при нем» у страны был престиж. «А сейчас что?» Проэкт организации журнала на лучшей бумаге с фото, где редактором Евтушенко, члены редакции «не замаранные» и «не одиозные»: Леонов, Шагинян, с долей порнографии и голыми бабами на фото, и романами «этой, как ее… Саган», для борьбы с влиянием «Нового мира». Ш. это одобрил, но пал, а «сухарь Суслов» оказался при докладе «неконтактен» и отверг это.
31 июля. <…> Дочитываю «В круге первом» (вторично и более внимательно). Можно сказать, что вся вторая половина июля прошла у меня под знаком этой замечательной книги.
Она была написана между 1955 и 1963 гг., т. е. писалась 8 лет. Я узнал о ее существовании, кажется, от Н. Я., еще когда она жила у Шкловских, т. е. вскоре после ее окончания. <…>
Вчера еще К. рассказывала со слов своего приятеля, что Шелепин очень подавлен своим понижением. Кое-кто считает, что «младо-турки»[15] еще могут подняться и захватить власть. Вряд ли. Как правило, сброшенные с карьерного конвеера у нас не поднимались: для того чтобы произошло обратно[е], им нужно обладать общественными биографиями или какими то дарованиями, а у них ничего нет за душой, кроме привычки к интригам в партийном аппарате. Их друзья и собутыльники твердят, что они-то знают, куда надо вести страну. Но куда – же? Если бы у них была политическая, или хотя – бы стратегическая, или даже тактическая своя программа, то это как-то просочилось бы. В общем-то, в Москве всегда все знают. Думаю, что ничего кроме борьбы за власть и аппетита к ней и м. б. каких то мелких выдумок в охранительной политике у них не было. А в чем то (и в главном м. б.) они, как это н[и] парадоксально, еще консервативнее стариков. <…>
2 авг. <…> В поезде разговор о выборах: нечто вроде спора. Дама щебечет о пошлости, а ей отвечает разумно и безбоязненно некто вроде молодого инженера. Все, что он говорит вполне толково, но недавно за такое давали 10 лет без колебаний. Уже не боятся, не оглядываются. Это при всех непрерывных приливах и отливах все таки есть уже[,] и не так просто это остановить и ликвидировать. Но разрыв между реальными настроениями и мнениями людей и крикливыми шапками газет таков, что осознание его тоже не может не воздействовать на умы и [не] наталкивать на определенные выводы.
5 авг. Третьего дня вышла в Лондоне на русском языке книга Светланы Сталиной (Аллилуевой) «Письма к другу» в изд-ве Ачесона маленьким тиражем. Это всех удивило, так как было объявлено, что 16 октября в США выйдет другая книга Светланы «Воспоминания о моем отце». «Письма к другу», или «20 писем к другу» (дикторы называют книгу по разному) это видимо первый вариант ее рукописи, написанный еще в Москве 4 года назад и ходивший здесь по рукам, хотя и не очень много (мне, например, рукопись не попалась). Непонятно, зачем Светлане понадобилось издавать первый вариант книги, над которой она еще работает и которую вероятно сильно изменила. <…> Вчера вечером о книге рассказывал комментатор Бибиси С. М. Гольдберг[16], довольно внятно, хотя и сдержанно. По его словам, это не политическая книга, а личная исповедь умной и интеллигентной женщины, много страдавшей, исповедь о ее жизни и о том, что она помнит об отце – Сталине. Она рассказывает, что ее мать застрелилась после небольшого спора с ним на банкете и оставила ему письмо, скорее политическое, чем личное. После этого отец стал ссылать и арестовывать родных матери. Это формировало по своему отношение Светланы к отцу и «пусть другие судят о политическом смысле этого». Когда ей было 17 лет и она влюбилась в 40-летнего Каплера[17], отец дал ей пощечину за роман с евреем и сослал Каплера на 10 лет в Воркуту. 2-го марта она занималась французским языком, когда ее вызвал Маленков и попросил приехать на дачу отца, где она застала Хрущева и Булганина в слезах, а отца умирающим. Его агония длилась 12 часов: он задохся, так как не верил врачам и сам прописывал себе лекарства. Не может быть и речи о заговоре врачей против него. Он умер «всеми отвергнутым (?!), больным и одиноким». Его злым гением 20 лет был Берия, который был «еще более злым, коварным, вероломным, мстительным и жестоким, чем отец» (!) и отец должен с ним разделить ответственность (??) за сделанное зло. [последние строки съезжают]
8 авг. В городе. В «Мол. гвардии» у Короткова[18]. Просит написать для «Прометея» о Кине. Цензура свирепствует. О Сталине сейчас можно только писать хвалебно. <…>
Взял у него 2-ой том «Прометея». Встретил там Борю Слуцкого, который пошел меня провожать. Он тоже высокого мнения о «В первом круге». Копелев ему сказал, что все с ним было не так: дипломат сам звонил в два посольства и предложил стать их осведомителем и поэтому он позволил себе помочь его поймать [sic]. Солж. тут все изменил. <…>
9 авг. <…> У Саши Кам[енского] сын выдержал в этом году в университет на биологический факультет. Но однако в списке принятых его не оказалось. Видимо, потому что он еврей. Но нашлась, слава богу, протекция и его зачислили. В связи с этим говорим об антисемитизме. Саша говорит, что он понял, что он еврей[,] только в 49-м году. Неверно думать, что сочувствуют Израилю в его борьбе только евреи. Н. П. С.[19], например чистый русак, но он горячо за них. И вообще вся интеллигенция, хорошо усвоившая то, что лаконично сформулировал наш Михаил Моисеевич Маргулис[20]: «Там, где плохо евреям – плохо всем».
<…> [АКГ чувствует себя плохо] Живу я, конечно, сверх безалаберно и одиноко.
11 авг. <…> Вчера слышал, что пр[авительст]во собирается амнистировать Синявского («за хорошее поведение»), а Даниэля, который пересылал из лагеря какие-то рукописи, да и там как-то бушевал, хотят оставить в лагере. Впрочем, это все сомнительно.
12 авг. <…> [на 15-е АКГ берет билет в Ленинград] Все эти дни перечитываю свои старые дневники. Как это интересно, пестро, богато! Будут деньги – надо почеркать описания любовных шашней и дать машинистке перепечатать. Я веду дневник 40 лет: со школы – это горы исписанной бумаги. Есть и наивности и глупости, конечно: не без этого.
Заграничное радио муссирует письмо Андрея Вознесенского в «Правду». У них там смещены критерии и пропорции. Вознесенский – временщик славы, новый Бенедиктов или Кукольник[21], им кажется большим поэтом. <…>
Леву не видел больше месяца. У меня так бывает – что-то щелкнуло. Не знаю: совсем ли? <…>
Слухи о договоренности между США и СССР о договоре об ограничении атомных вооружений. Китайцы собираются в сентябре провести испытание баллистического снаряда с атомной головкой. <…>
Под вечер часами сижу в саду (перед заходом солнца) и думаю.
13 авг. [на дачу к АКГ приезжают Сережа Ларин[22] и Лева Левицкий – он опять работает в отделе поэзии «Нового Мира»] <…>
Сидим и пьем наливку из рябины за столом под пробковым дубом. <…>
Будто бы Андропов создал особый отдел по борьбе с «самоиздатом». Но единственный реальный способ борьбы с этим явлением расширить цензурные рамки и больше печатать.
Снова скверно себя чувствую, особенно ночами.
14 авг. <…> Идущий от Мацкина[23] слух, что у Ильи Григорьевича инфаркт, но от него это скрывают. Он маниакально боится больницы.
15 авг. Через три часа еду, хотя на несколько дней, но с машинкой и кулем яблок и прочим.
16 авг. Вчера под вечер приехал на дневном, сидячем № 4 <…>
На труппе БДТ читали изделие Альшица[24]. Перед этим Эмма сказала Г. А. [Товстоногову][25] мое мнение о нем («стукач»). Он был обеспокоен, но его нравственный индифферентизм не заставил его сомневаться[,] прилично ли ставить имя этого человека на афишу БДТ. Хорошо еще, что Эмму не заняли. <…>
Она счастлива, что я приехал <…>
18 авг. <…> Просмотрел вышедшую здесь книжку А. Городницкого «Атланты» (Стихи)[26], автор вошел в славу как песенник под гитару и выше этого не поднялся. Это именно то, что, как говорят французы, – слишком глупое для того, чтобы быть сказанным, еще можно спеть. Все на грани пошлости, все приблизительно, чужие мысли, чужие словесные обороты. Зачем это печатать при таком бумажном голоде? Написать, что ли, об этом статейку?
19 авг. Сегодня в «Известиях» на 4-ой полосе под заголовком рубрики «Несколько часов одной жизни» большой очерк Татьяны Тэсс[27] «Не покину вовек» о трогательной судьбе провинциальной актрисы, игравшей во время войны где-то в Сибири с огромным успехом Шуру Азарову[: ] «Давали "Давным-давно” А. Гладкова: зал был полон. Шуру Азарову играла незнакомая мне актриса и была в этой роли очень хороша. Она сумела передать бесстрашие и прелесть своей героини, отлично пела и к тому же ей очень шел гусарский мундир. Когда опустился занавес, зрители долго аплодировали, вызывая актрису, и можно было понять, что публика ее любит»… прошли годы, и автор статьи случайно встретила в Доме Отдыха немолодую и чем-то знакомую женщину: «она обернулась и тут то я до пронзительности ясно увидела в ней озорную Шуру в красном гусарском мундире, какой эта женщина была двадцать с лишним лет назад»… И далее Тэсс рассказывает трогательнейшую и благороднейшую историю жизни и драматической любви этой женщины. Написан очерк (или рассказ) немножко сентиментально, но хорошо. Эмма, когда читала, ревела.








