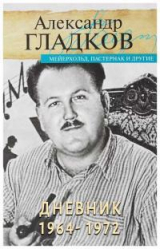
Текст книги "Дневник"
Автор книги: Александр Гладков
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 41 страниц)
Я знал многих хороших исполнительниц Шуры, но не могу представить, кто это: наверно я ее не знаю.
Мне приятно не только, что я тут упоминаюсь в таком красивом контексте, но и также то, что актриса показана здесь не пошло, как обычно, а возвышенно.
Даже появилось искушение – написать Т. Тэсс и спросить, кто эта женщина.
20 авг. Уже хочется обратно в Загорянку. Что-то там в моем саду, в моем доме? Скучно без радио. Да и вообще я бирюк и люблю свою берлогу. <…>
Собрался, наконец, записать некоторые рассказы Стелы Самойловны Адельсон[28] о Б. Л. Пастернаке, что откладывал с весны, и чувствую, что уже что-то забыл, хотя м. б. и не главное, но все-таки существенное.
21 авг. Читаю № 7 «Нового мира». Он на этот раз довольно интересен. <…>
Самое интересное, все же это переписка профессоров А. Тойнби и Конрада об историческом процессе[29]. Есть замечательные формулировки. В последние годы я спорил не раз с разными людьми (и с Н. Я и с Левой и с другими) о том же самом, что Тойнби и Конрад называют «свободой исторического выбора». У нас шла речь о том[,] был ли предопределен (грубо говоря) «37-ой год» – «17-м годом», или годы «тридцатые» годами «двадцатыми». Я отстаивал точку зрения «свободы исторического выбора» в каждый данный момент жизни общества: мои оппоненты это отрицали. А это, если угодно, ключевая историко-философская проблема наших дней.
22 авг. Сегодня уезжаю и очень этому рад, хотя Эмма прелесть. Впрочем, утром мы почти поссорились, не по моей вине. Потом – прошло… <…>
В № 7 «Нового мира» непонятно зачем написанная повесть Грековой[30], которая могла быть закончена на любой странице и продолжена [на] любое количество страниц. Профессиональный уровень письма, но что, зачем, для чего? <…>
Читал еще письма Герцена к Гервегу и письма Н. А. Герцен к Гервегу. В жизни все было еще сложнее, чем в «Кружении сердца»[31][,] и разобраться в этом, написать об этом заманчиво. Надо подумать об этом. Комментаторы тома «Литер. наследства» едва коснулись самого интересного.
23 авг. Еду в мягком. Попутчиками оказываются Райкин с Ромой[32]. Очень теплый разговор. Он меня искал, чтобы заказать какой-то текст для себя, но не нашел. Рома очень хвалит Эмму. Милые люди!
24 авг. [в № 8 «Юности» напечатан очерк АКГ – «Романтики ("Комсомольская правда” 20-х годов)»]
26 авг. <…> Послал бандероль Жене Пастернаку (давно обещал подарить ему свои «Воспоминания») и журнал «Юность» Ц. И. Кин и Эмме.
29 авг. Сижу в Загорянке. Неважно мне, но работаю немного. <…>
Читаю свои дневники 35-го года. Интересно!
Бумаг накопилось столько, что иногда уже еле нахожу то, что мне нужно, хотя пытаюсь держать архив в относительном порядке.
30 авг. <…> Сегодня днем Бибиси передало, что в Москве начался процесс над тремя советскими писателями, обвиняемыми в издании нелегального журнала. Но так как я ни разу не видел ни одного нелегального журнала и о пресловутом «Фениксе»[33] слышал только из зарубежных источников, то не могу догадаться: кто это? Кто-нибудь вроде Алика Гинзбурга, которого тоже ни разу не видел, или ему подобных, и вряд ли это члены ССП.
[после строки отточий] Вечером Бибиси вносит уточнение: судят устроителей январской демонстрации против цензуры, или нового закона об антисоветской <литера>туре [слово напечатано поверх напечатанного ошибочно] у памятника Пушкину.
Три месяца назад говорили, что они выпущены до суда под расписку о невыезде и больше о них ничего не было слышно. <…>
А «Голос Ам[ерики]» называет несколько фамилий из числа которых должны быть трое подсудимых: Ал. Добровольский, Кущев, Долоннэ, некая Вера Ложкова, А. Гинзбург и еще кто-то[34]. Это основатели некого общества СМОГ (Слово. Мысль. Образ. Глубина.)[35].
1 сент. 2 часа 10 минут дня. Только что услышал по радио по Бибиси о том, что скончался Илья Григорьевич Эренбург. <…>
И. Г. занимал много места в нашей жизни и с ним связано многое и мне грустно, что я больше не услышу его рассказов о разном. Жалко и Любовь Михайловну[36]. Надо завтра с утра ехать в город, хотя раньше понедельника вряд ли могут быть похороны.
[после строки отточий] О процессе молодых передали, что он идет третий день и что двое тоже молодых людей хотели прорваться в зал и их увезла милиция. <…>
[в гостях у Гариных] Спор с Коварским[37] внешне джэнтльмэнский, но резкий о фильме «Великий гражданин» и второй серии «Ивана Грозного». Т. е. о лжи в искусстве и пр. Гарины поддерживают меня. Ков-ий вдруг говорит, что это «спор двух мировоззрений». Н. А. человек трусливый и приспособляющийся и его позиция характерна для умонастроений какой-то части вчера еще игравшей в левизну интеллигенции. Гарины рассказывают примерно то же о Н. Д.[38] (в связи с историей Светланы [Сталиной]). Ник[олай] Арк[адьевич] сейчас делает Мятлева[39] для большой серии Библиотеки поэта. Кстати, его друг Мика Блейман тоже проделывает подобную эволюцию, но тому хоть за это хорошо платят: он референт Романова[40]. <…>
Оказывается, эти два молодых человека были схвачены за то, что они рассказывали западным журналистам о суде над их товарищами. Подсудимым инкриминируется как будто только демонстрация 22 января. Главный – Буковский[41]. Другой – Кущев[42]. Кто третий неясно.
1 сент. (продолжение)[43]. <…>
Мне кажется, что я понимаю И. Г. и мог бы о нем написать. Тут надо говорить о трагедии компромисса. Он всю жизнь занимался политикой и, мне кажется, сам презирал ее. Но у него была своя внутренняя линия обороны, где он не уступил бы ни пяди: это любимая им поэзия, проза, живопись. И он готов был всячески маневрировать в политике, а оставался неизменным в своих вкусах и пристрастиях в искусстве. Не думаю, что у него остались нецензурные рукописи (кроме нескольких м. б. глав мемуаров): он всегда писал, чтобы печататься, и в годы, когда стала развиваться «вторая литература», это тоже его связывало и лимитировало его способность к откровенности. Я уже как-то вспоминал в связи с ним Иосифа Флавия: он бы вероятно оскорбился на эту параллель (он терпеть не мог Фейхтвангера), но от нее никуда не уйдешь.
Я виделся с ним не чаще, чем несколько раз в год, но всегда ощущал его существование и мне будет его нехватать. <…>
Все с презрением говорят о Шкловском. Непочтенная старость. То же и Федин. О Леонове вообще не говорят: его вроде и нет. Уважаемы и более менее «в форме» только Корней Иванович[44] и Каверин.
Они интересные люди, но их не назовешь первоклассными талантами.
[после отточий] Ночью «Голос Америки» передал, что на московском суде поэт Владимир Буковский приговорен к трем годам, а двое других обвиняемых – к условным срокам.
2 сент. В Лавке писателей вернувшаяся из отпуска Кира отозвала меня в сторону и дала мне потихоньку «Разговор о Данте» Мандельштама и еще одну книжку Цветаевой «Мой Пушкин». Пошлю ее Эмме.
5 сент. Вчера похоронили Илью Григорьевича. ЦДЛ был переполнен и тысячи москвичей прошли мимо гроба и еще тысячи не попали. До конца траурного митинга в ЦДЛ на улице Герцена стояла огромная толпа, остановившая уличное движение, которую тщетно милицейские машины с рупорами старались уговорить разойтись. <…> Блестящее отсутствие Федина, Леонова, Шолохова, Соболева. Не говоря уже о прямых противниках И. Г. (Кочетове, Грибачеве, Сафронове, которые могли бы прийти из приличия, хотя бы.) Кроме иностранных и речи Кассиля на кладбище, – ни одной достойной речи. Характерно, только иностранцы упоминали о горе близких И. Г. [,] Любовь Михайловны и Ирины[45]. <…> Почему не говорил ходивший в толпе с потерянным лицом Каверин или Боря Слуцкий, который вместе с художником Биргером[46] многое сделал в закулисной организации похорон.
Замечательные старухи: Любовь Михайловна и Надежда Яковлевна не проронили ни слезинки. Плакала Наталья Ивановна, рыдала до изнеможения дочь Ирина, плакала Маша Валлентэй-Мейерхольд.
Я приехал в пол-одиннадцатого. Посидел с Надеждой Яковлевной и Нат. Ивановной в третьем ряду верхнего зала, где стоял гроб. Потом пошел вниз, уступив свое место Фрадкиной[47]. Стоял в почетном карауле вместе с Аникстом и Копелевым. На митинг я уже не мог пройти в битком набитый зал и слушал его из верхнего фойэ, смотря на бушующую перед ЦДЛ толпу. <…> Кладбище уже набито шпиками с траурными повязками на рукавах. Я никогда не видел такой толпы шпиков (в ЦДЛ их было тоже очень много: сотни). Потом приходят автобусы из ЦДЛ. Говорят, что было какое-то побоище у выхода из ЦДЛ. <…> И Н. Я. и меня пригласила после к себе Любовь Михайловна, но Н. Я. попросила меня накормить ее обедом в ЦДЛ и отвезти домой: она страшно устала. Едем на автобусе ССП в ЦДЛ. Утро было дождливым, но днем распогодило и стало жарко.
5 сентября (продолжение).
В ЦДЛ сдвинули столики и сели вместе: Н. Я., Лена Зонина, Сара Бабенышева, Копелевы, Аникст, я и еще какие-то девушки из Иностранной Комиссии.
Выпили в поминовение И. Г. немного водки и посидели часа полтора. Потом отвез Н. Я. Разговор об И. Г. и о том, какая это потеря. Н. Я. умная женщина и говорит верно. Она помнит, как несколько лет назад она наскакивала на него, а я всегда его защищал. Дарит мне «Разговор о Данте» с памятной надписью о том, что за эту книгу долго боролся И. Г. Уезжаю от нее в пол – десятого, не чуя ног от усталости (я встал около пяти утра и с девяти в городе). <…>
Со смертью И. Г. образовалась огромная пустота, которую чем дальше, тем будет ощущать острее. Все-таки огромное он занимал место в нашей жизни. <…>
Кроме Кассиля прилично говорил Лидин[48]. Но и это все.
Кто-то сказал: «Не могут у нас без Святогорского монастыря»!.. Чрезвычайные милицейские меры и толпы шпиков с выразительно тупыми лицами с казенными траурными повязками (жалкая мимикрия!) на рукавах – все это было характерным зловещим и трагикомическим обрамлением похорон, которые могли бы быть широкодушны [sic] и сердечны. Вот в этом вся наша жизнь – новый светлый дух нашей интеллигенции, воспитанной, кстати говоря, Эренбургом больше, чем кем бы то ни было другим, и полицейское охранительство самого дурного пошиба… <…>
Третьего дня приезд Т[они] с девочкой. Отдал ей все деньги, которые были и надо перевести еще.
10 сент. Сегодня американцы передавали по радио 1-ю главу из книги Светланы Сталиной о смерти отца. Пожалуй, ее можно было бы смело напечатать в «Правде» – она полна любви и уважения к отцу. Ну, на то она и дочь. С фактической стороны она не совпадает с известным рассказом о смерти Сталина, напечатанным во Франции, где изображается, что будто бы его нашли уже мертвым и перед этим взламывали дверь. Впрочем, м. б. и взламывали, но это было еще до приезда Светланы на дачу в Кунцево. <…> Светлана писала эту книгу в Жуковке под Москвой: это район, который я хорошо помню – мы там жили на даче летом 1928 года и она называет названия Ильинское, Знаменское и Усово, которые я помню. Помню, что тогда говорили, что поблизости дача Сталина. Потом это стало запретной зоной. Мы жили, помнится, в Ильинском. <…>
Письма от Эммы и Татьяны Тэсс. Телеграммы от Эммы и Гарина. Я написал Эмме, что не приеду сейчас.
Попрежнему болею: то лучше, то хуже. Думаю, что это почки.
Ветви яблонь ломятся под плодами. Яблок так много, что их даже не воруют. Я не помню, чтобы было столько. <…>
Недавно вспоминал, просматривая дневники, свой роман с Надей[49]. Уж тогда я был в полном говне и почти нищим, но все время хочется сказать: хорошее было время.
Какая подлая штука – память!..
[19] сент. Приехал днем на дачу. Обрываю черную рябину и собираю яблоки. Переделываю статью о Гарине. [о постановке им спектакля «Горе уму»] <…>
Сегодня передавали главу о романе Светланы с Каплером. Что-то я об этом знал, но подробности страшны. В какое время мы жили!
20 сент. <…> Утреннее радио (америк.) сообщает, что Шостакович сломал ногу, упав в кювет, когда спасался на прогулке от машины. И еще одно автомобильное происшествие: Аджубей[50] ехал пьяный на машине и сбил женщину с ребенком: женщина ранена, ребенок цел. Аджубей арестован.
Вот какую хронику уличных происшествий нам передают из-за рубежа. <…>
Х. А. [Локшина] говорит о том, что я удивительно верно и свободно пишу о Мейерхольде, что я удивительно владею матерьялом, что она не знает лучшего знатока М-да, чем я. Это наверно действительно так. Могу это признать без ложной скромности.
22 сент. Вчера встал в пять утра и в семь часов уехал уже в город встречать Эмму. Их театр встречают представители министерства, театров. <…>
Под вечер у Ц. И. Кин. Знакомство с Дроздовым. Оказывается, мы учились в одной школе. Слух об арестах в Ленинграде. Спор с Кацевой[51] о книге Светланы. Вчерашний кусок я не слушал. Едем с Ц. И. и Дроздовым в театр на «Мещан». Успех. Разные встречи. Провожаю Ц. И. Уезжаю с поездом 0.49[52].
2Х сент.[53] Дни, когда не работаю, так как ежедневно торчу в городе из-за Эммы.
С ней все то же. Второй спектакль «Мещ[ан]» прошел лучше. Вчера были в театре на Таганке. Смотрели «Павшие и живые» и «Антимиры». Первое – прекрасно, благородно, смело, с невероятными вещами. Например, со сцены читают «Гамлета» Пастернака, еще не напечатанный <…>. «Антимиры» претенциозно, неталантливо, дурновкусно (из-за бездарного текста А. Вознесенского) и воспринимается как пародия на манеру театра. <…>
Провожу Эмму и сяду за работу (если не заболею). Надо многое сделать за осень: втрое больше, чем могу. После [ручкой это слово присоединено к началу следующего абзаца:]
Завтра идем на «Послушайте» – спектакль о Маяковском в Театре на Таганке. И в тот же день у меня премьера фильма [ «Зеленая карета»]. Но разумеется, я на премьеру не пойду, хотя 99 из 100 моих друзей поступили бы наоборот[54].
23 сент. [вклеена вырезка из газеты с объявлением о премьере фильма «Зеленая карета» 26 сентября в кинотеатре «Зарядье» – о жизни и трагической судьбе актрисы Варвары Асенковой (в главной роли Н. Тенякова)[55]].
25 сент. <…> Эмма не в «настроении», куксится, хотя вчера спектакль прошел триумфально, беспрерывно делает мне замечания (ее болезнь) и в какой то момент – я на грани бешенства, но сдерживаюсь и удираю на дачу.
Завтра в час премьеры мы идем с ней в театр и ей не приходит в голову предложить пойти со мной на премьеру моего фильма, отказавшись от театра. Я зову ее пойти в 10 ч. утра, но это ей слишком рано, хотя от «Москвы» до «Зарядья» 15 минут ходьбы. Ладно! Так мне и надо! <…>
[Лев Гинзбург сообщает о том что Солженицына объявили] рупором антисоветской пропаганды на Западе, сравнили со Светланой Алл-й и потребовали, чтобы он публично отмежевался от своих западных защитников. По словам Гинзбурга, только Салынский как то защищал его. Сегодня об этом же сообщает Бибиси. <…>
Тяжело на сердце. Только надо держать себя в руках и не объясняться, что всегда – пошлость.
27 сент. [с Эммой на даче] Вечером смотрим с Э. «Послушайте» в Театре на Таганке. Это хорошо и благородно, особенно вторая часть.
Из театра едем в Загорянку.
В утренних газетах сообщение о пленуме ЦК с утверждением хоз. вопросов. Шелепин освобожден от должности секретаря ЦК. <…>
Читаю дневник Половцева[56]. Купил дорогие 2 тома, после того как долго ходил вокруг них. Это не сенсационно, но интересно.
В общем, Россия мало меняется: в 1886 году правительство запретило празднование 25-летия уничтожения крепостного права.
1 окт. <…> Читаю в который раз мемуары Андрея Белого. Они и раздражают и восхищают.
3 окт. Вчера днем ко мне приехал Илья Соломоник и пробыл до нынешнего утра[57]. Уехал в 12 часов дня. Переговорили о многом. Его рассказы интересны, особенно про то, как он мыкал горе сразу после освобождения из лагеря в феврале 50-го года. Он хороший инженер, любит свою работу и с удовольствием о ней рассказывает. Выяснилось, что он внучатый племянник некогда известного Фрумкина, бывшего наркома в 20-х годах и потом ошельмованного за какую-то «платформу Фрумкина»[58], о которой я мало знаю. Кажется, он был чем-то вроде «правого», но одиночкой, и не участвовал в оппозициях. По словам Ильи, он исчез в конце 35-го года и погиб в лагерях. Но еще до того он был понижен и находился в опале.
[Бибиси о встрече Филби с сыном][59], молодым англичанином крайне левых убеждений, который приезжал к нему из Лондона в Москву. <…> Это одна из самых удивительных историй нашего века!
4 окт. <…> Не помню также, записал ли я о разговоре с Б.[60] о идеях Солж[еницына] (22 сент.). Проэкт нового «письма» с 500 подписями с требованием реформы устава ССП. Это все наивно. Во-первых: столько подписей никогда не собрать. Как показал опыт «письма 80-ти» – 150 подписей (если добавить ленинградцев) это максимальный предел. Во-вторых, разве дело в букве устава? Дело только в духе времени, а его никакими «письмами» не изменишь. То же самое мне сказал Каржавин[61].
Собирался сегодня в город, но встал с насморком и сильнейшим кашлем и явной температурой и не поехал.
Чудесный солнечный, теплый осенний день +20.
Мое отшельничество мне по душе. Сижу один и мне никого не надо.
Завтра Илья Сол[омоник] позвал меня к брату, чтобы познакомить с тетками, сестрами М. И. Фрумкина, но наверно не пойду под предлогом гриппа.
Надо побывать у Н. Я., у Ц. И., у Мацкина, у Гариных – и не хочется… Еще надо к Борщ[аговскому], к Ю.Триф[онову].
К Леве не хочется из-за Люси, которая мне стала неприятна после двух эпизодов летом.
5 окт. Из московских слухов. Шолохов прислал в СП письмо о том, что он не желает быть членом СП, если им является Солженицин. <…>
Говорят, что в КГБ создан особый отдел для изучения настроений интеллигенции и он должен также заняться проблемой прекращения самоиздата, о чем Андропов обещал политбюро.
6 окт. <…> Надо бы мне на зиму поискать пристанища в Москве. Что-то не хочется больше остонавливаться у Левы. А приезжать придется, и не раз. Зовет Боря Балтер, но мы с ним очень уж разные.
10 окт. Давно уже я не ощущал такой скуки вокруг. Фальшь и бездарность в подготовке 50-летия, цензурный зажим, тупик в личной жизни и пр. – от всего этого глухая тоска. И как обычно это бывает у меня, страшно недоволен сам собой, хотя, кажется, на этот раз я сам виноват меньше всего.
Недовольство собой, доходящее до презрения к себе, до нежелания начинать утром новый день.
11 окт. <…> Утром придумал кое-что для 3-й картины «Молодости театра», резко ее обостряющее и что, как я все время инстинктивно чувствовал, как раз в ней нехватало.
14 окт. У Борщаговских. Оказалось, что нынче день рождения Саши. В гостях еще две пары: его друзья – одну я уже встречал у него; другая – физик (забыл имя), он же художник-любитель, работающий по майолике.
У Саши заканчиваются съемки фильма «Три тополя»[62] и на столе лежит верстка рассказов. Но он мрачен. Наступление реакции очевидно, и он думает, что это только начало. Будто бы продолжаются антисемитские мероприятия «на разных этажах», увольнение писателей на Мосфильме и пр. Общая военизация жизни. <…>
15 окт. <…> Недавно пришла в голову мысль: написать биографию Грибоедова. Такой книги нет, хотя монографий вокруг много и матерьял изучен и разработан. Написать не как исследовательскую работу, а как книгу для чтения. Написать для ЖЗЛ. Надо же что-то делать и делать реальное. Бессмысленно писать «в стол», да и подохнешь с голоду.
Нужно искать цензурные и интересные темы.
Хочется еще написать пьесу о Наполеоне по моему старому сценарию.
16 окт. Днем у Левы. Гипотетический спор о том, что бы было, если бы… И Лева начинает выставляться передо мной, давая мне понять, что он смел, умен, принципиален в противоположность мне. Еще до этого он бранит Сашу Борщаговского за «трусость», за то что он много пишет и пр. Как всегда, я, ошеломленный наглостью, терплю, пока не чувствую, что подкатывает что-то и могу сам начать браниться. Но до этого не доходит, так как я срываюсь и ухожу стремительно.
Еду к Саше Борщ[аговскому] и занимаю у него 300 р.
У него Елизар Мальцев и потом Леонид Первомайский[63]. <…>
Рассказ о Василии Сталине[64] <…> Жизнь в Казани. Снова грузины и кутежи. После одного его привозят домой в бессознательном состоянии и он умирает от отравления алкоголем, не приходя в себя. Вскрытие показало полное разрушение организма.
Ночью пишу письмо Леве.
17 окт. <…> Перевожу 100 р. Т.[65]
Послал письмо Леве, м. б. все же зря. Лучше тихо прекратить отношения, чем пускаться в объяснения. Письмо спокойное, но достаточно жесткое.
В ЦДЛ встреча с Борей Балтером и Галей[66]. Боря говорит о их решении уйти из семей и соединиться. Но они невеселые и какие-то растерянные. Разговор о Загорянке. Боря говорит, что он мне (почему?) рассказал об этом первому. <…>
18 окт. <…> Из Киева Шура Смолярова[67] <…> [после просмотра фильма]:
«<…> Спасибо от артистов за фильм о нашей «легкой» профессии! Обнимаю. Ш. 10 окт. 67 г.» <…>
Вот этот отклик мне чрезвычайно приятен. Шура театральный (и талантливый) человек и очень требовательный. Ее оценка весома.
Вчера Боря Б. говорил мне, что я «счастливый человек», потому что могу писать не только о наших днях, что я «выговариваюсь» в вещах, подобных эссеям о Пастернаке и Олеше, и могу наслаждаться красивыми романтическими сюжетами. Нет, не так все это просто: и «Зел. карета» была задумана вовсе не безобидной мелодрамой. Еще Боря говорил, что я недооцениваю свое имя как драматурга. <…>
В 2 часа ночи Бибиси передало, что советский спутник осуществил плавную посадку на планету Венеру. В 3 ч. 15 дня последовало подтверждающее это сообщение ТАСС.
Это достойно восхищения!
Как хотелось бы и всем остальным гордиться страной, которая является твоей родиной!
19 окт. Сегодня ночью уезжаю и пробуду в Ленинграде 4–5 дней. Вернувшись, буду форсировать окончание пьесы. <…>
Уже третий день снова сильно болит правый бок.
Опять меня будет бранить Эмма, что не лечусь. <…>
Днем ездил в город ненадолго. Необычайно тепло со мной почему то поздоровался Гриша Бакланов в ЦДЛ. Наверно, прочел что-нибудь мое, бродящее по городу (Пастернак, Олеша). Но вокруг были люди, шум, и он как-то значительно пожав руку, ничего не сказал. Отмечаю это потому, что он последние годы едва мне кивал (тоже неизвестно почему). <…>
23 окт. Вечером вчера у В. Ф. Пановой и Дара, потом захожу за Эммой к концу «Трех сестер».
Около часа разговаривал с В. Ф. Она сидела в капоте за столиком <…>. Говорит чуть затрудненно и лицо как-то искривлено после паралича, но я ожидал худшего. Отвечает вполне разумно.
24 окт. [АКГ возвратился в Москву, едет в Загорянку.] <…>
В городе узнаю, что в Москве фильм идет в 34 кинотеатрах со вчерашнего дня. <…>
Еду обедать в ЦДЛ. Там Балтер с сыном. Боря ушел из дома, но Галя пока не ушла и он собирается ехать в Тарусу жить там в доме Паустовского и работать. Сын на его стороне видимо. Боря при нем, не стесняясь, обсуждает свои дела и дает какие-то советы сыну в его любовных неурядицах. Неплохая сцена для комедии! <…>
Возвращаюсь в Загорянку. Как по колдовству начинает болеть правый бок, совсем не болевший в Ленинграде. Непонятно. Что за черт!
На даче в моей комнате плюс 11. <…> Сад весь облетел. Завтра придется топить.
25 окт. <…> Сегодня в «Литер. газете» цикл невероятно – скверных стихов А. Вознесенского «Зарев». В одном из них он отмежевывается от своих заграничных друзей. <…>
День хмурый, с дождиком. Топлю печку и температура в комнате поднимается до плюс 18. Болит бок.
28 окт. <…> Снова читал Булгакова. «Мастер и Маргарита» меня не увлекает. Вторично берусь за нее и не увлекаюсь. «Белая гвардия» лучше, но испорчена пильняковщиной, а «Театральный роман» – прелесть!
31-го – день рождения Над. Як-ны. Нужно поехать к ней.
29 окт. <…> Очень трудно пишется пьеса. Как-то неинтересно. Все заранее придуманное кажется банальным, а новое не придумывается. Впрочем, так у меня почти всегда. Вот «Зеленая карета» идет с успехом, а писалась со скукой и напряжением. Это мой большой личный недостаток – неумение работать по плану. Т. е. я конечно работаю, но с усилием и неохотой. И, если быть справедливым, многое из недурно написанного я писал со страшной скукой.
30 окт. <…> Я разболтался во второй половине лета и все не могу взять себя в руки. Причин на это хватало: безденежье и неясность с выпуском фильма, болел, впечатление [поверх зачеркнутого шариковой ручкой: «шок»] от романа Солженицина, нарушение всех бытовых планов из-за задержки тиражных и т. п. Трудно работать, находясь в неспокойном состоянии и изобретаю – у кого бы еще занять.
31 окт. Примирительное письмо от Левы. Нет, не хочется ему звонить. Надо бы отмолчаться, а я пишу ответ – полупримирительный. Зачем? Сам сразу жалею. Пусть живет, как ему угодно. Кажется, наши отношения исчерпаны. Его жизненный несерьез меня раздражает и никакие объяснения ничего не объяснят.
В городе был у Н. П. Смирнова, у Ц. И. Кин и у Н. Я. Мандельштам, которой сегодня 68 лет. Она мрачна: болен Евг. Як.[68] (спазмы) и пророчит, что в следующем году умрет. Впрочем рада шоколаду и шампанскому, которые я привез. У нее обычные гости: Шаламов, Варя Шкловская и Коля Панченко, Саша Морозов, Мелетинские, Юля и … (забыл имя и фамилию) и двое молодых: муж и жена, которых именно тоже забыл (да и знал ли?).
Разговоры, как и везде в литературных домах, о пакостной поэме Вознесенского. Уже ходит по рукам какое-то письмо к нему некоего лингвиста Ю. Левина, где его позорят весьма красноречиво. Поддонок Вознесенский это заслужил. Обычный спор о нем и Евтушенко. Разговоры о слухах, связанных с угрозами китайцев и перепугом обывателей, об арестах студентов, о том, что в промтоварных магазинах ничего нет, вопреки обещаниям изобилия под праздник.
Шаламову несколько месяцев назад вернули рукопись рассказов о воровском мире с обвинениями его в негуманном отношении к людям, из изд-ва «Советский писатель». Рец-ю писал Ю. Лаптев[69]. Он туманно слышал, что его рассказы вышли на англ. языке. За рубежом есть хорошие рецензии на его стихи: одна написана Г. Адамовичем[70]. В наших журналах рецензии маринуются. Коля Панченко уверяет, что есть список тех, кого не нужно печатать и о ком не надо писать, и он там тоже. Все может быть.
Любимову запретили репетиции «Пугачева» Есенина. Угрозы снятием. Спектакль был уже готов.
Свой «Зарев» Вознесенский привез ночью в редакцию «Лит. газеты» вместе с Барабашем[71] и срочно сняли какую-то статью, чтобы это дерьмо напечатать.
? окт. [sic! Но скорее всего, запись сделана – 1 ноября] Снова в городе. Беру билет на 6-ое в Лен-д. <…>
Общее настроение не праздничное: все напряжены и ждут дальнейшего зажима.
2 нояб. Прочитал «Конь рыжий» Романа Гуля[72]. Это автобиография, мемуары, но нет ничего о литературе. Первая война, Гражданская война, Дон, Киев, немецкий лагерь, другой немецкий лагерь в 1933 г., ферма на юге Франции. Да, еще детство, предреволюционная Пенза. Написано хорошо и более спокойно, чем его первые книги. Очень хорошо написана революция в армии – страшные картины. Он сейчас главный редактор нью-йоркского «Нового журнала». <…>
Моя пьеса мне окончательно разонравилась и я скис. Кажется, что нет действия, все вяло, скучно. <…>
На многих зданиях висят портреты 11 членов Политбюро. Рядом с Брежневым почему то Ленин, размером чуть побольше. Шелепин – предпоследний, в отличие от прошлых лет.
Я уже более полугода и даже больше не курю.
3 нояб. [уже дочитывая роман, по радио «Голос Америки» АКГ слушает интервью с Р. Гулем о пожертвовании С. Сталиной «Новому журналу» 5 тыс. долларов]
Перед этим интервью с Набоковым о переводе им самим его романа «Лолита» на русский язык. Он размышляет как всегда усложненно и даже витиевато о разности английского и русского языка, о своей книге и попутно критикует «Доктора Живаго»: «лирический доктор с мещанским языком и мышлением», а Лара – «чаровница из романа Чарской»…
У Романа Гуля твердая, очень русская, вовсе не старческая речь, хотя ему 70 или около того. Судя по книге, он пошел на фронт в 16-м году, а было ему тогда 18–19 лет – стало быть все 70.
Он дважды и по разному описал свою жизнь, но не литературную – это еще перед ним. Книга «Конь рыжий» рассказывает почти о том же, что и «Жизнь на Фукса», но на «Жизни на Фукса» заметно влияние эксцентрической прозы Шкловского: «Конь рыжий» ближе к бунинской манере, но не по-эпигонски, не подражательно.
Сейчас серое осеннее утро. Чуть туманно. Хочу ехать в город повидаться с Юрой Трифоновым и м. б. разыскать Лидию Леонидовну Пастернак[73]. <…>
[после строки отточий:]
Вечер. Приехал из города. Был у Юры Трифонова. Знакомство с Роем Медведевым. Он годами работает над книгой о Сталине, сделал несколько вариантов и все время ее расширяет и дополняет[74]. Он сам немного анемичен и даже фатоват, но это видимость: все его интересы в его книге. Дома у него один экземпляр: остальные у друзей.
По его словам, Солженицын недавно закончил новый большой роман «Архипелаг Гулаг» – о лагерях сталинской эры. Раньше он боялся распространения своих произведений в машинописи: сейчас сам этому способствует.
Рассказ Твардовского о Солж[еницыне] на секретарьяте: – Я знал его давно, но такого не ждал. Он заставил себя слушать литературных бонз и чиновников, затаив дыхание[75].
Должен был ехать к Лидии Леон[идовне] Пастернак, но почему-то так устал, что вернулся на дачу.
4 нояб. Вчера, когда мы сидели втроем у Юры: он, Рой Медведев и я, М[едведев]. сказал, что пока празднование проходит без поминовения имени Сталина. <…> В речи Брежнева, опубликованной сегодня, тоже нет имени Сталина. <…>
М. звонили из ЦПКК и просили дать для ознакомления его книгу. Он сказал, что даст ее только секретарю по идеологии, как давал в свое время Ильичеву[76].
Он знает о Сталине много, но не все и даже в чем-то меньше, чем я, м. б. На мои вопросы о платформе Сырцова-Ломинадзе ничего мне толком не ответил[77], так же как и о Рютинской платформе.
[рассказ о голосовании на съезде в 1934, когда Сталин прошел в ЦК только 19-м, и делегация во главе с Варейкисом предложила голосовать за него, а Киров отказался возглавить ЦК и потом все рассказал Сталину] но умолчал, кто с ним разговаривал, за что Сталин затаил на него зло. Как мне и рассказывал Вуль в тюрьме, Ежов действительно разбирал бюллетени и даже сличал отпечатки пальцев голосовавших и составил Сталину список тех, кто не голосовал за него. Это и было прелюдией 37-го года и событий, связанных с убийством Кирова). Невский был обвинен в отказе чистить Ленинскую библиотеку и архивы Истпарта[,] т. е. не подчинился приказу Сталина и потребовал партийного решения по этому вопросу[78].
История о том, как Снегов спасся от расстрела[79]. <…>








