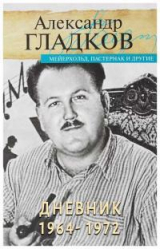
Текст книги "Дневник"
Автор книги: Александр Гладков
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 41 страниц)
7 фев. <…> Тепло. Хожу по Невскому.
Когда выходил из метро Горьковская, стало плохо с сердцем. Посидел четверть часа на скамеечке в саду, принял валидол, и – ничего…
9 фев. <…> В Москве во всем ощущается решимость руководства проводить жесткий курс. Шолохов написал 1‑ю часть романа «Они сражались за родину» с главами о 37‑м годе и драматическом начале войны. Его не осмелились принять журналы «Дон», «Октябрь», «Правда», и даже его дружки из СП РСФСР были принуждены отказаться от его защиты. Он приехал в Москву, чтобы встретиться с Брежневым, и тот его не принял. Ему передали, что «партия считает нецелесообразным опубликование этих глав». Еще бы, они идут вразрез с цензурной политикой, именно сейчас резко и определенно сформулированной (ничего о 37‑м годе, о трудностях коллективизации, о поражениях в 41‑м году). Шолохов был в ярости, пил и бушевал в номере гостиницы и наговорил чего-то. По Москве ходит какое-то его «письмо к Брежневу», не то действительно им написанное, не то кем-то из его дружков, с его слов в пьяном виде. Но будто бы эти главы написаны плохо и беспомощно, и про них острят, что Самоиздат их отклонил по причине низкого художественного качества.[11]
9 фев. Целый день с Борщаговским (вчера).[12] Европейская гостиница и т. п. <…>
9 фев. (продолжение) <…> Саша <Борщаговский> считает, что только смерть может помешать Солженицыну получить Нобелевскую премию. Но я в этом не так уверен. Он <Борщаговский> живет в Европейской в номере 302. Кажется, в соседнем я заканчивал «Байрона»[13], а может, и в этом самом. <…>
10 фев. <…> Стал сомневаться, что скоро кончу пьесу. Моя жизнь здесь сейчас – пытка. Началось с феноменального Толиного безделья и нахальства, нервы у Эммы устали и, как это было не раз, все было вымещено на мне. Это и обидно и больно.[14] <…> Я почти никогда не записываю о таких вещах: и правильно – многие прошлые ссоры проходили и память о них сохраняет разве что только постепенно устающее сердце. Вечером помирились. Ладно!
14 фев. <…> Ночью скандал с Толей. Бессонница.
16 фев. Переменил на машинке ленту. Вроде как побрился или вымыл голову. <…>
Зарубежные обозреватели почему-то считают, что сейчас внутренние разногласия в советском правительстве достигли высшей точки. Некоторые думают, что начался спад влияния Брежнева и его группы. <…> <Но> дело в том, что Брежнев и его группа – не люди верхушечной комбинации, а сгусток коллективных настроений, так называемого «среднего партзвена», воли и убеждений сотен обкомовцев (плюс, возможно, молодой группы генералитета), которым принадлежит реальная власть в стране. Они-то и хозяева положения и прекрасно это понимают. И против их воли никакая новая верхушечная комбинация ничего не сможет сделать. Насколько они неосталинисты – трудно сказать, но в какой-то степени – несомненно.
18 фев. <…> В «Огоньке» в воспоминаниях Конева снова апология Сталина.[15] Но какой же все-таки бездарный журнал «Огонек»! Ни грамма таланта! Это свойственно всем изданиям Сафроновско-Алексеевско-Кочетовской компании, сумевшей захватить массу изданий и власть в писательских организациях, но не обладающей в своих рядах талантами. А ведь даже в царской России в лагере «реакции» были крупные таланты: К. Леонтьев, тот же Катков, Суворин, Розанов, Меншиков <правильно: Меньшиков> и другие.[16] А тут – никого, хоть шаром покати.
19 фев. <…> Ирина Белогородская, об аресте которой сообщал «Г<олос> А<мерики>», это оказывается та самая сводная сестра Ларисы Даниэль, которая еще в августе забыла в такси 50 копий воззвания в защиту Марченко, о чем тогда рассказывали, и сидит она с тех пор. Ей дали год ИТЛ с зачетом тюрьмы.[17] А суд над математиком Бурмистровичем, хранившим сочинения Синявского и Даниэля, отложен.[18]
27 фев. Уже пять дней в Москве.
<…> В понедельник я перебрался к приехавшему с дачи Юре <Трифонову>. <…>
Эти дни москвичи читают и комментируют статью пяти авторов в № 3 «Коммуниста» с откровенной реабилитацией Сталина <…> Вчера (во вторник) был вечером у Гариных.[19] <…> Сегодня встреча с Р. А. Медведевым. Он поседел и другой: более пессимистичен и даже ждет возможных репрессий. Его брата Жореса (биолога) уволили на днях с работы.[20] <…>
1 марта. Еще в Москве. Взял билет на 4-е. <…>
Был вчера на ул. Грицевец.[21] Они живут хорошо. Оставил им триста до середины мая. Хотят на лето ехать снова в Эстонию. Чувствую я все-таки там себя связанно и ухожу оттуда с удовольствием. Про «Нов<ый> мир» рассказывают: цензурой подписан № 1. Твардовский зарезал рассказ Войновича[22], который всем нравится. Он в больнице, не пьет и лежит злющий.
4 марта. <…> Прочитал стихи Твардовского, снятые цензурой из № 1 «Нового мира»: «Напрасно думают, что память не дорожит сама собой» (На следующем листе (45) стихотворение воспроизведено целиком. – М. М.).[23] Очень точное ощущение мыслей и чувств многих. Молодец! Он лежит сейчас в больнице с ушибом ноги.
6 марта. <…> С Эммой нехорошо. Какие-то ее намеки <…>. От этого тяжело, потому что я люблю ее, и это неотвратимо и навсегда.
8 марта. <…> Начал свой лечебный «режим»: диета и лекарства.
9 марта. Не столько работаю, сколько сижу над бумагами. Прочел наброски о Мандельштаме. Ей-богу, это лучше того, что пишут о нем Адамович и Вейдле, светила эмигрантской критики.[24] Л. Я. Гинзбург м. б. написала и лучше, но у меня все острее и образнее. У нее академичней.[25] Год назад я жил на 9‑м этаже на Красноармейской, изнывал от духоты и тоже с нетерпением ждал весны. <…> В этот приезд в Москву, как вырванный зуб, почувствовал обнесенный забором пустырь на месте б<ывшей> Континенталь. Потом в этом доме была «Рабочая газета» и ее приложения, затем внизу Стереокино.
13 марта. <…> Вчера «Правда» начала печатать главы «Они сражались за родину» Шолохова, но я еще не читал. Наверно, все еретическое выброшено.
12 марта. <…> пошел к почтовому ящику и принес «Литер<атурную> газету». Открыл ее. На одной из полос в траурной каемке некролог «Памяти друга». Умер Валя Португалов, товарищ Левки, товарищ и моей молодости.
Я слышал, что у него зимой был инфаркт. А когда я был в Москве, то в середине двадцатых чисел я встретил его в ЦДЛ. Он сидел с кем-то за столиком у буфетной стойки и, кажется, пил кофе. Я не узнал его спутников. Я обрадовался, что он выздоровел, и мы поговорили минут 5—10, почти на ходу. Я сказал ему, что купил «Пять обелисков» и посмеялся над ошибкой в посвящении стихотворения «Два друга уезжали». Он сказал, что хлопочет о новом большом издании стихов Ивана Пулькина и присуждении ему премии имени Островского (не знаю, что это за премия). – Позвони как-нибудь, Шура! – сказал он мне. Я кивнул головой.
Наверно, он был последним, кто звал меня Шурой. Нет, вспомнил, так меня еще зовут А. П. Мацкин[26] и двоюродная сестра Таня Котельникова.
Ох, Валя, Валя! Много я мог бы написать о нем. Он пережил Леву на два-дцать лет, и все удивлялись, как он хорошо выглядит: он был даже румяным, как многие сердечники, и это принималось за признак здоровья. Эта встреча могла быть 22 февраля или 24-го, т. е. этому еще нет и трех недель. Очевидно, смерть была мгновенной…
Я еще напишу о Вале.[27] Недавно у него вышла в «Сов<етском> писателе» книжка стихов (о, не лучших!) «Когда человеку не спится», но я ее еще не видел. Он сказал мне, что не мог прислать ее, так как не знал моего адреса.
А сейчас взял книжку «Пять обелисков», им составленную, и оказалось вдруг, что в его очерке об Иване Рогове дважды названо имя Левки. Рогова я не знал.
Господи, как же я хорошо помню это проклятое лето – лето 1937 года, начавшееся для нас с Левкой арестом Вальки, кажется перед майскими праздниками. А 16 июня был арестован и Левка. Их обоих посадила эта сука стукачка Екатерина Шевелева, а руки приложили к аресту N и Матусовский.[28] Потом, в годы «позднего реабилитанса» они конечно заявили, что их показания были ложными и вынужденными, и Леву и Валю реабилитировали: Леву уже посмертно. А Валя стал членом Союза писателей: издавался, разыскивал и печатал стихи друзей.
Прощай, Валя!
14 марта. <…> В «Правде» продолжение глав Шолохова с куском о 37‑м годе. Уж наверно, все это проутюжено и прочищено, но и в этом виде, пожалуй, главное сказано. Концепция: да, это было, но Сталина обманывали, хотя он еще не может быть до конца разгадан. И тем не менее… <…>
Ночью мне думалось о друзьях 1940 года – времени, когда я изолировал себя от круга – Арбузов – Плучек – Шток[29] и встречался только с Лободой[30], Пулькиным, Зубковским, Мерлинским[31], Аллой Пот. (см. ниже. – М. М.) и никулическими студийцами. Да, еще забыл Андрея Мартынова. К ним же должны быть отнесены брат Лева и Валя Португалов, которые хоть и были на Колыме, но я с ними переписывался. И вот из всех них жив только Мартынов, да и то я о нем ничего не слышал уже несколько лет. Он живет в Риге, пьет. Пулькина, Лободу, Зубковского унесла война. Недавно умер опустившийся и превратившийся в грязного старика Мерлинский. Перед этим я тоже давно его не встречал. Где-то в Москве существует и Алла П., сейчас вдова актера Астангова. Нет и Левки, и Португалова. А тот первый круг моих друзей еще живет, процветает, болеет, лечится, жаждет успеха и славы. Есть в этом какая-то закономерность судеб. <…>
Бибиси начало передавать изложение и отрывки из книги Е. С. Гинзбург «Крутой маршрут», почему-то назвав ее романом.[32]
М. б., это имеет целью парировать шолоховскую версию событий 37-го года.
15 марта. <…> В «Правде» последний кусок шолоховских глав. Все сусально. С обычным его шутейным балагурством. Неужели и это рептильная критика начнет выставлять как шедевр соцреализма? И все же, пожалуй, полезно, что это напечатано. Все-таки 37‑й год в карман не спрячешь. Мелкость исторической позиции тоже разоблачает Шолохова.
16 марта. <…> Лева, конечно, защищает статью Рассадина.[33] Т. е. он не говорит, что она хороша, но справедливо пишет, что печатаются и худшие. Но дело в том, что Рассадин считается «либералистом» и «Юность» читают <…>.
Поэтому резонанс пошлостей Рассадина более опасен.
17 марта. Начал писать о Луначарском (план-заявку), но нет чувства, что из этого что-либо выйдет. <…>
Как всегда в дни внутреннего разброда и хаоса берусь за Герцена. Читаю письма и «С того берега» и некоторые статьи позднего периода. Удивительно: что-то туманится, собирается, скапливается в мыслях, еще без слов, а откроешь Герцена и оказывается, что почти все нужное уже сказано, да не сказано, а отлито в какие-то чудесные и богатые словесные формы, что только диву даешься. Первая мысль: стало быть, все повторяется, раз уже и Герцен об этом говорил, но в том-то и дело, что Герцен о многом говорил «на вырост»: он предвидел и размышлял о будущем, он видел будущее в настоящем. И многое, чего он опасался, увы, сбылось…
В «Огоньке» статья-публикация о Булгакове и отношении к нему Сталина. Все это чистая правда, о которой я знал всегда, но когда рассказывал, ко мне как-то недоверчиво относились. Многим хотелось из этого талантливого, но достаточно мутного человека сделать символ литературной оппозиции тридцатых годов. Но реальная история всегда богаче этих притч, и если уж на кого похож Булгаков, то на написанного им Мольера, мучавшегося от притеснений и покровительствуемого королем.[34]
18 марта. <…> Днем весенний воздух, тает. У меня стала кружиться голова: все-таки с этой диетой я здорово недоедаю.
20 марта. Вчера вечером не слушал радио: ездили смотреть «Братья Карамазовы».[35] Это смело по хватке, очень темпераментно, ритмически напряженно. <…>
Почему-то вдруг стал думать о страннейшем равнодушии А. Блока к гению, который жил рядом с ним – к отцу Любовь Дмитриевны – великому Д. Менделееву.[36] <…>
Это тот тип духовного высокомерья, который особенно неприятен.
21 марта. <…> Думаю, что-то из диеты надо сохранить навсегда. Перешил пуговицы на брюках – падают.
<…> Хочу (пока не потерял) переписать на всякий случай данные о моем давлении, которое измерял Боренблат[37]:
Левая – 160/100
Правая – 170/95
Виски – 92.
Письмо от Юры. Ему понравился замысел о «Брюммеле», который я ему сообщил.[38] Рвется делать скорей. <…> Поздно вечером в Стокгольме чехи побили наших хоккеистов со счетом вполне убедительным: 2:0. Молодцы.[39]
22 марта. <…> Все утро за машинкой. Но не столько пишу, сколько собираю себя, растекшегося от утренней глупой ссоры с Э., от ерунды, о которой невольно думаю, от газет, наполненных мякиной общих слов. Есть еще привычная «канцелярщина» письменного стола: делаю вырезки из газет и журналов, складываю ненужные газеты, пишу письма и вот эти строки. Это все маленькие хитрости, чтобы обмануть себя, будто работаю. Хотя это все и нужно, но так уже давно повелось: занимаюсь этим в пустые дни и часы. Утро обмануло меня: я думал, что день пойдет покойно и производительно. Но нет, и вот собираю себя, чтобы все-таки что-то делать, хотя и нет на это большой надежды.
Начал было писать полемическую статью о Рассадине и бросил. Стоит ли спорить с посредственностью, нахватавшейся ходовых слов и понятий? Сарнов[40] все же покрупнее, хотя тоже малооригинален и раб общих представлений: общих не в смысле «казенных», но принятых в какой-то среде, в каком-то кружке и им самим кажущихся вызовом общепринятому.
23 марта. После обеда неожиданно приехал Толя С.[41], который привез мне от Левы № 1 журнала «Новый мир». <…>
В Москве ощущается дальнейшее самоутверждение «русситов», у которых, видимо, есть какие-то высокие покровители. Благодаря этим покровителям были сняты препоны фильму «Братья Карамазовы». Рассказ о том, как религиозные старушки на него ходят чуть ли не целыми походами. Ощущается также некая приостановка наступления сталинистов. Это, видимо, отражает какие-то споры в политбюро, где оппозицию возглавляет Шелепин, так и страх перед китайской опасностью.[42] Симптомом этого является и напечатание глав Шолохова. (Я так и подумал.) По неподвижной воде идут какие-то пузыри. Это еще не движение, но что-то перед движением.
27 марта. <…> Новые осложнения с Эммой. Устал…
30 марта. День моего рождения. <…> (Строка отточий, после них, очевидно, уже новая лента в машинке. – М. М.)
За несколько часов до моего отъезда – ссора и тяжелейшее объяснение с Эммой.
Не стоит все записывать.
<…> все же уезжаю с горьким сердцем.
2 апр. Еду в Загорянку, впервые после зимы.
4 апр. <…> Обед в ЦДЛ с Левой. Потом подсаживаются Бертенсон и Боборыкин.[43]
Рассказ Бертенсона, как в день моего ареста, когда в театре Ермоловой шла генеральная репетиция «До новых встреч», прибежал взмыленный В. Ф. Пименов[44] и потребовал замазать мою фамилию на афише, прекратить репетицию и пр.
Рассказ Боборыкина о раскопках в биографии Д. Фурманова. Его дружба с Чапаевым – выдумка. И пр.
Вечером у Юры и там ночую. Р. А. Медведев и его рассказы. Но он менее мрачен, чем в прошлый раз.
6 апр. Днем у Н. П. Смирнова[45] <…> Рассказ Н. П. о вызове в органы Храб-ро-вицкого и Бабореко.[46] Хр<абровицкий> болтал, видимо, там лишнее. Хорошо, что я давно прекратил с ним все встречи. Будто бы перестали приходить «Русские новости». <…>
В журнале Москва сняли с работы Женю Ласкину, видимо по антисемитской линии.[47]
9 апр. Вчера приехал в Ленинград за машинкой и «вообще». Меня провожал Лева. <…>
Е. С. Добин[48] прислал мне книжку об Ахматовой с такой, чрезмерно похвальной, надписью: «Дорогому Александру Константиновичу Гладкову, любимому писателю и мыслителю, с сердечными чувствами. Е. Добин. 30 апр. 1969.[49] <…>
Сегодня уеду обратно. <…>
Соскучился ужасно по машинке: целую неделю не садился за нее.
11 апр. Сегодня около полудня приехал с вещами в Загорянку. <…> В комнате было +10. Чудесный солнечный денек. <…>
С помощью электронагревателя нагнал комнатную температуру до плюс 15.
Страстная неделя. Через два дня Пасха. В прошлом году я переехал на неделю раньше и уже не было снега и лезла робкая травка. <…>
Радио здесь слышно лучше, чем в Москве и Ленинграде, но хуже, чем в Комарове.
18 апр. 8 час. утра радио сообщает о том, что вчера Дубчек сменен на посту первого секретаря Ч. Словацкой компартии Г. Гусаком. <…>
19 апр. <…> Умер на днях Д. Бассалыго, старый большевик, легкомысленный, с ветром в голове, человек. Я его ни разу не видел после лагеря, а когда-то приятельствовали.[50]
22 апр. Утром еду в город <…> Говорят, что Твардовский кончает новую поэму с труднопроходимым содержанием.
23 апр. <…> Юра мне сказал, что Алла почти живет у него, и он «решил жениться».[51] Но сказал как-то вопросительно. <…>
Снова состояние неуверенности перед возвращением Эммы.
25 апр. <…> Твардовский предложил изменить редколлегию, введя Дементьева, Симонова и кого-то еще.[52] На это не идут. Настроение в редакции тревожное. № 3 уже печатается.
26 апр. <…> Новомирцы думают, что журнал не будут громить до июньского совещания компартии. По-моему, его вообще не станут громить. Найдут способ уволить главного редактора и перешерстят редколлегию и под той же обложкой, с той же версткой будет выходить нечто прямо противоположное тому «Нов<ому> миру», к которому мы привыкли. Почему этого не сделали до сих пор? Наверно, просто, как говорится, «руки не доходят».
28 апр. В семь утра поймал по какой-то неопознанной станции сообщение, что Де Голль ушел в отставку после неудовлетворительного исхода референдума. <…> Мне жаль его ухода. На фоне общего измельчания политических лидеров он был последней фигурой подлинно исторического масштаба: своеобразной и величественной.
Вчера прилетела Эмма из Будапешта. Поехали обедать к Леве и Люсе[53] и через два часа на машине в Загорянку. <…>
В «Новом мире» плохо. Твардовский дал в набор свою поэму об отце. Это похоже на жест отчаяния.
<…> Книга А. Марченко о лагере в Потьме будет этим летом выпущена в США и Англии. Я читал год назад рукопись, и она мне не понравилась. Наверно, я что-нибудь о ней записал тогда.
1 мая. <…> Эмма спит, уморившись после возни в саду. Через несколько часов она уезжает.
2 мая. Ночь. Только что вернулся, проводив Эмму. <…>
Вечер. Почти весь день разбирал и устанавливал книги. Повесил у себя над тахтой старую книжную полку, которая была еще в Муроме и которая висела у меня над тахтой в московской квартире много лет.
4 мая. Нашел в маминых бумагах программу ученического концерта репетиционного музыкального класса Муромского ОНО в воскресенье 23 марта 1924 года. <…> Я и брат Лева были в числе первых. <…> Летом и осенью этого года мы жили с мамой в Сочи. <…> Лето 1923 года это Озябликово (Арефино – Погост).[54] Замечательное удивительное лето. <…>
С лета 24-го года я читаю почти регулярно газеты – помню, как осенью я следил за делом об убийстве селькора Малиновского. <…>
Весь день разбираю и укладываю книги и папки.
Нашел переписку и фото Шуры С. (см. ниже. – М. М.). Читать не стал, но удивившись, что так много писем, пересчитал их. Всего почти 150 писем и телеграмм. Много. Каждые 4–5 дней послание. Интересно, хранит ли она мои письма? В них могут быть любопытные вещи: хроника Москвы и пр.
8 мая. <…> Сегодня в «Известиях» большой фельетон-статья о А. В. Храб-ровицком и его переписке с неким Сионским.[55] Еще называется ряд имен, из которых я знаю одного. О том что Хр-го «вызывали», мне рассказывал уже Н. П. Смирнов. Они все получали от этого Сионского из Парижа книги.
<…> Нашел еще несколько писем Шуры Смоляровой. Я ошибся, думая, что 150 писем и телеграмм я получил за два года: нет, за год с малым. После лета 1957 г. уже только редкие отдельные письма.
Бытовые и личные письма пока почти все оставил, а неинтересные деловые сожгу.
12 мая. Передо мной лежит № 4 журнала «Простор» с напечатанным «Иегудиилом Хламидой».[56] <…>
21 мая. Странное дело! С утра собираясь в город, я обычно намечаю себе много дел: встреч, звонков – но приехав и едва закончив первое дело, уже думаю, как бы мне скорее удрать обратно на дачу, и больше никому не звоню и ни с кем не вижусь.
Так до сих пор не собрался я к Н. Я. Мандельштам, к Гариным и еще ко многим, куда зван и обещал.
24 мая. <…> Приходится в электричке слышать разговоры о том о сем. Нынешним начальством народ здорово недоволен, потому что плохо с продуктами и все стало дороже. Хрущева тоже вспоминают не добром. Зато Сталина многие хвалят за то, что бывало снижение цен, за выигрыши по займам, за иллюзию величия и силы. Террор и зверства, страх и произвол ему как бы уже забыли: вернее тех, кто ездит в электричках и болтает о разном, это касалось мало. <…>
28 мая. Третьего дня рано утром приехала Эмма. <…>
В ЦДЛ роскошно обедаем, потом, купив фруктов и шеколада,[57] едем к Н. Я. Мандельштам.
Сначала сидим втроем, потом приходит некая искусствоведка Леля, которую я вижу у Н. Я. в первый раз.[58] Между Н. Я. и Шаламовым пробежала черная кошка. Споры о Достоевском и Толстом. <…>
Вчера, пока Эмма на Мосфильме, едем с Юрой к Р. А. М.[59] на ул. Дыбенко (за Речным портом). Накануне он был в горкоме. На его рукопись написал рецензию известный «деятель» Г. Деборин[60], ему угрожают исключением из партии. Он держится достойно и смело. Письмо в Политбюро. <…>
Твардовский не выходит из «штопора». Формально он ушел в отпуск. Говорят, что все-таки все дело в нем и в его воле. Господи, какая это беда – его пьянство! <…>
Рассказы Р. А. М. о полупровокаторской атмосфере вокруг компании Григоренко – Якир. Счет за слежку, посланный Григоренко Андропову.[61]
Все это – плохие шутки.
30 мая. <…> Группа «Хламиды» должна была уже выехать из Ленинграда в Касимов на съемку «натуры».[62]
31 мая. Кашляю с какой-то зеленоватой мокротой. Бррр. Гадость! И температура не проходит. И апатия ко всему.
2 июня. <…> В Союзе <писателей> на бюро критики был дан бой «русситам». «Либералы» на этот раз выступали в союзе с «ортодоксами». Отбивались Кожинов и Чалмаев. Но думаю, что победа эта пиррова.
В «Нов<ом> мире» все то же. Но кажется, что за кулисами что-то происходит. Твардовскому было плохо, но не столько на почве моральных страданий, сколько на почве пьянства. Ему делали укол, и он лежит на московской квартире. <…>
13 июня. Читаю рукопись повести Бориса Ямпольского «Хранить вечно».[63] <…>
Он талантлив, но у него во всех вещах во второй половине ослабевает пружина действия <…>
Надо записать рассказ Евтушенко о том, как он поехал в ресторан в Архангельское с двумя австралийскими делегатами на Совещание и там увидел… нашего парторга Арк. Васильева[64] с двумя молодыми б….ми. Тот был смущен и пошел в атаку. Не подозревая, кто с Евт<ушенко>, Васильев послал одну девицу к их столу и та сказала: – Мы вас не уважаем, Евтушенко, вы флюгер!..
26 июня 1969. <…> Делаю стеллажи и полки на террасах и в нижней комнате. <…>
Мельком встреча с В. Семиным[65],который говорит, что у него в Ростове есть рукопись моего «Пастернака» и он дает ее читать.
Завтра Эмма должна приехать сюда, а послезавтра мы идем смотреть в театре Сатиры «Женитьбу Фигаро». А еще через 4 дня БДТ и Эмма уезжают. А потом, наверно, мне надо будет ехать в Ленинград. Вот так и пройдет пол-лета.
26 июня 1969. <…> Записать рассказ А. П. Ст<арости>на о болезненном тщеславии Штока.[70] Тщеславие и зависть – съедают его: это как рак. <…>
Собственно и у Арбузова то же, но у них разные ставки в этой игре тще-славия. А был он раньше легким, веселым, дружелюбным человеком. За это его и любили. Но этот «стиль» им потерян.
29 июня. Вчера смотрели «Женитьбу Фигаро» в театре Сатиры. Я в первый раз в новом помещении театра, которое мне нравится. Постановка Плучека блестяща. Давно я уже не получал такого полного удовольствия в театре. Хорошо играют молодой Миронов и Гафт (Фигаро и Граф).[66] Эмма тоже в восторге. Потом ночью с поездом 23. 22 вернулись на дачу. <…>
Завтра Эмма возвращается в Ленинград, а сейчас с упоением возится в саду. <…>
Когда был на ул. Грицевец, нашел свою старую записную книжку с записями об августе 46-го года (постановление о Зощенко и Ахматовой), сдержанными, но красноречивыми <…>
1 июля. <…> В ЦДЛ продают абонементы на просмотры кинофестиваля. Я решил не брать: не люблю этот ажиотаж. Прохладные, ветреные дни, но с солнцем. В Загорянке начали расширять платформу для постройки нового станционного помещения вместо старого деревянного. Почему-то жаль. <…>
Глупо раздраженное письмо В. с рассказом о неудачах и нелепыми обидами. Меня оно сердит.[67] <…>
Сегодня состоялось в Англии провозглашение принца Чарльза Принцем Уэлльским.
3 июля. <…> Под вечер еду в город. У Ц. И. Приходит Кацева.[68] <…>
Окончание воспоминаний должно быть в 6 номере «Нов<ого> мира», но выход его под вопросом, ибо в нем стоит поэма Твардовского об отце. Слух, что Воронков[69] сказал кому-то, что «Нов<ый> мир» надо оставить в покое.[70] Взял у Ц. И. № 4 и, поехав ночевать на ул. Грицевец, полночи читаю в нем письма Цветаевой. В этом же номере и статья Дементьева против Чалмаева и «русситов»[71] и острая заметка о новой книге В. Бокова «Алевтина».[72] В ней же рецензия Левы на книгу Паустовского, довольно вялая. <…>
Еще анекдот (и тоже, кажется, из действительности). В Праге на главную площадь неизвестные злоумышленники выпустили огромную гусыню, обвязанную лентой с черной надписью: «Мой брат – дурак» (намек – Гусак). Собралась толпа, все стали хохотать, полиция начала ловить гусыню, толпа и шум увеличились: словом, пока гусыню изловили, веселье было большое. <…>
Хозяин Союза сейчас фактически Г. Марков. Федин возглавляет его номинально. И вокруг Маркова целая свора: Михалков, Сартаков, Соболев и им подобные.
4 июля. <…> Работа не идет. Растренирован. Встаю очень рано. Не сплю чуть ли не с пяти. Поэтому во второй половине вечера клюю носом. Надо бы спать днем час-полтора, да нет такой привычки.
5 июля. <…> Лева ничего не делает, кроме отзывов на стихи – самотек в «Н<овом> м<ире>» и возни вокруг литер<атурного> наследства Паустовского. Спор с ним: какой традиции следовал К. Г. Я сомневаюсь, что это традиция «большой» русской литературы: она вся психологична и исследовательски глубока, и драматична, а он украшатель. Наверно, через некоторое время сам Лева будет утверждать то же, забыв про наш спор. <…>
Кацева рассказывает, что Сучков, пробивший в свое время издание Кафки и «Иосифа и его братьев», сейчас «пробил» двухтомник Гамсуна и однотомник А. Камю.[73] В предисловиях к этим изданиям Сучков с высоты марксистско-ленинского мировоззрения судит и корит этих авторов, но дело сделано, книги вышли и их читают. А предисловия читают весьма немногие.
С тех пор, как Юра <Трифонов> живет на даче, почти не вижу его. Он бывает в Москве в другие дни, чем я.
6 июля. <…> Теплый, тихий, упоительно нежный вечер.
Долго сижу с трубкой в саду.
Перед сном разбираю папку со старыми стихами. Многое почти нравится. Давно уже не пишу стихов. Это явный убыток для жизни сердца.
Иногда хочется привести их в порядок…
А зачем? Пусть их разбирает Лева Левицкий, когда помру.[74]
7 июля. Жаркий день. В тени 24 градуса. Сижу на даче.
Читал 7‑й том Кони.[75]Он, конечно, всегда был в восторге от собственной персоны, да, надо признать, было чем любоваться. Какая ясность правил жизни, сколько выдержки и того самоуважения, которое отражение уважения других. <…>
И еще – весь день ждал.
Это рецидив мальчишества, или опыт, который я ставлю, чтобы убедиться, что оно еще есть во мне. А зачем мне сие, если по правде?
(Строка отточий. – М. М.)
Дождался.
8 июля. <…> Вчера открылся Кинофестиваль. То, что на него выставлены «Братья Карамазовы» и школьный фильм Ростоцкого (я его не видел, но все хвалят)[76], показывает страстное желание зацепиться за премии и трезвое понимание, что агитпропгигантами типа «Освобождение Европы»[77], фильмом о Ленине или фильмом Райзмана[78] премии не заработать. Т. е. «генеральная линия» обанкротилась. И на первое место вышли фильмы, с которыми никто не считался всерьез, когда их запускали. Но это вряд ли кого-то чему-то научит. Киночиновники получают зарплату не за успехи, а за каждодневную демагогию, за будничное рвение и послушание другим чиновникам, которые сидят в домах на Старой площади. «Рублева»[79] однако тоже не решились выставить, несмотря на несомненность успеха: это было бы внутриведомственным фиаско каких-то чиновников, хотя фильм печатно не обсуждался и не осуждался.
10 июля. Пишу это в Ленинграде, на ул. 3-го Интернационала. Дорога была ужасна: в купэ было невыносимо жарко, почти не спал. Вчера в Москве было около 30 градусов. <…>
Перед отъездом на дачу приезжал Лева. Он рассказал, что третьего дня повесился кино– и театральный критик Борис Медведев, муж М. Туровской. В чем дело, еще неясно, вспоминают только, что он часто жаловался на «тоску».
Странное письмо от А. Н. Ивановой, матери Алексея Петровича Иванова, бывшего моего лагерного «друга», с которым я ни разу не встретился после освобождения.[80] Она пишет о какой-то «просьбе» ко мне и просит назначить ей время для приезда в Загорянку. Не могу догадаться, в чем дело.
В «Новом мире» положение вроде бы стабилизировалось. Надолго ли? Стихи Твардовского об отце вынуты из 6-го номера. Разговор Кондратовича с цензором Романовым, который шипит, скользит и вьется.[81]
Номера 4 и 5 довольно удачны в целом. Мне совершенно не понравились рассказы Фазиля Искандера, от которых был будто бы в восторге Твардовский. Первый – о ловле форели – рабское подражание Хемингуею <так!>, вплоть до стилевого обезьянничанья. Второй совершенно бессодержателен. Третий тоже, да еще вдобавок претенциозен. Это лжелитература, позерство, передразнивание старших. А автор ходит в любимцах у журнала. <…>
Будто бы Федин сказал кому-то, что на Политбюро было решено оставить пока «Нов<ый> мир» в покое.
11 июля. Был на Ленфильме. <…> Материал «Хламиды», снятый в Касимове, гораздо слабее прежнего. Кочетков еще больше позирует.[82] Все снято в лоб, прямолинейно. Лебедев вставил новые отсебятины.
<…> Папирусное судно «Ра»[83], находясь в центре Атлантического океана, борется с сильнейшими штормами. К ним уже идет спасательное (на всякий случай) судно. Занятная параллель – эта экспедиция и американский снаряд на Луну, который должен отправиться уже через 4 дня. Сразу два путешествия: в прошлое и в будущее.
15 июля. <…> Запуск нашего автоматического «Лунника» газеты рассматривают как средство отвлечь внимание от американской экспедиции. Сальвадор напал на Гондурас. Свара эта началась из-за свалки на футбольном матче (!). Рецензия на мемуары Жукова: «Он мог, как никто, рассказать всю правду о вой-не, и предпочел этого не делать».[84]








