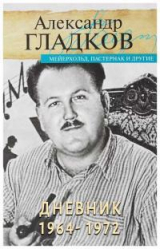
Текст книги "Дневник"
Автор книги: Александр Гладков
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 41 страниц)
4 фев. Вчера дневным поездом приехал из Л-а и остановился у Левы[38]. <…>
Пригласил Леву и Люсю пообедать в Арагви. Ненужная встреча у Елисеева с Анной Арбузовой[39]. Она говорит, что Алексей кончил переделки «Бессмертного» и просит, чтобы я ему позвонил.
10 фев. В понед-к 8-го приехал с Оттенами в Тарусу[40]. Вернулся сегодня. <…> В Тарусе все время читал законченную рукопись книги Н. Я. Много нового, все перестроено, умно, зло, захватывающе интересно. Листов 20, наверно. Много говорили с ней о разном. Насчет дачи (Загорянки) она еще ничего не решила: планы о кооперативной квартире в Москве.
Таруса ослепительно красивая, искрящаяся февральскими сугробами. <…>
И Оттены такие же, только постарели и они оба, и Ольга Афанасьевна.
11 фев. Утром позвонил Эренбургу и он пригласил меня вечером прийти, хотя завтра утром он уезжает с Л. М. в Париж [рассказы Эренбурга: истории про Сталина и – Кагановича (с газетой), Хрущева, Литвинова…] О том, как Литвинов в 37-м году и в начале 50-х гг. спал с револьвером под подушкой, чтобы не даться живым, если за ним придут[41]. <…>
12 фев. Заболеваю гриппом. Прочитал «Бессмертного». Ничего, довольно благородно… Отвез машинистке «Встречи с Пастернаком». Хожу с температурой, а отлежаться негде: у Левы все время Люся и днем лежать неловко.
13 фев. Надо бы записать (как о вехе – для себя), как я в этот раз уезжал из Л-да – о ссоре с Эммой в метро из-за автобуса, с ее фразой о том что «надоело» и моя вспышка тут же. <…>
Приехал в Москву с непогасшей обидой на что-то (история с бессонной ночью и эти проводы и еще ряд мелочей) и очень уставший от мыслей об этом.
Думалось: надо, надо заняться собой, не жить ожиданием какой-то жизни, которая вот-вот настанет (а может и не настать), а жить той жизнью, кот. есть реально в настоящем, чтобы ощущать ее и чтобы она не просыпалась между пальцев, как песок.
Перебирал свои ошибки: запущенность матер. дел, неудачи, плохо одет, совсем перестал гнаться за «форсом» (а этого нельзя!), пренебреженье честолюбием и равнодушие к успеху. Мне-то и в самом деле многое из этого ряда безразлично, но для нее – это имеет цену и не считаться с этим глупо и непростительно.
А может в чем-то она и права и безусловно права в своем насквозь женском чувстве ко мне (что так «нельзя»). И все же больше всего ворочалось во мне с бока на бок какая-то обида. И еще накопилась усталость и жажда одиночества вплоть до того, что я минутами готов был за него заплатить любой ценой (даже той, о которой потом могу пожалеть). <…>
Дошло до того, что Лева, в сущности ничего не зная, стал советовать мне снять комнату в Москве и не возвращаться сейчас в Л-д[42].
Так было в первые дни после приезда, но сейчас все стало уже меняться – и попросту я стал скучать по Эмме. <…>
Записываю это все, потому что, пожалуй, такого во мне кризиса еще не было за все время. Если бы писал об этом в первые дни, то написал бы горячее и резче, но теперь могу уже описывать это эпично (что и лучше). Но все же из песни слова не выкинуть – что было – то было.
14 фев. У меня сильнейший грипп, как у многих в Москве. <…>
18 фев. <…> Умирает от рака Ф. Вигдорова.
Гарин рассказал страшные подробности о смерти Барнета[43], повесившегося в Риге в ванной гостиничного номера. Его уволил Сурин с Мосфильма, он поехал работать в Ригу, но был оскорблен и тосковал. Завещал похоронить себя в Риге.
Кто бы мог подумать, что этот великолепный и удачливый человек так умрет?
На днях в «Литер. России» публикация Поргугал.<овым>[44] [далее строка, дописанная карандашом, неразборчиво: ] стихов <некой> школьницы подбор не очень удачен.
19 фев. [письмо от Эммы: она сняла для АКГ комнату у Финляндского вокзала]
20 фев. <…> Лева зовет ехать с ним в Лен-д через пять дней. Он хочет задержаться на юбилейный концерт «Нового мира».
Люся живет у него почти все время и он обоими ногами въезжает в брак и семейную жизнь. <…>
Он добрый и хороший малый, но очень уж несамостоятелен. Все его рассуждения – отраженья чьих-то мнений: то В. Некрасова, то Дороша[45], то моих…
26 фев. [приехал в Л-д] <…>
Сегодня смотрел снятую Эммой комнату на Лесном пр-те. <…>
Ладно, поживу полтора-два месяца, а там видно будет. 40 р. в месяц. <…>
Встретил тут в Лавке писат. Л. Я. Гинзбург, которая шепотом сказала мне, что она прочитала мою р-сь («Встречи с П.») и она ей очень понравилась, что отлично написана, но с чем-то она не согласна, во второстепенном. Она едет на месяц в Комарово.
Комнату эту нашли Максимовы (Дмитр. Евг.).
Мы хотели ехать вместе с Левой, но он задержался из-за перенесенного юбилейного банкета «Нового мира» (с 25 на 2-ое – из-за запоя Твардовского).
27 фев. Целый день разбираю бумаги, готовясь к работе. <…>
Эмма играет «Три сестры». Ночью поеду ее встречать.
3 марта. <…>
Письмо от Н. Я. У ее брата Е. Я. инфаркт и она просит подождать с решением о Загорянке[46]. Она уже в Москве.
4 мар. В газетах речь Шолохова при открытии съезда писателей. <…> Шолохов мелок и пуст.
5 марта. Приехал Лева. По его словам, банкет «Н[ового] мира» прошел бледно, но и без пьяных скандалов. Домбровский задирал Б. Яковлева[47], Твардовский сидел, как монумент. Всего два литер. журнала прислали приветствия: «Дружба народов» и «Дон». Сообщение об этом вызвало смех. Вся коммунист. пресса на западе в повышенных тонах отмечает юбилей, да и вся мировая пресса тоже. Номер 2 выйдет в конце будущей недели.
6 марта. <…>
Опять глупые разговоры о готовящемся сговоре с китайцами. <…> Китайцы прямо говорят, что «хрущевизм» еще остался в политике СССР.
Тяжелый разговор с Эммой. Примиренье. У Левы. У него те же дела с Люсей.
15 мар. Пишу это на машинке «Олимпия», которую мне предлагают купить…
[строка отточий]
Не могу сказать, чтобы я был в восторге от машинки, но м. б. я слишком привык к своей старенькой Эрике. Вот бы достать новую Эрику.
[строка отточий]
Перешел снова на Эрику. Шрифт тот же, но насколько моя машинка легче, послушнее, со всеми ее изъянами: выбитым валом, проскакиванием каретки и пр.
16 мар. <…> Письмо от Н. Я. Пишет, что не может писать подробно, тк. полдня проводит в больнице и просит писать.
В «Лит. газете» хвалебная, но неумная статья Ахматовой о книге Герштейн[48].
17 мар. [о том, как М. Шагинян обнаружила деда и бабку Ленина[49]]
Второй день не еду обедать к Э. Скажу, что болела голова, а по правде – не хочется. Есть уже рутина мелких препирательств, вернее – ее колкостей и моей добродушной самообороны. Иногда это надоедает, хотя, впрочем, это ничего не значит.
26 марта. [приехал из Москвы] одну ночь ночевал у Левы на собственной раскладушке, привезенной в прошлом году из Загорянки, потом с Э. и ночь без нее у Оттенов. Сначала занял денег у Левы, потом перезанял у Сережи Ларина[50] и отдал Леве. <…> В первый вечер были у Над. Як. (в квартире Шкловских). Там еще польский критик Ричард (фамилию не расслышал)[51], выпустивший книгу о Достоевском и переводящий Мандельштама, и брат Юли Живовой[52]. На другой день в кино. Отличный итальянский фильм «Бум». <…> брожу по книжным магазинам, покупаю «Дневник» Ж. Ренара[53] и Экзюпери и «Особняк» Фолкнера. <…>
Сегодня целый день на Ленфильме. <…> К ночи я валюсь с ног от усталости: в вагоне почти не спал.
<…> Москва встречает космонавтов[54]. <…> В окно вагона увидел, что в Подмосковьи еще полно снега и не поехал на дачу. Потерял телефонную книжку и мучался без нее. Москва суматошна, мила, понятна.
27 марта. <…> Умерла Е. Пешкова[55]. Ей было 88 лет.
28 марта. Умер Д. Заславский[56], старый газетный волк. В некрологе привычные слова об «обаянии», «честности» и пр., но мы-то знаем, что это он написал статью «О литературном сорняке» – о Б. Л. Пастернаке, послужившую сигналом к исключению его из ССП. Этого мало: Блантер[57] мне рассказывал, что именно он и Минц (историк)[58] были автор<ами> провокационного, погромного воззвания, как бы от имени «еврейской интеллигенции», которое за десятками подписей должно было появиться в дни дела «врачей-отравителей» в конце 52 года или в самом начале 53-го и опубликованию которого помешала только смерть Сталина. Блантер говорит, что это должно было быть прямым сигналом к погромам. Он тоже подписал его из малодушия (о чем не стыдился рассказывать), как он говорил, «с ужасом и с скорбью в сердце». Отказались подписать только Эренбург, герой С. Союза Драгунский и еще кто-то. Заславский был конечно провокатором и подлецом высшей марки. Главного о нем современники еще не знают, но когда-нибудь и это всплывет, как в конце концов всплывает все.
29 марта. <…>
Недавно узнал из «Сов. кино», что «Гусарская баллада» находится в числе 10–15 фильмов, кот. просмотрело более 30 млн. человек. Это значит, что каждый 6-й человек (сбросим со счета маленьких детей и стариков) видел в кино мою пьесу. <…> Узнать это было бы приятно маме.
Часто и много думаю о ней. Завтра день моего рождения. Решил – буду сидеть у себя за машинкой.
В № 3 «Знамени» отличная статья Палиевского о Фолкнере[59]. <…> В связи с этим снова думаю о Леве [Левицком]. Боюсь, он пропадет и ничего толком не сделает. <…>
Я люблю его главным образом за то, что он очень добрый человек. Я все больше ценю это свойство.
Последние годы, несмотря на разницу лет, мы очень дружили. Пожалуй, нас резко сблизили почти одновременные смерти матерей.
31 марта. <…>
День моего рождения. <…>
Читаю новое издание дневника Ж. Ренара. Много нового. Долгие годы эта книга была моей любимейшей и я знал ее почти наизусть.
3 апреля. Вчера мне Ленфильм заплатил деньги. Чувствую неловкость, словно я их не заработал трижды. <…> 500 р. дал Эмме в «мебельный фонд», купил ботинки и 4 трусов. <…>
Сижу и калькулирую: долги, платежи, покупки…
<…> Прочитал 5 рассказов В. Шаламова из его колымского цикла: «Заговор юристов», «Сгущенное молоко», «Заклинатель змей», «Одиночный замер» и «Посылка» (в рукописи). Всего листа два. Кажется, это далеко не все из написанного в этом роде автором. Очень хорошо![60]
4 апр. <…>
О рассказах Шаламова. Мне читать их интереснее, чем все другое о лагерях, не исключая и «Ивана Денисовича». Они не имеют претензии на «художественность» и это-то и делает их при уме и таланте автора, подлинного поэта, по-настоящему художественными. Читал их с волнением: в этих местах пробыл 8 лет брат Лева. Упоминается и «Спорный»[61], где он пробыл лет шесть. Страшная правда о репрессиях, непосильном труде, голоде и цинге, об издевательствах «друзей народа» – блатных, о мелком бесчеловечном гоноре начальства, о самочинных расстрелах, о новых провокационных делах и о всем прочем…
Как это важно, что выжили, нашлись люди, пишущие об этом.
Я был в лагерях гораздо более легких, хотя и мне было нелегко: но при разветвленной кровеносной системе внутри и меж лагерных этапов, при долгом сидении на Лубянке с «повторниками» я если не все, то многое знал из этого. Но одно дело знать, другое – читать об этом черным по белому.
Кажется, это только часть «колымской прозы» Шаламова[62]. Много говорят также о мемуарах Гинзбург[63], матери Василия Аксенова. Но я еще их не читал.
Какую бы высоту набрала наша литература, если бы печаталось в с е (разумеется, правдивое и талантливое), а не только то, что окрашено слащавым идиллизмом. Не знаю, знаком ли был Шаламов с братом? С Португаловым[64] они встречались там на Колыме, Валька рассказывал об этом.
5 апр. Вчера вечером были с А. Б. Никр[итин]ой у Берковских[65]. Необычайное гостеприимство. Он умница и несколько капризный и тиранический говорун. <…>
Сперва он и она пышно хвалят меня за «Встречи с П.».
Б-ий: – Это можно было бы назвать «Мой роман с Пастернаком». <…> Вы надавали по щекам литературной братии, и больше всех Федину и Леонову. <…> Согласен с разбором и оценкой романа, но за плохим романом Пастернака (это Вы доказали прекрасно) есть еще иная скрытая в нем философская книга, вернее лирико-философская, но ее нужно суметь прочесть. (Она добавляет: – Должна сказать, что Вы мне объяснили загадку романа, почему он так написан.)… Б-ий: <…> Должен добавить, что и второй герой «романа» тоже очень обаятелен и интересен. Это старинный композиционный прием: писать о себе, описывая другого. Им почти не пользуются, а он таит огромные возможности. Я даже считаю, что второй герой этого маленького романа, автор, – написан так экономно и пластично, что он везде кажется достойным своего великого собеседника, а это редкость. Тут найдена удивительная мера – говори Вы о себе меньше, чего-то бы не хватало, говори больше – могло бы показаться нескромностью, впрочем, все талантливое всегда нескромно на первый взгляд…
Это я записал м. б. треть того, что Наум Яковл. и Ел. Ал-на говорили. Эмма говорит, что я слушал это с хмурым лицом почему-то.
Письмо от Левы. <…> Новомирцы рады нагоняю, полученному «Октябрем» в «Правде».
15 апр. Вчера вернулся из Москвы, где пробыл с 6-го.
Вечером с Эммой на «10 дней, которые потрясли мир» – гастроли молодого московского театра п/р [под руководством] Ю. Любимова. Это талантливо, ярко, смело, хаотично, порой безвкусно, порой тонко. Старые обветшавшие уже к концу 20-х гг. приемы таких спектаклей, как «Д. Е.»[66] Мейерхольда, Синей Блузы и т. п. возрождены, оживлены, осовременены и, перемешанные с отдельными чертами театра Брехта, покоряют битком набитый зал. Есть хорошее озорство. <…> Сложно спародированный Вертинский поет полный текст песни о расстрелянных юнкерах, за которую в 30-х годах давали пять лет, как в аптеке. <…>
Что было в Москве? Деньги, покупки, маг. «Богатырь», Вуап[67], машинистка Нат. Ив-на, Лева, Над. Як-на, поездки в Загорянку. Сначала жил у Оттенов (пока их не было), потом у Левы. Обед в Арагви с Над. Як-ой и Нат. Ив. [Столяровой, секретарем Эренбурга]
<…> Но пожалуй, самое главное – чтение рук. Евг. Гинзбург (матери Вас. Аксенова) «Крутой маршрут» – воспоминания о 37-м годе, тюрьме и лагере. Это превосходно, умно, точно, честно. Еще одна из больших книг той «второй литературы», которая существует еще пока в рукописном виде. Снова перечитал и книгу Над. Яковл. – тоже замечательную, из того же разряда[68].
<…> Над. Як-на все колеблется в вопросе о житье в Загорянке. 12-го ездил туда с нею. Еще много снега.
19 апр. <…>
Сегодня приходил мастер, которому я отдал свою старенькую, верную Эрику. Надо сменить вал, совсем избитый, и сделать еще кое-что. Пишу на новой Олимпии, но она не так легка, как Эрика.
22 апр. <…>
Письмо от Над. Як. Она объясняет отказ от Загорянки плохим характером жены Евг. Як. Фрадкиной, капризной и взбалмошной бабы. Письмо грустное и словно оправдывающееся. Пишет, что ей «больше ничего не хочется»[69]. <…>
Умер Астангов[70]. Я был с ним знаком… В конце пятидесятых годов он женился на Алле Потасосовой, странной моей подруге в 40-м году. Я был ее первым мужчиной и первой любовью. Можно сказать, что вся «Давным-давно» написана на ее глазах.
23 апр. <…> Читаю Стендаля о Наполеоне…[71] Историзм Стендаля мне очень близок (может, потому, что я пристально читал его в свои решающие годы внутреннего формирования (1936-40 гг.) и у него есть совпадения с Герценом. Точное сочетание психологии и волевых движений истории, истории души и мускулатуры века. <…>
Три дня молча бунтовал против Эммы и рад, что сдержался и не объяснялся. Но она конечно догадалась и м. б. что-то поняла. Так оно и лучше, впрочем.
24 апр. <…>
Стали часто и мелко ссориться с Э. Мне кажется, что виноват не я, но как взвесить тут вину и как отделить повод от причины?
30 апр. Обед с Эммой в Европейской, потом смотрим «Пепел и алмаз»[72]. Великолепный фильм, умный, горький, мастерски, м. б. даже слишком мастерски и умело, почти щегольски сделанный.
1 мая <…> [АКГ излагает положения рукописи статьи Роже Гароди[73] – с полемикой против «Иностранной литературы»] Он протестует против характера критики его книги «О реализме без берегов» Сучковым[74]. <…>
2 мая <…>
Письмо от Над. Як-ны. Среди прочего пишет: «Максимов очень хвалит вашу прозу о Б. Л. П. Я уверена, что она хороша, по тем моментам разговоров, которые вы мне передавали. Они "цитатны”…»[75].
Сколько же всего человек прочитали мои «Встречи с П.»?
3 мая <…>
Какие еще слухи?
Будто бы кочетовская банда написала донос на Твардовского и «Новый мир». Их принял в ЦК Егорычев[76] (или в МК) и сказал, что они правы, но ЦК вмешиваться не будет – спорьте сами на страницах журналов друг с другом.
Вечером у Дара. Он кончает книгу о Циолковском и задумал повесть о поэте. Ассоциации с О. Э. М[андельштамом]. Просит помочь прочесть воспоминания Н. Я. Расспрашивал о нем, что я знаю.
5 мая <…>
Москва полна разговорами о будто бы готовящейся «гальванизации» – так называют ожидающееся признание каких-то заслуг Сталина и прекращение кампании его дальнейших разоблачений. Я мало верю в это.
9 мая <…>
В Загорянке очень хорошо и начали щелкать соловьи.
Видимо, «гальванизация» не состоялась, хотя во вчерашнем докладе Брежнева. <…>
13 мая <…> Сад зеленеет. Сейчас еду в город. Вечером в МГУ вечер памяти Мандельштама и я обещал Н. Я. быть на нем.
14 мая. Вечер вчера состоялся, хотя и была сделана попытка его отменить. Его организовали студенты Мех. Математического ф-та в аудитории на 16-м этаже нового здания университета.
Я в унив-те впервые. Мне нравится.
Приехали вместе с Н. Я. и Левой (мы заезжали за ней). Аудитория битком набита и масса непрошенных у входа. Председательствует И. Г. Эренбург, почти дряхлый и с розовенькими щеками. Он говорит умно, сдержанно и точно, на той крайней границе между цензурным и нецензурным, которую он чувствует как никто. Показывает № 4 алмаатинского журнала «Простор», где напечатан целый цикл Мандельштама и в том числе знаменитый «Волк»[77], которого в прошлом году запретили в «Москве». Еще говорят: Н. Чуковский (поверхностно и почти пошловато), Н. Л. Степанов (вяло ораторски, но умно, хотя и академично)[78], поэт Арсений Тарковский и Варлам Шаламов, который читает свой колымский рассказ «Смерть поэта» и исступленно, весь раскачиваясь и дергаясь, но отлично говорит[79]. И. Г. объявляет о присутствии Н. Я. Ей устраивают овацию и все встают. Читают стихи О. Э. Лучше всех студент Борисов[80].
Из знакомых были: Мелетинский с женой, С. Маркиш, Коля Панченко с Варей [Шкловской], Юля Живова, Ричард Пшибельский[81] и др. После едем к Шкловским. Я покупаю водку «Горный дубняк»[82] (другой не было), колбасы, апельсины. Устраиваем пир. Н. Я. возбуждена и счастлива. Сидим долго. Коля читает стихи. Еду ночевать к Леве. Н. Я. по телефону благодарит И. Г. Странно, он с женой Л. М. на «вы», а она с ним «на ты». Слышать это удивительно почему-то. <…>
Рад за Н. Я. Она кажется осенью получает кооперативную квартиру.
16 мая. Говорят, что Св[етлана] Сталина написала воспоминания об отце. <…> Эту рукопись пока читали немногие и достать ее трудно.
[о встрече со старой знакомой, которая обозначена как Ш. С.] Муж ее врач, она несчастлива с ним и только рада, что у нее маленькая девочка.
17 мая. Днем на улице Грицевец[83]. После этих двух встреч – сердце мое в лохмотьях и хочется скорей в Ленинград.
<…> Твардовского кладут в Кремлевскую больницу с эртеритом[84] – заболеванием ноги на почве отравления алкоголем и никотином. <…>
Вечером еду в Ленинград и через два дня в Комарово.
20 мая. И вот снова я в Комарове. <…>
Приехал на машине за час до обеда. <…> Молодой писатель Вахтин[85]. <…> Буду здесь до 10 июня, а там видно будет. <…>
Читаю полученный в Москве перед самым отъездом № 4 «Нового мира». Окончание мемуаров И. Г. [Эренбурга] разочаровывает. Он делает вид, что «не понимает до конца» Сталина, хотя пишет, что не любил его и боялся. Но что значит «до конца»: не знает психиатрического диагноза, что ли? «Дела» Сталина ясны и мотивы тоже: неясны подробности отдельных злодеяний и их техника, а также не уяснены пропорции сложного сочетания лжи, демагогии, мифотворчества и реальной политики, хотя зловещий контрапункт этой исторической композиции уже не вызывает сомнения. И. Г. сознательно отступает перед задачей нарисовать образ Сталина. Окончанием мемуаров будут одинаково недовольны и сталинисты, и леваки и И. Г. будут бранить со всех сторон.
21 мая. Второй день пишу часов по шести, или больше. Беру, как обычно, разбег дневником, письмами, разными записями, полуредактированием набросанного и перебелкой кое-каких черновиков.
Снова болит правое плечо или спина или что-то под лопаткой – сам не разберу.
24 мая 1965. <…>
Я все дни вожусь с тем, что свожу вместе и переписываю набросанные на листочках заметки о том и сем, параллельные дневнику, но не входящие в его состав. Уже переписал за эти пять дней 45 страниц, но это еще далеко не все. Никакого литературного расчета в этом нет: просто инстинкт упорядочения, вроде уборки комнаты. Назвал это так: «Записки ни о чем»…
26 мая. Приехала вчера В. Ф. Панова и села рядом со мной за стол. Д. Я. [Дар] тоже приедет, но с 13-го. <…> Очень дружески встретились.
Она снова пишет какой-то сценарий, проклиная это дело: – Когда утром, проснувшись, думаю, что надо опять писать сценарий, мне хочется умереть…
У нее тоже неприятности с ее премьерой в т-ре Комиссаржевской. <…>
Как мне здесь хорошо работать! Давно уже нигде так не было. С упоением сижу по 10–12 часов за машинкой.
<…> Здесь многие из литературного мира так хорошо ко мне относятся, что иногда я теряюсь: совсем не то, что в эгоистической среде моих бывших московских приятелей. <…>
В Ленинграде идет «Возвращенная музыка»[86], надо ждать вони в прессе. Это противно, но я вытерплю.
[о «Железной двери»[87] В. Катаева: ] Написано профессионально очень хорошо, но это все как-то ниже мозговой части головы. Есть наивности и умиленность, но все пейзажи и натюр – морты и описания сделаны рукой мастера.
28 мая. Смотрел вчера утром «Римскую историю» Л. Зорина в БДТ[88]. В общем на спектакль есть три точки зрения: обкомовцы и цензура считают, что это «антипартийный» и почти «антисоветский» спектакль, либеральная интеллигенция в восторге, аплодирует всем хлесткими фразочкам, а я лично – третья точка зрения, кажется, довольно одинокая – считаю спектакль хотя и полезным, но по большому счету плоским, неумным, поверхностным и в чем-то даже трусливо неблагородным (образ императора трусливо слеплен с Хрущева)[89]. К тому же это растянуто, болтливо, скучно и если бы не кукиш начальству, правда, тут уже не в кармане, а изрядно из кармана высунутый, и несколько забавных кусочков, то смотрел бы это с трудом. «Идеи» пьесы – это азбучные истины, прописи, которые как-то неловко слушать: стихи надо писать искренне, не надо льстить властям, счастье не в почестях [и т. п.]. И это всерьез звучит на сцене лучшего театра страны в городе Пушкина и Блока, Белинского и Владимира Соловьева! <…> После было нечто вроде обсуждения в кабинете директора. Меня Дина Шварц[90] просила остаться, но я ушел, так как торопился к Максимову и хотел вернуться до ужина в Комарово. Как я уже писал, обкомовцы в гневе, лит не дал разрешения, а Богданов[91] сказал, что это «подрывает все устои» или что-то в этом духе. Товстоногов держался мужественно и сказал Богданову, что его не удивляет его позиция и что спектакль как раз направлен против того, что сейчас движет словами Богданова. В Москве пьесе не дали «лита» (разрешения), так как вахтанговцы отложили премьеру до осени, и будто бы сюда дана команда тоже не разрешать. Думаю, что все-таки этим не кончится и спектакль пойдет. Не те времена. Снятие пьесы – скандал больший, чем ее разрешение. Выбросят несколько фраз и этим дело ограничится. И при всей своей пошловатости и поверхностности, он сделает какое-то полезное дело, ибо поколеблет авторитет «бонз». <…>
<…> у меня Кирилл Косцинский[92]. В его картотеке 3500 слов блатного языка. Он хочет сделать словарь. Сообщаю ему кое-что, что он не знает, из этой области.
29 мая. Товстоногову предложено много текстовых исправлений. <…>
Читаю целый день Степуна (2-й том мемуаров)[93]. Собственно, читаю вторично, но в первый раз я читал в библиотеке, торопясь, а сейчас медленно. Это отличная книга и в ней много верного, особенно в описании «февраля». «Октябрь» описан хуже, пристрастнее и не понят Ленин, но все о лете 17-го года блестяще и умно. В исходной посылке философского порядка – о религиозном чувстве «правды», живущей в русском мужике, – конечно все надумано и грубо ошибочно. Это философская литературщина, сбившая с толку много поколений, начиная от славянофилов 40-х годов до Степуна и других. Если бы это было так, революция шла бы по иному. Я был с русским народом на дне беды почти шесть лет и ничего похожего не увидел, а уж казалось бы, где не высказаться этим началам? «Народ-богоносец» – эта худшая интеллигентская выдумка, приведшая ко многим бедам.
Не записал о разговоре с Н. Я. Берковским о фрагменте моих восп-й о М[ейерхоль]де (я послал ему оттиск из «Москвы театральной»). Ему понравилось и он говорил, что мемуары могут быть разных жанров и что это мемуары-«исследование».
1 июня. Полтора дня пробыла здесь Эмма и уехала вчера вечером. Много гуляли.
Письма от Левы и от Н. Я.
Н. Я. пишет, что устала и больна. Собирается жить в Верее с братом с июля. Будто бы 5 докторов-филологов, бывших на вечере 13-го, были куда-то вызваны и получили нагоняй за то, что они «не дали отпора». <…>
Еще говорят, что ректор Московского ун-та где-то заявил, что существование журнала «Нов. мир» и его линии ликвидирует все, что делает ун-т в смысле коммунист. воспитания молодежи[94].
Ахматова (по словам Н. Я.) сидит в Москве и ждет визы в Англию.
3 июня. Американцы запустили спутник с двумя космонавтами. <…>
Послал статьи М-а в «Лит. Россию».
4 июня. Газеты каждый день пишут, что должно потеплеть, но все не теплеет. Поздняя холодная весна. И все же хорошо. Ходил днем к морю и долго сидел, глядя на легкие волны.
Один из амер. космонавтов Уатт вылез из кабины и 20 минут был в космосе. Наши газеты пишут об этом сквозь зубы. Нету широты душевной у нашего официозного патриотизма.
Под вечер приехал из Зеленогорска Кирилл К[осцинский] и позвал меня и Т. Ю. Хмельницкую[95] к себе. Ему сегодня 50 лет. Поехали. Там еще Б. Вахтин с красивой женой и какие-то знакомые. Показывал мне два деревянных чемодана с карточками слов блатного жаргона, вывезенных им из лагеря. Довольно много выпили и хозяин совсем захмелел. <…>
Вчера Вахтин удивился моему возрасту и сказал, что он думал, что я моложе на 7–8 лет. Это я слышал не раз, но радоваться ли этому?
7 июня. <…> сидел часа два у Д. Я. Дара. мы с ним о второстепенных вещах думаем одинаково (и о людях – большей частью), а об основных вопросах жизни по-разному и почти полярно. Он считает, что наука и ее успехи принесли в мир крушение нравственности, что разум это что-то ущербное, что историческое объяснение происходящего всегда ложно и т. п. Культ Достоевского. Я спорил с ним на этот раз вяло и лениво. Впрочем, мне всегда скучно убеждать другого. Интереснее его рассказы о ленинградской молодежи. <…>
[АКГ встречается с болгарскими писателями] Третий день приходится пить водку. Пьяный Ф. Абрамов[96], неумолчно говорящий. <…>
Нынче днем амер. космонавты должны приводниться. Наша пресса позорно мало о них пишет.
[Дар] разговаривал с одним крупным милиц. чином[97]: тот жаловался на немыслимые трудности в работе и говорил, что их главная установка сейчас все же не «карать», а «сглаживать и умасливать». Будто бы органам известны все ходящие по рукам рукописи, все возникающие (среди молодежи) кружки, но они предпочитают наблюдать и не сажать.
10 июня. <…> Письмо от Н. Я. (усталое, грустное), от Левы и дурацкая открытка от Оттена… <…>
История скандальная с Вс. Рождественским, которого задержали в притоне разврата, частым посетителем кот. он был. Говорят, его будут прорабатывать, но я сомневаюсь.
11 июня. <…> Ира Кудрова[98] внесла в Пушкинском доме пай за перепечатку в складчину «Встреч с П.». Таких перепечаток уже очень много: в каком-то кругу ленинградской интеллигенции, в ее «элите» рукопись прочитали почти все. Не то в Москве. Там ее знают лишь немногие и по рукам она не ходит.
Письма: Н. Я. и Леве. <…> Б[еньяш][99] рассказывает об Ахматовой. Есть интересные вещи. Но все не очень обаятельно. В А. А. всегда было много позы, жизни для истории, для биографии. Надо бы записать кое-что, но все, что слышишь, не хватит времени записывать.
12 июня [о Вс. Рождественском, которого] милиция обнаружила в частном бардаке. Поговаривают, что он был не только посетителем-клиентом, но и чем-то вроде акционера. <…>
13 июня. <…> Вечером приехали молодые поэтессы Лена Кумпан (я неправильно писал фамилию) и Лена Шварц и читали стихи[100]. <…> В. Марамзин[101] привез мне папку со своими повестями. <…>
14 июня. Полночи читал рук-сь В. Марамзина. Он талантлив и неглуп, но в целом это мне не нравится. Это род трусливой сатиры и в целом очень скучно, хотя и с вывертом. <…>
16 июня. <…> Снова похолодало.
Спал на левом боку и с утра болит сердце.
Все эти дни острое недовольство собой.
18 июня. <…> Прочитал 4 рассказа Ф. Абрамова. 32 [3 исправлено на 2] из них мне понравилось: о могиле комиссара и «Поездка в прошлое», где в настоящее врываются отзвуки зверского раскулачивания. Это близко к Солженицыну и Залыгину. Раскулачивание во втором рассказе показано как трагическая вина. Интересно, что «виноваты» не только злые «городские» люди, но и сбитые с толку бедняки. Сам Абрамов – бывший особист, бывший критиком и проработчиком, став писателем, резко изменил свои позиции. Очерки его неслучайны и пока он продолжает писать в том же духе. Человек он странный, сложный, есть в нем нечто от П. Васильева и Корнилова с поправками, разумеется, на время, человек со «всячинкой». Его может метнуть еще куда угодно, но пишет он талантливо и его деревенские рассказы и очерки мне читать куда интереснее, чем псевдоноваторские худосочные, позерские сочинения Вахтина и компании. <…>
Сегодня после ужина я уезжаю. Все меня провожают сожалениями (т. е. не все, конечно, а те, с которыми я тут сдружился: Панова, Дар, Адмони[102], Рахманов[103], Беньяш и др.). Пробыл я тут месяц без двух дней.
24 июня. Цветущая и заросшая Загорянка. Так здесь хорошо, что никуда бы не ехал.
Приехал 20-го рано утром. <…>
В Москве ходит много новых рукописей, о которых только слышал по пересказам. Это письмо Эренбургу журналиста Эрнста Генри с полемикой о Сталине (в связи с опубликованием последней части мемуаров И. Г. <…>[104]. Еще ходит какое-то письмо крымских татар к русской интеллигенции и еще какая-то рукопись Померанцева[105] неизвестно о чем.








