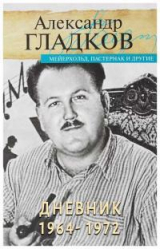
Текст книги "Дневник"
Автор книги: Александр Гладков
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 41 страниц)
22 авг. 1972. Скажем правду, Киршона летом 37-го года мало кто жалел. Он у многих был бельмом в глазу: повсюду хозяйничал и командовал, запугивал близкими отношениями с Ягодой[8] и шантажировал. <…> Он травил Булгакова, Замятина и многих. Это был негодяй чистой воды, подлец и бандит. Не знаю, что ему инкриминировали кроме дружбы с Авербахом[9]: парадокс его судьбы возможно в том, что он, заслуживший наказание, как раз был не виноват в том, в чем его обвинили. Я встретил его в конце августа 37-го года на улице Воровского: он был жалок. Месяца 4 он ждал каждую ночь ареста (как Афиногенов)[10]. Это была пытка пострашнее тех, которым его подвергли на Лубянке. Но надо сказать правду, на знаменитом собрании драматургов весной, когда его «снимали», он держался мужественнее Афиногенова и бился до последнего, отвечал на реплики и даже нападал. Это собрание – может быть, самое страшное, что мне пришлось видеть в жизни. Там пахло кровью. Я, ненавидевший Киршона и дружелюбно относившийся к Вишневскому, там почти жалел Киршона и стал ненавидеть Вишневского: травимый невольно вызывает сочувствие.[11]
Вот запись уже после того, как приказ о его увольнении из театра («в отпуск, без сохранения содержания») будет напечатан, но как будто еще не подписан Мейерхольдом.
25 мая 1937. <…> Три года я почти непрерывно был рядом с ним, и мне трудно представить, что пойдут дни, недели и месяцы, когда я стану его видеть только изредка. Он относился ко мне наилучшим образом: ценил и любил. Пожалуй, главным мотивом моего «ухода» является страх потерять это отношение в сложной атмосфере ГосТИМа[12]. Я уже был на грани этого, когда на меня сердилась З. Н. [Райх.] Просто чудо, что этого не случилось. Три дня назад на беседе о «Бедности не порок», уже после того, как В. Э. согласился на мой уход, он все время по-старому обращался ко мне, что-то спрашивал или просто искал моих глаз. И так было всегда, начиная с 1934 года. В. Э. тоже привык ко мне и доверял мне, что, конечно, не пустяки. Он советовался со мной по самым сложным и тонким вопросам. У нас были ночные длинные разговоры наедине, которые я даже не осмеливался записать в дневник, но я их и так не забуду <…>
Я ушел, но у меня остались кипы моих записей, груда исписанных блокнотов, десятки страниц этого дневника и еще больше в моей памяти[13].
Дневник ведь, как известно, призван сопрягать личный календарь с общественным, вернее, отталкиваясь от последнего, создавать свой собственный (впрочем, иногда, наоборот, только обрамляя личными датами этот общий).
6 июня 1974. <…> Сегодня 25 лет со дня, когда меня с Лубянки отвезли в столыпинский вагон на Ярославском вокзале и отправили в лагерь. И 175-летие со дня рождения Пушкина также.
Дневник как будто «прошивает» жизнь наблюдающего за собой человека. Но некоторые раскиданные в нем здесь и там «камешки на заметку» или оставленные «ниточки», завязанные «узелки», – так и не приводят ни к какой истории и ни к какой ожидаемой развязке.
11 апр. 1966. <…> Следовало бы записать подробности любопытной истории ссоры хозяйки Марьи Ивановны Панна с любовником ее дочери художником Сашей <…>[14].
Конечно, множество таких нитей в дневнике остаются без продолжения…
Две страсти: женщины и библиомания
Уже отмечено комментаторами дневника Гладкова, что его текст, попадая из записной книжки на печать пишущей машинки, претерпевает изменения, преобразуется, олитературивается (особенно это заметно в ранние годы): С. В. Шумихин писал о своих сомнениях в «аутентичности перепечатанных записей», но вот с начала 60-х годов, «когда Гладков ушел из семьи, дневник становится полностью синхронным»[15].
20 апр. 1940. Сегодня получил из магазина «Оптика», что на ул. Горького напротив телеграфа, свои первые очки.
Ходить мне в них еще трудно, шатаюсь и оступаюсь, теряю чувство пространства. Чуть не попал под машину, переходя Газетный. Мир сквозь очки грубее и резче. Женщины некрасивы. Не знаю, как можно – носить очки и влюбляться. Пока надеваю их иногда, ненадолго[16].
И все же отметим, что и надев очки для постоянного ношения, что произошло, видимо, между тридцатью и сорока, влюбляться Гладков не перестал. Хотя специального «Донжуанского списка» им вроде бы и не велось (по крайней мере, в архиве не сохранился), но в дневнике почти про каждую свою пассию – автор что-нибудь да вспоминает (во всяком случае, читателю понятно, что мог бы «порассказать»). Да и просто красивых женщин АКГ старается не пропускать, будучи истинным аматером, ценителем женской красоты. И не простым ценителем, а летописцем, даже каким-то – занудой-регистратором:
25 нояб. 1959. [на просмотре новой режиссерской работы Тункеля] <…> а прямо передо мной сидел Астангов с Аллой П<отатосовой>, своей женой, которая была моей любовницей в зиму 1940 – 41 гг. и для которой я был первым мужчиной[17].
Нам известно, за что АКГ в первый раз чуть было не угодил в тюрьму в 1939 году и за что потом, еще через десяток лет, все-таки отсидел в лагере: в обоих случаях – за книги. В первый раз, будучи пойман при выносе библиотечных книг из Ленинской библиотеки, он отделался испугом, написав на имя директора прочувствованное письмо о том, как он любит книги, и о том, что уже чуть ли не перестал различать, какие из них свои, а какие – библиотечные (просто все считая своими)[18], ну а во второй отсидев все-таки почти шесть лет в Каргопольлаге – за «хранение антисоветской литературы» (да чуть было еще и не за ее «пропаганду»: ведь ему при обвинении лепили и такое). На самом же деле Гладков просто привез в очередной раз от книжников-спекулянтов из Риги в Москву на поезде чемодан книг; среди них оказались запрещенные, и он был с этим чемоданом взят, прямо на вокзале, очевидно, по доносу. Уж книги он любил в самом деле, почти той же страстной любовью, как и женщин.
3 апр. 1970. <…> Заезжаю в большой книжный магазин на проспекте Калинина и узнаю, что вчера там продавались «Литературные портреты» А. Моруа. Нет книги, которую мне хотелось бы читать сильнее.
(В тот самый день АКГ все-таки еще раз поедет в город к спекулянтам на Кузнецкий мост и достанет эту зачем-то ему позарез необходимую книгу.)
О самиздате времен застоя и о собственном месте в нем он рассуждает не без некоторого самохвальства:
6 окт. 1973. <…> Думал о юриной рукописи [о повести Ю. Трифонова]. Выходят из печати, полные вранья и общих фраз разные «истории» советской литературы, и все эти отлично переплетенные тома когда-нибудь сгинут в небытие, а настоящая история будет написана на основании рукописей, которые сейчас пишутся без расчета на опубликование, а из инстинкта сохранить правду о времени и о людях. Таковы юрины «Записки соседа», несколько эссеев Бори Ямпольского, мои «Встречи с Пастернаком», «Слова, слова, слова» и м. б. еще что-нибудь. Да и наверное я не все знаю: есть и еще.
Сам АКГ чурается каких-либо политических партий и пристрастий, но наиболее симпатична ему сторона «меньшевиков» (только это «меньшевики» – начала 70-х годов ХХ века):
20 нояб. 1973. <…> Наши «инакомыслящие» (кстати, никто не употребляет это слово у нас в стране – его мы только слышим в иностранных передачах радио) уже как бы разделились на два течения: Сахаров, Солженицын и другие [с одной стороны] и Медведевы и др. [с другой]. По забавной аналогии первых можно назвать «большевиками», (несоразмерность требований, своего рода «пораженчество» – в вопросе предоставления СССР статуса благоприятствуемой стороны, например, и др.). Учитывая болезненность правит-ва к вопросу о престиже, это вряд ли даст положительный эффект. Тут правы «меньшевики» Медведевы.
Самооценка у АКГ – и завышена, и занижена: «последний ихтиозавр интеллигенции» (из записи 28 дек. 1963, выражение о нем Е. М. Голышевой, жены его соавтора, с которым они разошлись в конце жизни, Н. Д. Оттена). Сам же он себя называет – с горькой иронией – «мейерхольдовский Эккерман» (2 июня 1963), то есть с очевидным сожалением оттого, что он всего лишь хроникер… Но можно, наверное, вообще считать, что это и был основной мотив его дневника последних лет жизни: раз уж я не сделался настоящим писателем, то надо успеть что-то вот на этом поприще – преуспеть хоть в нем, не стремясь к печати любой ценой, пусть даже с трудом сводя концы с концами…
Чем заполняются записи гладковского – впрочем, как и любого другого – дневника? Человеку, очевидно, всегда хочется себя куда-то вписать, в какую-то «рамку» – во время, в пейзаж или вообще в то, что наверняка останется, пребудет дольше него самого:
6 апр. 1971. <…> Умер Игорь Стравинский. Когда он приезжал в 60 гг. в Ленинград[,] я жил в Европейской гостинице[,] как и он[,] и однажды завтракал рядом с ним и Хренниковым. Он чем то напоминал К. Г. Паустовского внешне.
Зачем тут автор приплетает сходство Стравинского с Паустовским? Просто потому что пришло в голову сейчас? Или – всегда замечал, видел уже тогда? Пейзаж упомянут, обстоятельства «пересечения в пространстве» – фиксированы. Читатель может подумать: а не есть ли это что-то вроде обращенной к миру просьбы передать, что проживает «в таком-то городе Петр Иванович Бобчинский»? Может быть, и так… Но для нас, потомков, дневник АКГ, тем не менее большая ценность. Хотя чем, в самом деле, пунктуальная фиксация обстоятельств какой-нибудь из его любовных встреч качественно отличается от этой просьбы гоголевского героя?
Отсутствие табу
Ну а что в тексте Гладкова, как это принято в дневнике практически любого «уважающего себя» автора, шифруется, остается в скобках, недоговаривается или подается только намеками? Да почти ничего! Если оставить в стороне любовную тему, которой, как мы знаем, автор вовсе не гнушался[19], а также тему доносительства и постоянных (принятых в то время в интеллигентской среде) выяснений того, кто реально был доносчиком, а кто нет (вчера Х назвал Y доносчиком и стукачом – в присутствии А и В, но Z давно знает про Х, что тот сам «сдал» его вместе с Y в таком-то году, на допросе…), то табуируемых тем как таковых для него практически не останется. Есть только вынужденная как будто скорописью скороговорка: сокращения, нуждающиеся подчас в расшифровке, – но нет сокрытия чего-то. Разве что еще сплетни, как говорится, наименее «вегетарианского», ежовско-бериевского времени – может быть, он как-то и «побаивался» фиксировать их на печатном листе. Но в то время ему материалом служили по большей части записные книжки: в них сам почерк АКГ всегда бисерно мелок и почти всегда неразборчив. Да и книжки эти время от времени, заполняясь, отвозятся им на дачу, в Загорянку. Печатному листу он стал передоверять свой дневник (то есть перепечатывать, составляя дневник из отдельных листов и записных книжек), приводя его в «читаемый» вид, только в «оттепельные» 60-е годы.
Табу для него, или, скажем более точно, предмет умолчаний, сокращений (но не шифровки) – это разве что повторяющиеся имена возлюбленных или собственные недомогания, о которых он не то чтобы жаждал широко распространяться, но все-таки записывал и это (на всякий случай?), по-видимому, только для себя одного (и, конечно, всегда способен был сам эти сокращения восстановить):
28 марта 1971. <…> После долгого перерыва боли гем.[20] Связываю это с пищей: орехи и жаренная каша. Но я уже умею помогать себе холодными компрессами.
Беспартийность
Еще одна весьма актуальная в то время тема – это еврейский вопрос. Как сразу заметит любой читатель (особенно читатель дневника 1967 года), персонажей и друзей-евреев у АКГ и в его окружении чрезвычайно много. Объясняется это следующим образом: во-первых, в лагерь он попал вместе с потоком так называемых «космополитов» в 1949-м, а во-вторых, мы должны просто констатировать у Гладкова нечто вроде юдофилии: вот что он записывает у себя на даче, в Загорянке, после беседы с неким человеком, по-видимому, уполномоченным среди участников тамошнего «садового товарищества» – для организации работ по проведению на участки магистрального газа, человеком по фамилии Токарь[21]:
10 июля 1971. <…> По словам Токаря в конце августа начнутся работы по проводке газа по улице. А дальнейшее пока неизвестно. Придется еще внести за работы на участке и в доме рублей 250–300.
Он симпатичный человек. Люблю евреев.
Конечно, Гладков осуждает всяческие проявления антисемитизма:
29 апр. 1971. <…> На днях в «Правде» был подленький антисемитский фельетон финского юмориста Ларни (по-моему весьма бездарного)[22]. И в ответ на него уже по рукам ходит открытое письмо к Ларни, довольно остроумное.
Но и подъем еврейского национализма, начавшийся особенно активно с 1967 года, с «победоносной войны» израильтян против арабов, Гладков замечает у многих своих друзей и оценивает крайне скептически, откровенно высмеивая слишком воодушевленно «зарывающихся» в этом отношении товарищей (Льва Левицкого, Бориса Ляховского и кого-то еще неназванных). Зато и каких-то утверждений, что в его области, в культуре, театре, кино, среди писателей, драматургов, сценаристов, актеров… – царство или засилье евреев, мы нигде не встречаем. Так он сам никогда не воспринимал ситуацию в стране, спокойно ощущая ее как естественную и вполне плодотворную конкуренцию двух «творческих» наций. Вместе с тем и наезды «руссистов» (то есть национально ориентированной «Русской партии») он отслеживает подробно и их успехам по политической линии до некоторой степени сочувствует (именно тому, как идеология «руссистов» противопоставляется официальной, коммунистической). Но ура-националистические лозунги и заскоки этой стороны (что евреев надо «наконец прижать» в отместку за то, что они «сделали» с русской культурой после революции) ему, конечно, глубоко отвратительны.
Дело, наверное, в том, что Гладкову всегда противны были люди, держащие разнообразные фиги в карманах, будь то евреи, на людях прославляющие, зато про себя поносящие русскую культуру и радеющие за какой-то там еще, «западный» (пусть американский или израильский) порядок, или те же «русофилы», заявляющие в открытую, что у них полно друзей-евреев, но готовые при этом (для справедливости, конечно) установить в стране такие законы, чтобы эти друзья были отнесены к гражданам второго сорта.
Гладков не терпел партийности – ни в одной, ни в другой форме.
Михаил Михеев
1967
Из фонда РГАЛИ № 2590: А. К. Гладков, оп.1, е.х.107 – листы не переплетены, но прошиты двумя нитками: машинопись, через 1 интервал, от 1 янв. до 31 дек. – почти без пропусков, заполнено около 200 стр.; в публикуемой выборке помечаются пропуски только внутри дневной записи; пояснения в тексте в квадратных скобках и подстрочные комментарии – публикатора.
1967 год. Записи [заглавие, под которым вклеен календарик на 1967 год]
1 янв. Ночью было чуть выше нуля, днем немножко ниже. Вчера днем приехала Эмма. Встречали новый год здесь в столовой. За столиком сидели еще Горы, Анна Борисовна Никритина, Ниновы[23]. Ушли непоздно. И до ночи и ночью взрыв бурной чувственности. <…>
Я утром, когда она еще спала, работал над «Мейерхольдом». <…>
2 янв. Переписал набело 1-ю главу своей книги о детстве Мейерхольда. <…>
Меня несколько смущает и то, что в моем рассказе активно присутствует автор, рассуждающий, комментирующий, сопоставляющий, а не последовательное чисто эпическое изложение событий жизни. Но так уже записалось, а по опыту своей эссеистики я знаю – лучше всего я пишу, когда не задумываюсь, как нужно писать…
8 янв. Прочитал ночью когда не спалось запрещенную пьесу И. Дворецкого «Среди бела дня». Ее начинали репетировать у Охлопкова и в Александринском, но последовало вето цензуры. Пьеса о лагерях, о Колыме, в основных чертах правдивая и написанная талантливо и ярко[24]. <…>
Вечером у меня Дворецкий, с которым говорим о пьесе. Он рассказывает о прототипах.
10 янв. Приехала Эмма, взвинченная. Тяжелые разговоры, кончающиеся, впрочем, хорошо. Звезда Венера в зимнем небе. Уехала поздно вечером.
11 янв. <…> Просмотрел № 11 «Нов. мира». Интересны воспоминания Каверина о литературной жизни в 30-х годах[25]. Чувствуется, что они здорово порезаны, но в общем что то сквозит. Это в какой то мере параллельно моему Олеше. <…> Очерк вдовы Тарасенкова об его библиотеке[26]. Вот, начнет сейчас создаваться миф о большом гуманисте А. К. Тарасенкове. а то, что я знаю о нем, никому даже не интересно. Конечно, он был сложным человеком, но в этот пестрый состав души входили и подлость и предательство и патологическая трусость и многое другое. <…>
Вечером знакомство с Слонимскими[27] и Глинкой[28]. Глинка занятен: что то гусарское. <…>
Вечером немного гуляю со Слонимским. Он рассказывает, что ненапечатано одно очень интересное письмо Горького к нему с отзывом о его романе о Ленингр. оппозиции. Горький похвалил роман, но отсоветовал печатать. – И хорошо сделал – говорит С-ий, а то я уже был бы сейчас в числе посмертно реабелитириванных… Потом он говорил, что хотел бы написать воспоминания о советской цензуре за все десятилетия.
12 янв. <…> Огромное письмо от Саши Борщаговского[29] и коротенькое от Надежды Яковлевны[30].
Н. Я. пишет: «стенокардия обхамела и хочет меня съесть» и «я болею»… Жалко, старуху!
Саша подробно описывает московские дела <…>.
16 янв. <…> Вечером сижу у Слонимских. Его рассказы о ненапечатанном романе об оппозиции, о роли Горького, о Горьком, о Будберг[31], о последней встрече с Тимошей и пр.[32] Надо бы это все записать – он сам вряд ли уже запишет[33].
17 янв. М. б. в запрещении произведений Е. Мальцева, Бондарева, и др. есть и хорошая сторона[34]. Это вовсе не то, что вето на книгах Мандельштама, Мейерхольда. Второе – инерция, «вечно вчерашнее», как говорил Ницше, а первое – новая черта политической жизни и это может дать любопытные последствия. <…>
После ужина снова интересные рассказы Мих. Л. Слонимского о Горьком, которые он вряд ли записывает и которые нужно записать. Подтверждение рассказа Десницкого[35] об окружении чекистами. Как то приехали к нему М. Л. и еще некоторые. Сразу встреча с Ягодой, Авербахом, Крючковым – к нему не допускают. Но Пришвин, тряся бородой, идет один вглубь дома и добирается до одинокого А. М. смущенного и унылого. Он говорит, Пришвину, что живет, как в тюрьме, что его вроде бы арестовали… Это полужалоба, полушутка. Но так оно и было[36]. О Крючкове[37], зловещем и волевом. Он невзрачен (противоречие с рассказом Н. И. Анова)[38], но очень силен физически. Странная роль и странная сила. Крючков показывал М. Л. фото: он со Сталиным. О врачах, которые за столом в отсутствии Горького несли похабщину, особенно доктор Левин[39]. <…>
Привык писать дневник. Мне уже как-то неудобно (как не умыться) не написать вечером одну-полтора-две странички. И все меньше и меньше с годами хочется писать о личном. Не потому, что его нет, а потому что им как-то неинтересно делиться. Мой дневник давно уже не излияния, как было когда-то, а заметки о том, чего не хочется позабыть. <…>
18 янв. <…> Слонимский восхищается воспоминаниями о Горьком Ходасевича, которые я ему дал[40]. Он, хорошо знавший А. М., свидетельствует, что все верно и проницательно и умно. У него хранится пачка писем Ходасевича. Его рассказ о том, как в 1958 г. он, чтобы вывести Зощенко из состояния апатии и прострации, уговорил его поехать к юбилею А. М. в Москву к Екатерине Павловне, сам взял билет, заехал за ним и буквально приволок его туда. За праздничный стол Зощенко посадили рядом с Е. П. Слонимский сидел вдалеке и вдруг видит, как сидевшие рядом с Зощенко (Леонов, Тихонов[41] и другие) вдруг встали и ушли в конец комнаты и Зощенко остался один с хозяйкой, но и у той было какое то неприятное выражение на лице. Сл-ий потом его спрашивает – что там случилось? Зощенко ответил, что ничего особенного. Просто он спросил: – Правда ли, Е. П., что Алексея Максимовича убили?… Это и в эти годы показалось политической бестактностью, почти конфузом. О том, как М. Л. в последний раз был на Малой Никитской в доме Горького у вдовы М. Пешкова Тимоши и поднимался вслед за ней по какой то винтовой лестнице и вдруг представил себе сколько страшных тайн скрыто в этом доме у этой женщины…
22 янв. <…> В США выпущен теле – фильм на полтора часа «Суд идет» о процессе Синя[в]ского и Даниэля, на основе стенограмм судебного разбирательства и пр. материалов. Об этом сообщает америк. радио. Cам я здесь не слушаю: рассказали.
24 янв. <…> Завтра еду в город на Ленфильм.
На днях буду читать статью Л. Я. [Гинзбург][42] о Мандельштаме.
25 янв. <…> Потом на Ленфильм. Смотрим с Глинкой процентов 85 матерьяла т. е. еще не смонтированный и начерно озвученный фильм.
Что то нравится и что то ненравится <…>
26 янв. <…> Вечером сижу у Л. Я. Гинзбург.
27 янв. <…> Рукописный журнал «Феникс», будто бы издаваемый в Москве (о котором я живя в Москве слышу только по иностранным радиопередачам) редактировался (будто бы) поэтами Алексеем Добровольским и Юрием Голандским[43] (?!) и они (будто бы) на днях арестованы. <…>
30 янв. <…> В США в кабине снаряда межпланетного на базе сгорели три космонавта[44]. <…>
Л. Я. Гинзбург наговорила мне самых лестных слов о «Слова, слова, слова» – и умно, и блестяще написано, и что она только теперь поняла Олешу, и что это новый и невиданный жанр и т. п.
3 фев. Сегодня утром Эмма впервые играет Настасью Филипповну. Вчера звонил ей (к Анне Бор. [Никритиной]) и она просила меня не смотреть.
Утром еду в город, отвожу ей корзину цветов в театр, звоню директору о местах на завтрашний спектакль и заезжаю на Ленфильм. <…>
Вчера письма от Н. Я. и Левы[45]. <…> Н. Я. пишет про Евг. Эм-ча [Мандельштама], что он был у нее, плакал, и что он наверно сумасшедший. Пишет, что очень устала.
Разговор с Л. Я. о ее работе. Одно из моих замечаний она определила как ценнейшее. Вечером вчера сидел у Н. Я. Берковского[46]. «Мемуарные» разговоры. <…>
Эльга Львовна[47] говорила, что Л. Я. восхваляла ей мои «Слова, слова, слова» и что мой «самооговор» – это формула для истории интеллигенции в России[48]. <…>
Вечером работаю. Потом недолго у Эльги Львовны с Л. Я., Костелянецом и некоей Светланой, женой Феликса Кузнецова[49] (судя по разговору, более «прогрессивной», чем даже он сам). Она рассказывает, что в ресторане ЦДЛ был скандал на днях: Солоухин[50] в компании сказал, что ему хочется рыдать, когда он вспоминает, как позорно расстреляли в Крыму сдавшихся белых офицеров во время гражданской войны. Кто то ответил, что – правильно сделали, что расстреляли. Солоухин бросил в него бокалом и даже последовало нечто вроде драки.
Рудницкий[51] прислал две пахучих цитаты: из дневника Теляковского[52] об антисемитизме Савиной[53] и речь Пуришкевича[54] в Гос. Думе, тоже антисемитскую с упоминанием имени Мейерхольда. Сегодня у него обсуждение рукописи в секции.
5 февр. Ночевал у Эммы после «Идиота». Приехал рано утром, еще затемно.
Эмма играет хорошо, кое-где чуть пережимает и через несколько спектаклей будет играть великолепно.
Смоктуновский играет удивительно. Конечно, это на много голов выше его Гамлета.
Колоссальный успех, 8 милиционеров у входа в театр, почти 20 минут оваций после окончания.
<…> [вставка – вклеена статья из газеты: «Фильм о русской актрисе» – про съемки «Зеленой кареты», об Асе Асенковой]
Эта заметка напечатана сегодня в «Смене», но она уже устарела: съемки уже закончены… <…>
В нынешней «Смене» беседа с гипнотизером Куни[55], подтверждающая косвенно рассказ Шаламова о букинисте[56].
7 фев. Фрид прислал мне номер многотиражки Ленфильма с статейкой о «Зеленой карете»[57]. Господи, как странно вспомнить, как я писал пьесу об Асенковой в лагерной больнице, как заставлял себя думать о ней в подвальной одиночке на Лубянке. И, вот…[58]
9 фев. <…> Вчера вечером у Берковских (при Анне Бор. Никритиной) рассказываю о гибели Мейерхольда. И сегодня днем у них. Приехал с ужасной головной болью. Они меня лечат. Вечером Л. Я. рассказывает, как ее в декабре 52 года таскали, заставляя оговорить Эйхенбаума[59]. Это было, когда планировалось несколько параллельных дел в разных областях. Может быть, этому помешала только смерть Сталина. Встречи происходили в номере Октябрьской гостиницы. Неблаговидная и подозрительная роль Эльсберга[60]. <…>
Странное и тревожное письмо от Надежды Яковлевны. «У меня нет сил жить, нет сил писать, нет сил думать и дышать… Откуда же взять оптимизма, чтобы написать Вам письмо. Но получать письма я люблю. Н. М. Не забывайте меня и пишите. 5 февраля».
Как ей помочь?
10 фев. <…> Киселева кладут в больницу. Белокровие и частичный паралич правой стороны[61].
15 фев. [этот и следующий листы в сшитой машинописи дневника явно переставлены местами] <…>
Н. Я. Берковский привез из города «Лит. газету» с дискуссией вокруг статьи М. Лифшица[62]. Ее прочитала Л. Я. Гинзбург и дала мне. Сейчас буду читать. Библиотекарь дал мне № 1 «Москвы» с окончанием романа «Мастер и Маргарита». <…>
12 фев. Сегодня была Эмма и уехала. Обычные объяснения. Потом – вроде ничего… Не хочется об этом думать. <…>
Страннейшее письмо от Н. Я. с рассказом (длинным) о каких-то изменах ее с Татлиным и О. Э. с Ольгой Ваксель в 25–27 гг. и просьбой найти сына О. Ваксель и попросить у нее[63] дневник матери. Будто бы там может быть какая-то «клевета» и пр.[64]
Я человек любопытный и могу этим заняться, но зачем это Н. Я.? И еще просит разыскать некоего доктора Гревса и узнать о смерти О. Э. <…>
Очень тепло.
Хочется ранней весны и жить в Загорянке одному. И работать целыми днями.
16 фев. <…> Письмо от Рудницкого. <…> Любопытная новость: в № 1 «Литер. Грузии» за этот год опубликовано 60 стихотворений Мандельштама и статья о нем на 2 листа Маргелашвили[65]. Сказал об этом Лидии Яковлевне – она очень удивилась. Костя переезжает на Аэропортовскую. <…>
17 фев. <…> Вечером звоню Эмме. Она сообщает, что получает квартиру на Дачном[66]. Взволнована.
19 фев. [АКГ в Комарове] Вчера письма от Левы и Шаламова. <…>
Шаламов пишет: «у меня просто руки опускаются, когда видишь, что все наиболее выстраданное, наиболее проверенное подвергается сомнению из-за того, что люди просто не хотят подумать серьезно о многом, начиная с фармакологии букиниста и кончая блатным миром[67]. Никто не хочет знать, что все гораздо серьезней, страшнее»… Это в связи с маниловскими рассуждениями Шарова[68] о том, что он де неверно описывает мир рецидива, который не столь плох.
Вечером вчера долго сидим с Л. Я. и говорим о Тынянове[69] и Эйхенбауме. Ее интереснейшие воспоминания. <…>
Сегодня в «Известиях» полемические заметки Грибачева[70] о той же статье Шарова и, увы, убедительные…
Днем приезжает Эмма с Толей [сыном]. Она скоро уезжает, а он остается до вечера. У нее ангина.
Она уже смотрела будущую квартиру на улице 3-го Интернационала в Дачном. Четвертый этаж. Две комнаты: 18 и 12 метров и большая кухня и нормальная ванна. 4 остановки на автобусе от конечной станции метро. <…>
Вечером уезжает отсюда Лидия Яковлевна. Мне будет нехватать общества этой умнейшей старухи. <…>
Письмо от Над. Яковл. Ей понравилось[71] то, что я написал ей о 19-м веке, как кульминации человеческой культуры нашей исторической фазы. Пишет, что у нее плохо с сердцем, но что она не может бросить курить.
Вечером с Гором сидим у Берковских, которые завтра тоже уезжают. Б. хорошо сказал: «снобизм это особая форма одичания». Но я почти ни с чем не согласен, что они говорят, т. е. высказывают: о романах Мережковского, о прозе Белого и т. п. Н. Я. капризно-парадоксален[72], Гор просто понимает литературу иначе, чем я. Говорим еще о Пушкине и Гоголе. Н. Я. замечает, что из моего этюда о Пастернаке очень хорошо видно, что я люблю и что не люблю.
Надежда Яковл. пишет в письме: «Вы написали чудное письмо про 19-й век. Да, это кульминация гуманизма. Но почему гуманизм провалился? В этом вся проблема».
24 фев. 1967. Последние дни несколько споров: с Пановой[73] о Мандельштаме, со Слонимским о Федине[74]. Оба чем-то задеты. Раскаиваюсь, бог с ними – пусть думают, как хотят…
25 фев. С утра в городе на Ленфильме. <…>
Приехав, нахожу здесь Татарского[75]. Он привез мне № 4 «Театр. жизни», где напечатан мой мемуарный очерк о А. Д. Попове[76]. Уже после подписания гранок что то сократили и негладко, но главное, все ужасно провинциально сверстано с картинками. Есть и неловкости в тексте. <…>
Хорошо бы где нибудь перепечатать очерк об А. Д. Попове, вернув все выброшенное и исправив мелочи.
27 фев. <…> Жена Слонимского перечитала «Встречи с П.» и хвалит их в самых высоких выражениях. Он тоже хочет перечитать.
А я, подумав, как то не очень верю уже в то, что «Москва» будет это печатать. <…>
Мне осталось здесь жить 6 дней. Ни разу еще не жил в Комарове так долго.
28 марта февраля 1968 [так!][77] ХХХ[78] целый день была Эмма и время прошло хорошо. Я повел ее к Слонимским и М. Л. дал такой великолепный, яркий, умный сеанс рассказов о Горьком, что она была в восторге, да <и> я услышал много нового.
Замечательно воссоздана им атмосфера горьковского дома, и на Кронверкском[,] и на Малой Никитской[,] и в Горках, вечно торчавший там Ягод[а], коньячные разливы, Крючков, какие то искусствоведы в штатском. Их нельзя было миновать, проходя к Горькому и они задерживали, заставляли пить, все с шуточками. Роковая женщина Тимоша, в которую были влюблены и Ал. Толстой[,][79] и Ягода[,] и Микоян[,][80] и другие, не говоря уже о Максиме и самом старике. Обольстительная красавица Цеце – жена Крючкова (растреляна после него), авантюристка, непонятное, таинственное создание[81]. И если Горький появлялся вдруг, к нему подбегали и ласково говорили: – Что Вы, А. М. – зачем вы вышли? Вам нельзя, простудитесь… Или еще что то в этом роде. Почти никто не проходил через этот коньячный кордон, но однажды Пришвин прорвался, тряся бородой и Г. сказал ему не то шутя, не то проговорившись: – Я под арестом… <…> М. Будберг была переводчицей Г. Уэллса, когда он приезжал[,] и тут то они познакомились. «Сексопильная женщина». Андреева и Горький. [У] него женский характер, идешь к нему и не знаешь, в каком настроении его найдешь: он измен[ч]ив, разнообразен, капризен. Она – мужской характер. Крючков много пил коньяка без которого не мог жить, но почти не пьянел. – Да, А. М. убили, создав вокруг атмосферу изоляции, фактически взяв его под арест… Отвратительные разложившиеся врачи. Доктор Левин с его похабными остротами <…>. <…> История Г[орького] и Прокофьева. Как Г. плакал, узнав, что того перестали издавать после крит. замечаний Г.[82] Он не понимал что критика стала другой [что он] сам «начальство», не понимал [з]ачем в литературе [начальство][83].








