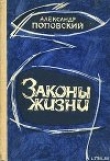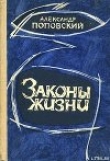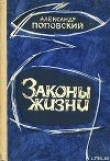Текст книги "Повесть о несодеянном преступлении. Повесть о жизни и смерти. Профессор Студенцов"
Автор книги: Александр Поповский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 45 страниц)
В кабинете Пузырева Лозовский был всего лишь два раза после возвращения из Сибири. Запомнились массивный книжный шкаф с резными колонками и причудливой верхушкой, изображающей орла и его подругу – орлицу; аккуратно расставленные книги в добротных переплетах и с перечнем их на листке, прикрепленном к нижней полке; дубовый письменный стол на тумбах, обитый зеленым сукном, блистающий порядком и чистотой; картины в дорогих рамах на оклеенных дорогими обоями стенах. Единственно новым в кабинете были длинные ряды портретов ученых, развешанные без рамок под потолком. На каждой фотографии значилось имя, фамилия и национальность.
Семен Семенович мельком взглянул на галерею портретов. Этого было достаточно, чтобы Ардалион Петрович загадочно поджал губы и поднял указательный палец кверху. На его языке это означало: «Внимание!» Гость принял к сведению предупреждение хозяина и задержал саой взгляд на отдельных фотографиях.
Ардалион Петрович встретил Лозовского сияющей улыбкой и крепким рукопожатием. За этими знаками внимания следовали другие: дружеские хлопки по плечу к несколько щелчков пальцами в воздухе. Хозяин был едет, как говорят, с иголочки, во все новое: на нем был длинный матово–серого цвета пиджак, сшитый по последней моде, с большими накладными карманами и хлястиком на талии; коротковатые брюки из того же материала, суженные книзу, темная шелковая сорочка с золотистыми пуговками и галстук, переливающийся всеми цветами радуги. Ярко–желтые туфли на высоких каблуках не возмещали ущерба, причиненного фигуре длиннополым пиджаком, – Ардалион Петрович казался в нем еще ниже ростом и более нескладным.
– Что, любопытно? – взглядом указывая на портреты, спросил Пузырев. – Угадай–ка, историк, что общего в судьбе этих людей?
Он заложил свои короткие руки назад и приплясывающей походкой прошелся по кабинету. Потоптавшись около Лозовского, довольный тем, что озадачил его и показал себя в выгодном свете, он многозначительно спросил:
– Все еще не сообразил? Могу подсказать. Тема: русские таланты – гордость нашей страны.
– Отечественные ученые? Да ведь все они здесь, за редким исключением, иностранцы.
– Вижу, не понял, так и быть, подскажу. Все это – сыны нашей земли, русские люди, ярлык чужой, душа наша… Нам, любителям истории, грех этого не знать. Начнем с тех, что справа, в первом ряду: физиолог Оскар Минковский и брат его математик Герман, прославленные люди, так называемые немцы, а родились и выросли в нашей Ковенской губернии… Чуть ниже – пятерка французов – помощники Пастера, заменившие его, все до одного наши: Мечников, Хавкин, Виноградский, Безредка и Вейнберг. Что ни имя – звезда, значатся иностранцами, а родились и жили в Одессе, в Петербурге… И отец кибернетики, Норберт Винер, – наш, и нобелевские лауреаты – создатель стрептоцида, отец антибиотики – Ваксман, и творец вакцины против полиомиелита Солк – по подданству американцы, а родились у нас… И третий нобелевский лауреат – Чейн, один из истинных создателей пенициллина, числится не то итальянцем, не то американцем, а на нашей земле родился и вырос…
Довольный собой и идеей, удачно забредшей ему в голову, он торжественно говорит о патриотическом долге историков выявить русские таланты, где бы они ни находились.
В этой, казалось, невинной болтовне было все для того, чтобы и себя показать и уязвить самолюбие другого. Пусть знает Семен Семенович, что Пузырев и над современностью и над прошлым задумывается, не сидит, как другие, сложа руки…
– Что ж ты не похвалишь меня? Или коллекция не пришлась по нутру?
Вместо ответа Лозовский сдержанно спросил:
– Не за этим ли позвал ты меня? – Он отошел от развешанных портретов с чувством недовольства собой. Слишком сухо прозвучал его ответ, следовало бы ответить иначе. Чтобы смягчить неприятное впечатление, он поспешил добавить: – Люди мы несвободные, мне пора в больницу, и у тебя работы более чем достаточно.
– Совершенно верно, – согласился Ардалион Петрович, – уж чего–чего, а дел у меня до чертовой гибели. Самому надо кое о чем покумекать и других подучить, смену готовить.
– Посочувствуешь тебе. Нелегкий труд командовать чужими судьбами, – не удержался Лозовский от колкости, – должности и степени раздавать, таланты находить, превозносить одних, ронять других, а третьих упорно не замечать…
– Смену готовить не пустячок, – следуя своему правилу до поры до времени не замечать обиды, деловито продолжал Пузырев. – Все мы, как говорится, вот–вот окочуримся, а кафедры оставлять пока некому… Как хочешь, а некому.
Скорбь о грядущих судьбах науки и о ненадежности молодой смены настроила Лозозского на веселый лад, он подумал, что Ардалион Петрович в своем ханжестве переусердствовал, сам он отлично знает, что наука мало выиграла от его рождения и еще меньше проиграет от его смерти.
– Не следует предаваться гражданской скорби, – заметил Лозовский, – во все времена умирающие говорили: «Мы покидаем мир, который стоит на краю гибели», а мир, как ни странно, благоденствует по сей день.
– Что ж ты не сядешь? – вдруг вспомнил Пузырев. – Настоишься на обедне, садись.
К нежеланным посетителям и людям, неприятным ему, Ардалион Петрович практиковал двоякого рода наказания: он либо держал их по часу в приемной, либо подолгу вынуждал стоять в кабинете на ногах. Уже перед их уходом, как бы спохватившись, он для вида извинялся и предлагал им сесть.
– Ничего, я постою, – ответил на приглашение Семен Семенович, – поговорим о деле.
Ардалион Петрович с сосредоточенным видом пустился шагать взад и вперед по кабинету и, словно перебирая в памяти мелькавшие в его сознании мысли, жестами и гримасами отбирал одни и отвергал другие. Эта умственная работа привела его наконец к делу.
– Так вот, читал я твою книгу… Толстая… сразу не проглотишь, поперхнешься… Много в ней всего, прямо тебе скажу, нахапал ты добра более чем достаточно. На то и компиляция, чтобы чужое компоновать… Слышал я про твои неприятности и о суде. От нас потребовали документацию, пришлось послать. Крепко на тебя насели, выбраться будет нелегко. И кому это вздумалось такую кашу заварить?.. И меня, чего доброго, в свидетели потянут… Не любят у нас новшеств, так и смотрят во все глаза, как бы кто–нибудь что–нибудь не открыл… Удивительно даже, все кругом и складно и прекрасно, комар носа не подточит, а сунься с новой мыслью – съедят, бюрократу все равно кого лопать… Есть у меня такой дружок, с виду и добрый, и любезный, и даже услужливый. Попросишь его, он и слово замолвит, напишет такое, что мало спасибо сказать, и тут же такое словечко ввернет, что убить его мало… Погубит человека – и глазом не моргнет.
Самоуверенный тон и важность, с какой Пузырев говорил о своей особе, непоколебимое убеждение, что каждая его мысль полна глубокого смысла и неоспорима, начинали раздражать Семена Семеновича. Направляясь сюда, он дал себе слово не вступать в споры и проявлять терпение, но с первой же минуты почувствовал, что ему с собой не совладать. В каждой фразе Лозовскому чудилась скрытая издевка, намерение подтрунить, чтобы вывести его из терпения. Сейчас он едва не бросил Пузыреву: «Я знаю твоего дружка, уж очень он тебя напоминает… Ты не согрешишь избытком милосердия».
– Ты отлично знаешь, Семен, что я добр и благороден, – с истинно трогательным простодушием произнес Ардалион Петрович, – и не станешь, конечно, этого отрицать.
– Ты добр и благороден, как головоногий моллюск, – с шутливой интонацией, рассчитанной на то, чтобы не рассердить Пузырева, произнес Лозовский, – у него три сердца, голубая кровь и свойство менять окраску, которому позавидовал бы любой хамелеон. Ко всему прочему это милое создание родственно нашей улитке…
Обидная речь и оскорбительные сравнения неожиданно вызвали долгий раскатистый смех. Ардалион Петрович сорвал листок с календаря и принялся энергично записывать удачное сравнение, со вкусом повторяя каждое слово вслух. Эта удачная параллель пригодится ему.
– До чего ты остроумен, Семен, с тобой поспорить одно удовольствие. Взял да обрезал, а ты сиди и записывай его премудрости. Жаль, что ты такой… горячий и так трудно с тобой поладить… Очень тебе нужно было пичкать больных сырым мясом, уротропином, пчелиным ядом, медом и всякой всячиной. Что у нас, фармакопеи нет? Названий всяких трав и микстур больше, чем блох у собаки. И правило для нашего брата одно – удалось больного на ноги поставить, слава богу; не вытянул и несчастный богу душу отдал – значит, так суждено. О таких, как ты, фантазерах, Гёте сказал: «Ни мифы, ни легенды в науке не терпимы. Предоставим поэтам обрабатывать то и другое на пользу и радость мира». Жил бы как все, – так нет, подавай ему и старину, и бабьи наговоры, и снадобья шаманов… Ведь ты умный и способный человек, возьми себя в руки…
– Гёте и другое сказал, – ответил Лозовский: – «Природа, чтобы расщедриться в одном, должна поступиться в другом». Щедро наградив меня умом и способностями, она вынуждена была в этом отказать тебе.
Довольно с него, этот назойливый болтун не знает меры в своих наставлениях. Что ему надо? Пусть выложит без предисловий и обиняков.
Ардалион Петрович уже не смеялся, он с сожалением взглянул на собеседника, выпятил свою впалую грудь и энергичным движением провел рукой по усам, подусникам, бородке «бланже» и, словно исчерпав этим свое раздражение, с легким укором сказал:
– Так мы с тобой не сговоримся; пошутили, подурачились – хватит. Плохи, Семен, твои дела, другой на твоем месте костей бы не собрал, тебе повезло – вытянем тебя из беды. Все неприятности похерим, книге дадим ход, напечатаем, и большим тиражом. Из монографии выйдет неплохая диссертация, и опять–таки я тебе помогу.
Лозовский насторожился. Что с ним? С чего это он подобрел? Совесть заговорила или что–то новое надумал?
– Спасибо. Чем я обязан такому вниманию? Ты, кажется, до сих пор не очень жаловал меня.
Ардалион Петрович с удивлением взглянул на него и, как человек в высшей степени озабоченный, долго не находил ответа.
– Ты словно меня и за человека не считаешь, – обиженным тоном проговорил он.
– Если ты в самом деле хочешь помоиь мне – большое спасибо.
Как все добрые люди, он готов был поверить, что Пузыревым владеют искренние побуждения, и его невольное смущение – лучшее тому доказательство.
Прежде чем продолжать, Ардалион Петрович дружелюбно подмигнул собеседнику и пытливым взглядом скользнул по его лицу. И то и другое не имело отноше–ния к сказанному. Пузырев все еще пытался угадать, чем закончилась встреча патологоанатома с Лозовским.
– Я не люблю, когда меня благодарят, мы как–никак однокашники, друзья детства и обязаны друг другу помогать. Твоим мытарствам близится конец, перед тобой раскроются невиданные горизонты, и где бы ты ни был, сможешь рассчитывать на меня.
Слишком велики были минувшие страдания Лозовского и тягостна память о них, чтобы с легким сердцем поверить заверениям Ардалиона Петровича.
– Предо мной, говоришь, раскроются горизонты, спасибо на добром слове, но ты забыл, что я уже не молод.
Как наивны порой рассуждения способных и умных людей! Уж не считает ли он сорок пять лет пределом для научного успеха и карьеры?
– Величайший физиолог всех времен и народов Клод Бернар, – Ардалион Петрович счел нужным аргументировать историей, – стал изучать медицину лишь в зрелые годы, после того как ему не повезло в драматургии. Это не помешало ему затем стать сенатором при Наполеоне Третьем.
– Ты думаешь, такая возможность не исключается и для меня?
Пузырев не оценил шутку Лозовского и неосторожно сказал:
– Не исключена, если ты откажешься от своей лекарственной кухни.
– Это старо, ты бы что–нибудь другое предложил… Ты ведь как–никак серьезный ученый, почти академик, – с учтивой иронией склонив голову, произнес Семен Семенович. – От тебя мы вправе услышать что–нибудь новое.
– Загляни в наш институт и в клинику, там много интересного и нового. Замечательные швейцарские и американские препараты… Первые опыты уже дали обнадеживающие результаты.
– Так ведь это чужое, а где свое?
Пузырев со скучающим видом опустился в кресло. Прежде чем сесть, он не забыл аккуратно одернуть пиджак, подтянуть в коленях брюки и привычным дви–жением проверить, на месте ли галстук. Ему все трудней становилось выслушивать издевки Лозовского. Особенно донимали Ардалиона Петровича дерзкая усмешка, неизменно игравшая на его губах, и здоровый румянец, заревом восходящий от упрямого подбородка до смуглого лба.
– Смотрю на тебя, Семен, и не нарадуюсь, – с неожиданным наплывом нежности, быстро сменившейся грустью, произнес Пузырев. – Здоровье у тебя завидное. У меня оно из рук вон плохо, хоть на пенсию уходи… Стал пешком на работу ходить, моционы совершать по кабинету, гимнастикой занялся.
– Не поможет, – сухо отрезал Лозовский, отодвигаясь от Ардалиона Петровича, как бы порывая с ним всякую близость. Никогда еще этот человек не был ему так противен. Словно предчувствуя всю мерзость того, что ему предстоит еще выслушать, он заранее не владел уже собой. – Тебе следует изменить режим, и решительно…
– Пробовал, да еще как, – охотно признался Ардалион Петрович, – не помогает, и так и этак – одинаково жир нагоняю.
– Я имею в виду режим жизни… Не казаться добрым и простым – ведь ты не такой, не торговать благополучием других и реже топить невинных ради собственного блага. Скверным людям это на пользу, и они от того жиреют.
Пузырев решил ответить тем же, не скрывать больше истинных чувств и с кажущимся простодушием покачал головой:
– Не поверю. Твоя пропись устарела, отжила свой век, и давно. Какой ты, право, старомодный. Мне в школе советовали возлюбить ближнего, как самого себя, – пробовал в детстве, в молодости, пробую сейчас – не выходит. Вот тебе бы, дружок, действительно надо режим переменить. Ты стал желчным и грубым, разучился вести деловой разговор, затеваешь возню, где бы лучше помолчать, без устали язвишь, точно все тебе чем–то обязаны. А ведь было время, Семен, когда ты был другим…
Неожиданная перемена в тоне и обращении Ардалиона Петровича подействовала на Лозовского отрезвляюще. Он вспомнил о намерении Ардалиона Петровича помочь ему и с досадой осудил свое поведение. Чего ради он ломится в открытую дверь, безрассудно ркется в драку как мальчишка. Не проще ли спокойно потолковать и подобру–поздорову расстаться.
– Довольно нам спорить, – с виноватой улыбкой проговорил Лозовский. – Я немного погорячился… Пожалуйста, извини… Говори: зачем я понадобился тебе?
Вопрос этот удивил Ардалиона Петровича. Его изумление было неподдельно и невольно смутило Лозовского.
– Ты Злочевского видел? – начал сердиться Пузырев.
– Видел, что из того?
– Значит, условия тебе известны, я выложил ему все до конца. Что ты юродивого из себя корчишь? – нетерпеливо проворчал Пузырев. – Я все болячки с тебя снимаю, а ты уезжаешь подальше от Москвы и от Евгении Михайловны.
Так вот она, цена его доброго расположения, источник готовности помочь другу в беде!
– Но ведь Евгения Михайловна не твоя жена и свободна, как мне кажется, решать свою судьбу, как ей угодно…
– Моя! – не дал ему договорить Пузырев. – Что бы она ни думала, моей женой останется, я без нее жить не могу.
Наконец–то все прояснилось и встало на свое место. Пузырев тот же, ничего с ним не стряслось. И доброта и отзывчивость – одна лишь бутафория, рассчитанная на комедийное представление. Лозовский почувствовал необыкновенную легкость, обида и гнев куда–то исчезли, он мог спокойно беседовать, не раздражая ни себя, ни Ардалиона Петровича.
– Вот что, мой друг, – безмятежно–спокойным голосом произнес он, – я знаю, что рука твоя всюду настигнет меня, но в сделку с тобой я вступать не могу. Совесть загрызет меня, если я позволю себе хоть что–нибудь взять у тебя. Мы не сговоримся, я Москву не оставлю, а об Евгении Михайловне у нас не может быть и речи…
– Жаль, очень жаль, – с невольно прорвавшимся вздохом проговорил Ардалион Петрович и по тому, как он умильно взглянул на Лозовского и смягчил голос, он, видимо, все еще надеялся на успех. – Мы могли бы с тобой договориться… Чего ради воюем мы с тобой, не пора ли вернуться к прежней дружбе? Оба мы люди науки, врачи, любим историю, не так ли?
– Нет, не так, – впервые усаживаясь в кресло и окидывая своего собеседника понимающим взглядом, сказал Семен Семенович. – И науку понимаем по–разному, и во врачебном искусстве неодинаковы, и историю каждый любит на свой лад. Меня в истории привлекают забытые закономерности и средства лечения, ты в ней ищешь доказательств, что за наукой, как за красной девицей, извечно охотятся фанатики и маньяки, и нет большей заслуги, как держать ее под запором в первозданной чистоте. Неверно, что не из–за чего нам воевать, наша вражда обоснованна и законна. Ты ищешь покоя, чтобы пользоваться благами, которые приобрел, а я этого покоя не желаю. Ты не заставишь меня умолкнуть, не запретишь воевать и любить. Я не дам тебе уверенности, что блага, безнаказанно и бесчестно добытые, не могут быть отняты. До последнего вздоха буду тебе напоминать о себе, и мысль, что я еще жив, надолго отравит твою жизнь…
Дверь открылась, и вошла Евгения Михайловна. Она непринужденно приблизилась к мужчинам, внимательно оглядела каждого из них и, обращаясь к Лозовскому, спросила:
– Что, так и не продали меня? Какой вы, Семен Семенович, неумелый торгаш. А теперь уходите, мне надо поговорить с Ардалионом Петровичем.
Лозовский ушел. Она внимательно огляделась, некоторое время постояла посреди комнаты, и на лице ее отразилось недовольство. «Что за беспорядок?» – про себя произнесла она, выравнивая покосившиеся фотографии на стенах, криво свисающие занавески на окнах и с огорчением убеждаясь, как много пыли на подоконнике и по краям письменного стола.
– Убирает здесь кто–нибудь комнату, что это значит?
Она привычным движением водила пальцем по багетным рамам, склонялась к этажерке и нижним полкам книжного шкафа, всюду наталкиваясь на упущения домашней работницы.
– Везде нужен свой глаз, – строго сказала она, отворачиваясь от подоконника и стола с таким видом, словно в том, что случилось, не ее вина. – Придется почаще самой заглядывать сюда.
– Да, – не очень уверенно согласился Пузырев, – ты давно здесь не бывала. Без хозяина дом – сирота.
Она бросила в корзину валявшуюся на полу бумагу и при этом напомнила ему, что он не оставил дурной привычки швырять мусор под ноги. Поднесенная к глазам статуэтка призвана была прикрыть собой выражение ее лица на случай, если гнев сделает его малопривлекательным.
– Твой дом никогда не осиротеет, – между делом отвечала она, – всегда найдутся друзья, с которыми здесь повеселишься и заодно убедишь их наговорить два короба об институте – этом подлинном источнике знаний и прогресса – и заодно о тебе…
Ардалион Петрович ничего не ответил. Он смотрел в окно на медленно оседающие в воздухе снежинки, на небо, закрытое облаками, мрачно нависшими над крышами домов, глядел упорно и долго, словно выжидая, когда сквозь тучи выглянет солнце и на душе его станет светлей. С некоторых пор общение с женой стало трудным испытанием для него. Он терялся от ее малейшего замечания и робел под ее испытующим взглядом. Вначале эта робость смешила его: откуда это ребяческое чувство, разве она не прежняя Евгения Михайловна – спокойная, уравновешенная и покорная? Пусть временное увлечение лишило ее прежней кротости, пусть взгляд стал строгим, голос резким и требовательным, но ведь характер все тот же… Он тосковал по ее покорности и готовности исполнять его малейшее желание. Он не был капризным и не требовал от нее невозможного, но кто бы мог подумать, что прежняя Евгения Михай–ловиа станет для него тем, без чего его жизнь утратит свой смысл.
– Однако долго вы совещались, – сказала Евгения Михайловна, хлопая рукой по книгам на столе и отстраняясь после каждого хлопка от взвивающейся пыли.
– С умным человеком тратить время не жаль, – произнес он с тем многозначительным выражением на лице, которое в равной мере могло служить похвалой и насмешкой. Помимо обширного набора слов двоякого смысла Ардалион Петрович располагал весьма разнообразной и выразительной мимикой. Даже Евгения Михайловна не всегда правильно оценивала ее значение. – Он чертовски умен, – с прежним выражением на лице продолжал Пузырев, – и я временами готов был его расцеловать.
Он стал пересказывать парадокс, с головоногим моллюском, но вскоре убедился, что она не слушает его, и замолчал.
– Готов, говоришь, расцеловать его, – вдруг вспомнила она, – и думаешь, это доставило бы ему удовольствие?
– Возможно, – неуверенно ответил он, – а впрочем, не знаю.
– Есть такие поцелуи, от которых не поздоровится… В Африке водится так называемый «поцелуйный клоп», кусающий обязательно в губы…
Снова Ардалион Петрович промолчал. Удивительно, до чего она копирует Лозовского: что ни фраза – насмешка, и обязательно едкая. И примеры того же порядка, всегда про запас, словно заготовленные впрок.
Она вертела в руках бронзовую статуэтку, давно уже вытертую и блестевшую от ее стараний. На этот раз внимание Евгении Михайловны приковал к себе плащ, свободными складками ниспадающий с плеч молодой девушки, и крошечная корона, венчающая ее головку.
– Я знаю, что ты не любишь Семена Семеновича, – как бы про себя произнесла она, – и главным образом за то, что он отбил у тебя жену, но будем справедливы – и ты ведь в свое время переманил его невесту.
– Значит, хватило смекалки, – храбро ответил Пузырен. – Без ума такое дело не обмозгуешь.
Он знал, что ей противно его просторечие, и в те редкие мгновения, когда к нему возвращалась прежняя уверенность в себе, он умышленно подбирал наиболее неприятные ей слова.
– Ты вовсе не умен, ты хитер, – с милой улыбкой, более тягостной для него, чем обида, проговорила Евгения Михайловна. – Кто–то сказал, что хитрость зачали в звериной берлоге, а ум – достояние людей. Семена Семеновича ты ненавидишь за его идеализм, с которым у тебя ничего общего нет, за то, что он в жизни не сделал карьеры, цепляется за идеи, которые славы ему не приносят… Впрочем, довольно о нем, поговорим о тебе… Ты напишешь заявление судье и укажешь, что в документацию, посланную институтом, вкралась сшибка – никаких гельминтов у Андросова не обнаружено. Я сама это заявление передам судье…
В решительном тоне, угрожающем и холодном, в низко сдвинутых бровях и недобром взгляде было нечто новое для Ардалиона Петровича. Не оставляя ему времени подумать и ничем не подкрепив свою претензию, она с несвойственной ей решимостью потребовала невозможного. Странно, конечно, она никогда не вторгалась в круг его дел, в тайники, скрытые от глаз посторонних. Поистине в нее словно вселился бес.
– На этот раз, дорогая, – с удовлетворением заметил Пузырев, – ты скопировала меня. Нет ничего более верного, чем удачно приставленный к груди пистолет… Вот что значит быть женой двух ученых мужей! Не пригодится наука одного, вытянет опыт другого.
Евгения Михайловна положила перед ним ручку, придвинула бумагу и сказала:
– Для многих женщин встреча с артистом – приятное событие. Они готовы просмотреть дурную картину, чтобы лишний раз увидеть своего любимца. Я много дет прожила бок о бок с комедиантом, и новая роль его не доставит мне удовольствия.
– Я не могу давать фальшивых справок, – отодвигая ручку и заодно бумагу, сказал он.
– Ты дал ее уже суду, – вспомни, если забыл.
Ардалион Петрович не слишком медленно, но и не торопливо встал, чтобы плотнее прикрыть книжные шкафы, придвинуть стулья к стене и расставить по ранжиру принадлежности письменного прибора.
– Я не понимаю, о какой справке ты говоришь… – притворно стараясь представить себе, о чем идет речь, сказал Ардалион Петрович; он морщил лоб, поджимал губы, искал перед собой воображаемую справку, закрывал глаза, пытаясь мысленно ее увидеть. – Я что–то не помню, не знаю, не видал.
– Я напомню тебе… Бланк лабораторного анализа был заполнен тобой, твоей рукой… Не вздумай его искать, он у меня… Не советую дожидаться, когда я до многого другого дороюсь…
Простим Евгении Михайловне ее обмолвку, ничего больше в ту минуту она не знала. Чего не сделает и на что не отважится сердце, испытанное в любви.
Пузырев выдвинул ящик стола, вынул бланк института и сел писать.
– Тебе незачем было мне грозить, – сказал он, передавая ей бумагу, – я, кажется, никогда тебе ни в чем не отказывал…