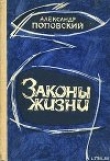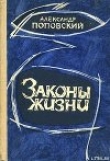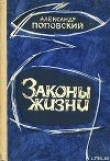Текст книги "Повесть о несодеянном преступлении. Повесть о жизни и смерти. Профессор Студенцов"
Автор книги: Александр Поповский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 45 страниц)
Ассистентке Елене Петровне Сорокиной дали больничный халат, завели историю болезни и поместили в отдельную палату с голубыми панелями и большим окном, обращенным на юг. Стол, застланный простынкой, убрали цветами, пол у кровати закрыли ковриком.
Больная выглядела крайне подавленной, на вопросы отвечала коротко или вовсе молчала, как только осталась одна, бросилась в кровать и зарылась головой в подушку. Ей прежде всего хотелось передышки от дум. Бот уж третьи сутки они изводят ее, отнимают все минуты и секунды ее жизни. Не остается времени ни поговорить о чем–либо, ни расспросить, ни ответить на вопросы. Все, что не требует размышлений, идет само собой: она ест, пьет, одевается, раздевается и немного спит. Словно весть о болезни сорвала все преграды в мозгу, потоки мыслей обрушились и затопили ее. Они идут без отбора, стремительно, бурно, чтобы, исчезнув, вновь и вновь возвратиться. Временами ей кажется, что поток на самом деле – замкнутая цепь с густо насаженными блестками. Ослепительно яркие, они промелькнут, чтобы вскоре вернуться, сверкнуть и снова исчезнуть.
Мыслей было немного, но они, как в бреду, с мучительной настойчивостью повторялись. Снова вопрос, на который никто ей не ответит: как это случилось, отчего, . почему? Неужели потому, что она ест все горячим и пьет чай – кипяток – обжигаясь? Все симптомы болезни были так очевидны, как могла она не видеть их? Так жестоко себя наказать, не пощадить своей жизни! Десять лет повторяла она больным и здоровым, сотрудникам и студентам, что малейшее затруднение при глотании пищи – сигнал серьезной тревоги. Советовала обращаться к врачу, а сама упустила время. Ее бы следовало публично отчитать, выставить напоказ, пусть запомнят другие, как нельзя поступать.
Иногда приходили и утешительные мысли: время еще не упущено, удачная операция вернет ее к жизни. Рак пищевода не всегда порождает метастазы, не создает новых очагов. Это была последняя надежда, и больная не могла и не хотела с этой мыслью расстаться.
Елена Петровна пыталась отвлечься от дум, она бродила по улицам, навещала знакомых, у которых подолгу не бывала, и даже однажды забрела в городской музей, но всюду мысли ее настигали. Истомленная их настойчивостью и однообразием, она покорилась.
В клинике у нее пошли другие размышления, не менее настойчизые и тягостные. Она живо представила себя в положении опасной больной, которую все любят, жалеют и обманывают. Сестры прячут от нее историю болезни или показывают другую, специально заведенную для нее. Все в этих записях – неправда. Никто ей не скажет, какие лекарства прописаны врачом, из чего состоят порошки, пилюли и капли, которые она принимает. Окружающие, предупрежденные, что она скоро умрет, сочтут каждый своим долгом говорить ей неправду, сказать чтс нибудь такое, во что сами не верят и много раз повторяли уже другим. Ложь эту придется с серьезным видом выслушивать, благодарить и улыбаться, чтобы никого не обидеть. Что утешительного могут они ей сказать? Внушить надежды на исцеление, призывать к мужеству, к жизни, в которой природа ей отказала. Эта вера и утешение нужны им, не ей. Им предстоит жить, страдать, испытывать радости и печали… Никто не придет и не скажет: «Вы обречены, Елена Петровна! Утешьтесь тем, что вам не долго осталось страдать!»
Ни предстоящая операция, ни связанные с нею испытания не страшили так больную, как предстоящие свидания и сочувствие людей. Самое лучшее, что друзья могли сделать для нее, – это оставить ее в покое.
Когда медицинская сестра принесла лекарство и спросила, как она чувствует себя, Елена Петровна подумала: «Начинается. Сейчас посыплются утешения, выражения сочувствия, на которые придется что–то отвечать». Сестра поправила постель, велела санитарке еще раз вытряхнуть коврик и с той же милой улыбкой, с какой явилась, ушла.
После обеда пришел Студенцов. С видом хозяина, давшего приют дорогому гостю, директор оглядел палату, не оставил без внимания стол, убранный цветами, и, не задавая больной ни единого вопроса, заговорил. Он жаловался, что работы по исследованию рака теперь замрут. Без нее положительно некому это делать. Ее болезнь протянется месяца полтора, хоть самому на это время переходи в лабораторию. После операции ей будет нелегко наверстать упущенную работу.
Он говорил деловито, спокойно, все выглядело так, словно в институте возникло досадное обстоятельство, заминка, которая потребует времени, после чего все встанет на место. Последняя помеха исчезнет с операцией, неудобства которой ограничиваются тем, что лаборатория временно выйдет из строя.
Елена Петровна не удивилась тому, что услышала. И уверенность, с какой это было изложено, и плохо скрываемое недовольство тем, что исследованиям будет нанесен ущерб, убедили ее, что дело обстоит именно так. Она только подумала, что Яков Гаврилович – этот великий мастер хирургии – слишком уверен в благополучном течении болезни. Даже ему не следовало бы так решительно утверждать, что в полтора месяца с опухолью будет покончено. Можно было бы об этом поспорить…
– Меня несказанно радует, – продолжал Студентов, – что Андрей Ильич взял на себя операцию. Втроем со Степановым мы вас отстоим. За счастливый исход ручаюсь. Нет худа без добра, хорошо, что опухоль расположена именно на задней стенке пищевода.
Дальше следовали рассуждения о том, как много в этом преимуществ для хирурга.
Елене Петровне показалось, что он многозначительно подмигнул и выражение его лица стало загадочным. Странно, он, должно быть, забыл, что она врач и не так уж наивна, чтобы каждому намеку обрадоваться.
– Есть у нас еще один козырь, – закончил Студенцов, – уж этот не подведет нас.
Голос его прозвучал обнадеживающе, и больной стало вдруг легко. С ее напряженного лба сбежали морщины, и маленькие ручки на одеяле замерли в недоумении, капризно сложенные губы хранили молчание.
– Ваша болезнь многому меня научила, – с чувством раскаяния произнес он, и глаза его покрылись непроницаемой поволокой. – У меня скверное обыкновение не объяснять помощникам своих творческих планов. Мне казалось, что сотрудник поддастся искушению мне угодить и невольно натворит ошибок. Желание – великая сила, отбиться от него нелегко. Своей ошибкой я обязан тому, что у меня в лаборатории – не друзья и советники, а лишь послушные, старательные руки. Если бы наши сотрудники были посвящены в мои расчеты, они и без вас смогли бы продолжать свое дело.
Это неожиданное признание не понравилось Елене Петровне. Оно было, как ей казалось, некстати. Стоило ли прерывать серьезный разговор ради праздных размышлений о формах экспериментальной работы. Куда делась тактичность Якова Гавриловича, можно подумать, что судьба лабораторных изысканий занимает его больше, чем здоровье и жизнь ассистентки. «И вовсе не потому прячет он свои планы, что опасается ошибок учеников», – в сердцах подумала Елена Петровна. Он как–то шутя сказал ей другое: «Не зная моих расчетов, помощники не узнают и о моих провалах. Ведь иной раз бывает, что планов нет, явилась мысль, обдумать ее некогда или не хочется, отдаешь ее проверить в лабораторию… Где уверенность, что после десятого – двадцатого провала иному сотруднику не придет в голову, что в институте вообще планов нет, их шеф только и знает, что гадает…»
Больная все еще молчала, но умоляющий взгляд ее просил его вернуться к прежнему разговору.
Студенцов встал, попрощался и вышел. Он понял ее, понял отлично, но продолжать беседу в его расчеты не входило. Вся речь была заранее обдумана, каждой фразе отведено свое место, слова расставлены на виду, как фанерные орудия на мнимых позициях. Лишнее слово могло бросить тень на искусно исполненную композицию. Рисковать было опасно…
Долго еще после ухода Студенцова Елена Петровна вспоминала и перебирала в памяти то, что услышала от него. Над некоторыми фразами задумывалась, повторяла их про себя. Полтора месяца, ведь они промелькнут как неделя… Яков Гаврилович серьезный человек и не будет бросать слов на ветер. У него доброе сердце, он не станет лгать…
Ассистентка Елена Петровна Сорокина не поверила бы, что с злокачественной опухолью легко так разделаться, но больная женщина в палате с голубыми панелями не могла этому не верить, потому что страстно хотела верить. «Хорошо, что опухоль находится на задней стенке пищевода», – вспоминала она и радовалась этому как избавлению. Ассистентка Елена Петровна участвовала в таких операциях множество раз и расположению опухоли никогда раньше не придавала такого значения. Теперь она готова была утверждать, что ей повезло, и операция казалась не такой уже страшной.
Приходу Евдоксии Аристарховны предшествовала шумная сцена, разыгравшаяся у самых дверей палаты. Сильный грудной голос, лишенный мягких интонаций, обрушивался на другой, более слабый и визгливый. Слова и фразы, сухие и гулкие, как удары по бубну, заглушали другие, более ровные и тихие. Пока это состязание продолжалось, Елена Петровна с досадой ждала появления старшей сестры. Она все еще находилась под впечатлением того, что услышала от Студенцова, думала над этим и не могла и не хотела с этими мыслями расстаться. Приятно было лежать с закрытыми глазами и повторять про себя: «Есть у нас еще один козырь, уж этот нас не подведет». Или: «Мы вас отстоим… За счастливый исход ручаюсь!» От этих слов на душе становилось легко и в голове наступало просветление. Ассистентка знала прямой характер старшей сестры и опасалась, как бы неосторожное слово Евдоксии Аристарховны не поколебало этого спокойствия.
Когда больная открыла глаза, перед ней стояла знакомая фигура со сложенными на животе руками. Голова со взбитой прической золотисто окрашенных волос показалась ей драгоценной вазой на массивном постаменте. Внизу из–под халата выступала зеленая кайма шерстяного платья, изящно отороченная шелком, за раскрытым воротом виднелся сверкающий белизной воротничок.
– Извините меня, Елена Петровна, за каприз, – сказала она, употребив немало усилий, чтобы голос зазвучал мягко и приветливо, – хочу чаю, пить хочу здесь, и, по старой привычке, обязательно с вами.
Сестра была чем–то расстроена, но, как всегда в таких случаях, внешне выглядела спокойно. Получив согласие, она ушла и вернулась с вместительным чайником и посудой. Придвинув больной чашку крепкого чаю и вишневого варенья в розетке, она сделала несколько глотков из своего большого градуированного стакана, вздохнула и, видимо не будучи в силах больше сдержаться, заговорила:
– Приходит ко мне насмерть перепуганный Сухов за советом. «Больной, – говорит он, – заупрямился и не желает оперироваться. У него илеус, настоящий заворот кишок, упустишь – человек погибнет. Поговорите вы с ним», – просит он меня. Это что еще за мода – чужим делом сестер нагружать? Другого я отвадила бы, но секретарю парторганизации отказать неудобно. Прихожу. Заглядываю деловым порядком в историю болезни: «двадцать лет»… «студент философского факуль–тета»… «комсомолец».. • «Мне приказано, – заявляю ему, – готовить вас к операции. Говорят, вы отказываетесь, верно это, нет?» Он глаз на меня не поднимает, моргцится от боли и качает головой. «Вы умрете, – говорю я ему, – в течение суток. У нас свой патологоанатом, он вас вскроет, запишет причину смерти и тем кончится». Паренек мой перестал морщиться, глаза поднял, а в них слезы. «Прикажете, товарищ философ, к операции готовиться?» – строго спрашиваю я. Он кивает мне головой. Нахожу Сухова и говорю: «Больной согласен, можете приступать. Запомните, доктор, уговаривать больных не моя обязанность, пора самому научиться. Сделала я только из уважения к вам, как секретарю парторганизации».
Евдоксия Аристарховна сердится: и врач и больной возмутили ее. Ее вздрагивающие руки ушли в карманы халата, а лицо по–прежнему бесстрастно. Затем она большими глотками выпивает свой чай, сдвигает косынку на затылок и наливает второй стакан.
Елена Петровна улыбается от удовольствия, старшая сестра осталась верной себе, такой приходила она и прежде: внутренне взволнованная, внешне спокойная, одинаково искренняя в проявлениях радости и гнева.
После второго стакана сестра развязывает косынку на шее и вспоминает о прелюдии, разыгравшейся за дверью.
– Повадился фельдшер из терапевтического отделения к нашей Ксении Ивановне ходить. Она рада–радешенька, а у меня теперь забота за ней смотреть. С одной стороны, как бы молодчик ее не окрутил. Она – жена погибшего фронтовика, а мы его не забыли. Детей устроили в детский сад, Ксении Ивановне исхлопотали в дом отдыха путевку. У меня на любовь глаз наметанный: влюбится моя сестрица, закружится, а работа прахом пойдет. Спросит меня председатель месткома, тот самый, что заботится о жене фронтовика, как работает Ксения Ивановна, что ему прикажете сказать? Так, между прочим, и случилось: свои дела сестрица забросила, а чужими занялась. Расчувствуется, навертит наша сестрица такое, что десяток врачей за ней не управятся… Вот и сейчас я ей объясняла, что так поступать нельзя… Растолкуйте мне, Елена Петровна, почему летчиков, танкистов и шоферов так тщательно отбирают, а сестер без разбору наряжают в белые халаты?
Длинная тирада внезапно оборвалась. Старшая сестра залпом выпивает чай, снимает косынку и вытирает платком вспотевший лоб.
Больная тихо смеется. Не смешно ли: она опасалась, что сестра расстроит ее, а вышло по–другому, ей стало лучше, просто хорошо. Хочется движений, надоело молчать, хочется спорить, возражать, ввязаться в спор с Евдоксией Аристарховной и над ней подшутить.
– Ксения Ивановна не так уж сильно согрешила, – с притворной серьезностью говорит Елена Петровна, – она ведь никого не пугала смертью, не предлагала больному на выбор: операцию или катафалк.
Старшая сестра обиделась, и голос ее утратил последние признаки мягкости:
– Вы позволяете себе сравнивать грубое самовольство, нарушение долга с тем, что сделала я. Меня к этому обязывало служебное положение, обстоятельства и интересы дела.
Она выпила четвертый стакан чаю, надела косынку и стала собирать посуду.
– Не стоит она, эта женская жизнь наша, чтоб убиваться по ней, – сказала старшая сестра, высоко подняв голову, расправив плечи и приняв позу несокрушимого величия. – Верьте мне, Елена Петровна, не стоит, а тем более не стоит со своим горем вперед забегать. Весь институт настроился вас отстоять. Не помогут, тогда погорюете, а пока еще рано. Говорю это вам не в утешение, а по долгу старшей сестры.
«Милая Евдоксия Аристарховна, – подумала Елена Петровна, – все у нее в плане служебного долга: и добрые дела, и сочувствие, и дружеская услуга. И уверена она в своем гордом сознании, что это у нее не от души, а прямое следствие обязанностей и делового отношения к работе».
– – -
Посещения Студенцова и старшей сестры облегчили душевное состояние Елены Петровны. Она подумала, что отчаиваться рано, слишком много людей заняты ею, они найдут средство ее спасти. Никто из них не считает положение серьезным, надо им верить, они ведь так искренни с ней. Зачем бы они стали рассказывать ей забавные истории? Ублажать прибаутками обреченного больного, кто же это себе позволит. Медицинская сестра приносит каждый раз что–нибудь новое. Сегодня она рассказала о больном пареньке, который, влюбившись в палатную сестру, письменно предложил ей «руку и сердце», вчера что–то другое, веселое и смешное. Никто не лжет, не притворяется и не произносит набивших оскомину фраз. После разговора с каждым из них остается такое чувство, словно кто–то тебя приласкал. Секретарь партийной организации Николай Николаевич Сухов и тот обрадовал ее. Он зашел расспросить о каких–то лабораторных исследованиях, сильно спешил и зсе–таки присел, рассказал, что ее успехами заинтересовались в Академии наук и вопрос о лечении экстрактами селезенки будет там обсуждаться. Ходят слухи, полушепотом добавил он, что Яков Гаврилович представил лично министру средство против новообразований. За достоверность ручаться нельзя, так как все оформлялось без участия партийной организации. Сообщение взволновало Елену Петровну, не об этом ли козыре упоминал в разговоре с ней Студенцов? Какой дружный коллектив, какие сердечные люди, таким нетрудно добиться всего! Они найдут выход там, где другие его не увидят.
Один лишь Андрей Ильич огорчал ее. Он аккуратно приходил после работы, просиживал в палате допоздна и, не сказав почти ни слова, уходил. Сядет у стола, уставится в окно и молчит, спросит, не надо ли ей чего–нибудь, и снова надолго умолкнет. На второй день он попросил разрешения готовить в палате доклад к предстоящему партийному собранию. Елена Петровна не возражала. Между делом он прочитал ей отрывок из монографии, а затем главу из современного романа.
Вначале его молчание было понятно: искренний Андрей Ильич, неискушенный в притворстве и лжи, предпочитал молчать. Прошло три дня, ее судьба волновала уже весь институт, все были заняты мыслью, как вернуть ее к жизни, а он оставался безмолвным. Почему он ничего не расскажет ей, хотя бы о том, на что намекал Яков Гаврилович? Верно ли, что Студенцов создал препарат против опухоли? Почему ее друг не поддержит в ней уверенности или ему нечего ей сказать? Но почему другие нашли возможным… Она чуть не произнесла «утешить», не утешить, конечно, а убедить, что ее положение не так печально, как оно казалось вначале. Пусть не верит, что это так, время покажет, кто прав, но что ему стоит примкнуть пока к тем, с кем он не согласен, чтобы успокоить ее…
Елена Петровна не понимала душевного состояния мужа. С тех пор как у дверей кабинета Студенцова у них произошла размолвка, Андрей Ильич лишился покоя. Он почувствовал, что в его жизнь вошла большая неправда, вошла и утвердилась в ней. Его отношения с женой утратили прежнюю простоту, исчезла свобода говорить что угодно, высказывать свои мысли с той прямотой, с какой это делалось обычно. Прежде чем выразить желание или чувство, приходилось думать о тоне, о выражении лица, отвечают ли они обстановке. Слова выбирать не спеша, осторожно, одни не должны вызывать ассоциаций, – встретиться с ассоциацией страшнее порой, чем с событием, ее породившим; другие не должны быть ни слишком серьезными, ни легковесными и ни в коем случае смешными. Нельзя говорить о болезни и ни о чем таком, что может быть истолковано, как желание обойти эту тему. Хотелось жаловаться, сетовать на судьбу, лишающую его любви и друга, а надо было молчать. Три дня он, предоставленный собственным мыслям и чувствам, отвечал на молчание молчанием, пока на четвертый не случилось нечто такое, что все в нем перевернуло. Когда Андрей Ильич пришел вечером навестить свою жену, он нашел ее за столом, занятой работой. Она сидела, по обыкновению откинувшись на спинку стула, окруженная папками, бумагами и препаратами. На одном окне сверкал новенький бинокулярный микроскоп, на другом были расставлены склянки с реактивами. Елена Петровна ветретила его как всегда, когда он заходил за ней в институт: кивнула ему головой и, не отрываясь от дела, улыбнулась.
Этой перемене предшествовало событие, смысл которого понимал лишь один человек – Мефодий Иванович Степанов.
Ординатор не слишком жаловал Елену Петровну своими посещениями. Во время утреннего обхода он заходил в палату, задавал больной два–три вопроса и, словно чем–то смущенный, торопился уйти. Однажды он сказал сестре: «Ее ждет серьезнейшая операция, наше дело укрепить больную, подготовить сердечнососудистую и нервную систему к этой нагрузке, а она у вас лежит в психическом шоке. Не поддержим сейчас, потом будет поздно. Послеоперационный период потребует своего и ничего не уступит. Повлияйте на нее, упросите, что ли. Вы, женщины, это делаете лучше нас».
На четвертый день он пришел со шприцем в одной руке и клеенчатой тетрадью в кармане. Пока шли приготовления к уколу, Мефодий Иванович не проронил ни слова. Елена Петровна заметила, что он избегает ее взгляда и губы его, как у человека, который подавляет в себе боль, плотно сжаты. Ей стало жаль добряка и захотелось его успокоить. Она мягко тронула его за плечо и спросила:
– Зачем вы утруждаете себя, поручили бы это дежурной сестре.
– Нельзя, – все еще не поднимая глаз, ответил он, – я хочу на вас поставить опыт.
Больная улыбнулась: опыт на человеке, кто ему поверит?
– Вы и меня посвятите, в чем дело, – спросила она, – или подопытного ^то не касается?
– Посвящу, – серьезно произнес хирург, – и даже попрошу вашей помощи.
Так невероятно было то, что Степанов сказал, и так не вязалось это с его серьезным и даже строгим видом, что она невольно рассмеялась.
– Наши физиологи позволяют себе опыты над безнадежно больными, когда эти испытания могут хоть немного испытуемым помочь. Могу ли я на это надеяться?
– Судите сами, – нисколько не задетый ее насмешкой, ответил он, – я буду вводить вам экстракт селезенки, значение которого вы знаете лучше меня. Вы говорили мне, что больным от него становится лучше.
Степанов поднял наконец глаза и стал поспешно застегивать ворот халата. Пальцы в резиновых перчатках долго не находили пуговицы или, нащупав, тут же теряли ее, не поладив с халатом, они стали теребить бородку и усы.
«Что с ним? – недоумевала Елена Петровна. – У него руки дрожат от волнения. Уж не обидела ли я его своей шуткой?»
– Вы сердитесь на меня? – виновато спросила больная. – Не надо, я ведь так… Давно не смеялась.
Ей показалось, что она сказала не то и не так, как надо, и с искусством, которым владеют только женщины, дополнила свою мысль нежной улыбкой.
– Послушайте, Елена Петровна, – ободренный этой улыбкой, начал Степанов. – Окажите мне услугу. Я все эти дни хотел вас попросить, но не смел. Я, как вам известно, экстракту селезенки, как лечебному средству, значения не придавал. Вы пробовали меня убедить, – не выходило. Я, как врач, нуждался в доказательствах, а у вас их не было. Самочувствие кролика, как бы объективно его ни описали, нас не интересует. О болезни мы прежде всего судим по самочувствию человека. И анализ и снимки мне дороги, но коль скоро стонет больной, меня эта объективность не утешит. В таком трудном случае, как использование нового препарата, не всегда достаточны и субъективные показания больного. Есть глубокая разница между самочувствием больного врача и рядового человека. Испытуемый врач и исследователь знает толк в деле и не спутает у себя селезенку с зобной железой. Так вот, Елена Петровна, пришло мне в голову воспользоваться вами для опыта. Вреда тут никакого, это известно вам из собственной практики, а мы тем временем изучим ваши квалифицированные показания. Будет толк, скажем вашему итальянцу – Фикеру – спасибо, дозировку составим и, что называется, введем медикамент в практику.
Он произнес это все одним духом и, словно с ним уже согласились, продолжал:
– Вот вам тетрадка, бумаги и чернил не жалейте, все записывайте. Как бы незначительно ни было ощущение или перемена в вашем самочувствии, ради бога, отмечайте. Результаты мы с вами же будем обсуждать.
Он, видимо, сейчас лишь сообразил, что поторопился, согласия ему не дали, а возможно, и не дадут, говорить о тетради было преждевременно.
– Не откажите в моей просьбе, сделайте, прошу…
По мере того как Мефодий Иванович говорил, недоумение Елены Петровны все возрастало. О чем он так просит ее? Ведь впрыскивание экстракта ей необходимо. Такой ли уж труд сделать запись в тетради? И какой это опыт? Тут ничего экспериментального нет. Множество людей подвергались уже испытанию. Необычна была просьба, непонятно его смущение, и больше всего удивляло несоответствие между выражением лица и звучанием голоса. Черты лица оставались напряженными, тревожными, а голос трогательно и нежно молил. Казалось, Степанова волнуют противоположные чувства. Пока одно находит выход, другое остается настороже. Откуда такая непоследовательность в этой доброй душе, у человека с золотым сердцем?
– Вам незачем просить меня, я это сделаю.
– Спасибо.
Он крепко пожал ее руку, бросил взгляд на клеенчатую тетрадь, предмет его тайных упований, и стал промывать и укладывать шприц. Елена Петровна подумала, что рукопожатие и «спасибо» были выражены по–разному и по различному поводу. Горячая рука благодарила не за то, о чем Степанов просил, а за нечто другое, что главным образом его занимало.
Тем временем с Мефодием Ивановичем произошла пегемена, напряженность оставила его, и он с чувством человека, который долго молчал или говорил не то, что ему хотелось, задушевно и страстно заговорил:
– Ставить опыты на себе – почетное дело и свойственно характеру русского человека. Врачи Минх и Мочуткояский. заподозрив, что возбудитель сыпного тифа циркулирует в крови сыпнотифозных, привили себе кровь больных и чуть не погибли. Мужество этих людей ускорило открытие заразного начала и его переносчика… Да, впрочем, вам ли мне рассказывать… Николай Дмитриевич Зелинский, подаривший человечеству древесно–угольный противогаз, прежде чем отдать свое изобретение армии, проверил его действие на себе. Он завернул кусок угля в носовой платок, закрыл им лицо и пустил отравляющий газ в лабораторию…
Последние слова Степанов произнес взволнованным шепотом. Речь о мучениках науки растрогала его. Тот, кто взглянул бы в эту минуту на него, прочел бы в его улыбке готовность перенести любое испытание, стать мучеником науки, если в этом встретится надобность.
Елена Петровна никогда не узнала, что пережил Степанов, о чем только не передумал в те дни. Надо было вывести ее из состояния психического шока, но как этого добиться? Только творческая страсть, глубокий интерес к любимой работе могли вернуть ее к жизни и подготовить организм к предстоящим испытаниям. Тема о субъективных ощущениях больного врача была придумана для нее, Степанов в ней не нуждался. Он решительно не верил измышлениям итальянца. Нелегко было правдивому Мефодию Ивановичу говорить об одном и желать другого, увещевать больную помочь ему в опыте, желая в душе, чтобы она эту работу для себя полюбила. И горячее рукопожатие и сказ о мучениках науки были последней попыткой признаться в том, что сказать прямо не привело бы к цели.
Степанов не ошибся в расчете. Едва Елена Петровна сделала первую запись в тетради, ей понадобились для справки лабораторные материалы. В первой папке она нашла много интересного, еще больше сулила вторая. К вечеру стол был усеян бумагами и препаратами, возникла надобность в микроскопе. Незадолго до прихода Андрея Ильича увлеченная работой Елена Петровна успела подумать, что записи в тетради пригодятся и ей. Работы в лаборатории и у постели больных до сих пор носили физиологический характер, измерялись различные реакции организма и нисколько не учитывались субъективные ощущения людей. Как можно было пренебречь самочувствием больного, ведь экстрактом на–перевались лечить людей. Этой работы ей хватит надолго, пожалуй, до выздоровления. Яков Гаврилович будет доволен, работа в лаборатории не остановится. Она поведет наблюдения и над другими больными, будет сравнивать их самочувствие со своим. Спасибо Степанову, он невольно навел ее на чудесную мысль.
«Спасибо, Мефодий Иванович, я исполню ваше желание, в тетради вы найдете ответы на все, что тайно и явно волнует вас».
Андрей Ильич по обыкновению хотел сесть у стола, напротив окна, но нашел свое место занятым. Там стояла тумбочка с букетом свежих цветов, присланных Студенцовым. Он сел у дверей, вынул из кармана газету с намерением прочитать в ней обширный материал, напечатанный на первой странице. Статья обещала быть интересной, затронутый в ней вопрос давно занимал его, но прочитанное почему–то не запоминалось, никак не укладывалось в голове. Над всеми мыслями господствовал недоуменный вопрос: «Что случилось? Что с ней?» Откуда эта разительная перемена? Недавняя больная выглядела здоровой и свежей, ее уверенные движения говорили о душевном мире.
Он решил отложить чтение статьи на другой раз и стал просматривать корреспонденцию об одной партийной организации на селе. В ней шла речь о каком–то плане работ, принесшем колхозу значительные выгоды. Снова Андрей Ильич ничего из прочитанного не запомнил и решил прежде выяснить, что случилось с женой, а уж потом заняться газетой.
– Почему ты не спросишь, чем я занята? – не отрываясь от бумаг, заговорила она.
Он решил, что теперь можно меньше задумываться над каждым словом, прежде чем его произнести, и непринужденно сказал:
– Все жду, когда мне расскажут.
– А если я промолчу? – бросив на мужа лукавый взгляд, спросила она.
– Тогда и я промолчу.
«Что случилось? – не переставал Андрей Ильич спрашивать себя. – Откуда эта перемена? Анализы ли оказались неверными, или в рентгеновский снимок закралась ошибка? Что означает эта работа в палате клиники?»
Елена Петровна обернулась к мужу и ласково упрекнула его:
– Нехорошо. А у меня много интересного.
– И у меня. Я написал этюд, – невольно вырвалось у него. – Он должен тебе понравиться.
Она потянула мужа за рукав халата, заставила встать и нарочито строго приказала:
– Сейчас же принести его сюда. Немедленно.
Лукавая улыбка придала ее капризно сложенным губам выражение упрямства, и Андрей Ильич подчинился.
«Какая умница! – глядя на ее спокойное, веселое лицо, подумал он. – Сколько силы воли! Откуда это у нее?»
Когда он вернулся, Елена Петровна освободила картину от обертки, поставила ее у окна и долго разглядывала, то приближаясь, то отступая от нее. Андрей Ильич с тревогой и интересом следил за каждым движением жены. Она энергично вертела полотно, искусственно освещая и затемняя его, заглядывая на него со стороны, опускаясь на стул и снова вставая.
Руки ее не оставались спокойными: взлетая и падая, они своими движениями как бы сопутствовали каждой ее мысли. Время от времени она вооружалась карандашом, свернутой в трубочку тетрадью, чем попало, и тогда жесты становились еще выразительнее. Когда маленькая фигурка порывистым движением поспешно отходила к двери, чтобы издали разглядеть этюд, широкие шаги ее, по–прежнему твердые, сопровождались громким стуком каблучков.
«Все такая же, – подумал Андрей Ильич о жене, – как будто ничего не случилось».
– Это левый берег Волги? – вспомнив поездку на пароходе и ландшафты, восхитившие Андрея Ильича, спросила она. – Ну да, – лукаво улыбаясь, продолжала Елена Петровна, – серебристый ковыль, тени облаков бродят по лугу Бурый камыш и рощица на горизонте… Не вижу только, чтобы тут все кипело и радовалось.
Удивительно, до чего их вкусы были различны. И в науке, и в искусстве, и в домашнем быту каждый любил свое. Он, мечтатель, очарованный природой, любил ее красочное разнообразие. В поле и в лесу его привлекали нюансы света и тени. Всюду и везде, в тучах ли, в небе, на траве или листве, он прежде всего видел смену колорита: мягкие или грубые, резкие или тонкие, нежные или блеклые тона. Она в поле и в лесу находила другое, – ее привлекали не краски и оттенки в природе, а сама жизнь в ее неисчерпаемом многообразии: и нора крота, и желтогрудая певунья, и грызун на охоте. По звучанию голоса она нарисует птицу, по шороху воспроизведет зверька. Ее мир был полон борьбы и движения, и, воздавая должное пейзажам мужа, ей хотелось всегда насытить их жизнью. Андрей Ильич не возражал, и строгий в своем одиночестве уголок природы, выписанный твердой и решительной рукой, другой рукой смягчался нежным мазком. То в запущенном саду появится милая скамейка, много перевидавшая на своем веку, то в еловом лесу высунется из ветвей любознательная мордочка белки, или на заброшенном пустыре возгорится спор в стайке неспокойных воробышков…