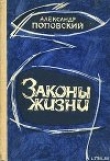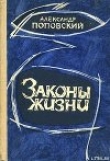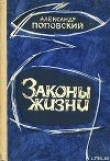Текст книги "Повесть о несодеянном преступлении. Повесть о жизни и смерти. Профессор Студенцов"
Автор книги: Александр Поповский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 39 (всего у книги 45 страниц)
Решение партийного бюро взбудоражило умы института. Давно уже в его стенах не было столько страстных дебатов и споров. Так как каждому хотелось знать мнение другого и обязательно высказать свое, научная деятельность из палат и лабораторий переместилась в дежурные помещения. Подробно ознакомившись со всем тем, что думают на одном этаже, сотрудники спешили на второй и третий. Когда первые волнения утихли, в институте определились две точки зрения: одна сводилась к тому, что новая метла метет чисто, оботрется – и все пойдет по–старому; другая принадлежала тем, кто давно мечтал об освежающих идеях, о более энергичных научных исканиях. Решение партийного бюро отвечало затаенным желаниям этих людей, и они первые явились за творческой темой. Их примеру последовали менее решительные, вслед за врачами пришли гистологи, физиологи и биохимики. Не остались в стороне доктора наук, они выразили готовность руководить работой диссертантов, сколько бы их ни было, помочь им выполнить исследования в короткий срок. Многие в те дни приходили к новому заместителю, – кто с советом, кто с предложениями. Немногие остались в стороне, и одним из них был Степанов. Не дождавшись Мефодия Ивановича, Сорокин отправился к нему и после некоторого разговора на общие темы сказал:
– Говорят, вы решили не связывать себя с научной работой. Я хотел вас предупредить, что мы не будем настаивать на этом. Институт готов допустить для вас исключение. Ваша система ухода за больными, дух и тактика лечения могли бы сами по себе быть предметом глубокого исследования…
Мефодий Иванович, который слушал заместителя директора и между делом прислушивался к слабым стонам, доносившимся с кровати за его спиной, удивленно взглянул на Андрея Ильича.
– Никакой такой системы у меня нет. Экие слова выдумали: «тактика лечения»…Ас чего вы взяли, что я отказываюсь от научной работы, – с притворным недовольством спросил он, – впервые слышу.
– Вы мне ничего не заявляли, – на притворное недовольство ответил притворным простодушием Андрей Ильич.
– Вам не сказал, а про себя знал.
Ему не удалось сдержать з’лыбку, и она рассказала многое, о чем бы Мефодий Иванович охотно умолчал. Заместитель директора почувствовал в этом призыв к примирению и поспешил согласиться.
– Не скажете ли и нам, когда вы представите аннотацию будущей работы? Не забудьте, кстати, в ней указать, чем именно вы хотите порадовать нас, – шутливо заключил Сорокин.
Пришли к Андрею Ильичу и руководители бригад, обследующие городское население. За короткое время они успели зыявить много предраковых и раковых больных и готовились с врачами других больниц распространить свою деятельность на новые районы. После обсуждения подробностей предстоящей работы Сорокин снова напомнил им:
– Объясните населению, что мы не всегда можем излечить больного, но умеем зато самую болезнь предупредить. Пусть вовремя обращаются к нам, и мы им поможем. Будьте внимательны к старым рубцам на теле, особенно к тем, которые рвутся и кровоточат. Не оставляйте без внимания прежние ожоги и язвы, особенно на голени. Уговаривайте больных не ждать, когда края рубцов начнут утолщаться, твердеть и распадаться. Будьте суровы в своей правде, не уставайте твердить населению, что алкогольные и табачные отравления – страшные пособники рака.
Молодые бригадиры обещали не забывать советов, он готов был уже отпустить их, но в последнюю минуту вспомнил:
– Не забывайте обследовать полости рта, будьте внимательны к изменениям, которые увидите в толще языка и слизистой оболочке рта. Молочно–белые болезненные язвочки – зловещее предостережение. Запрещайте таким больным курить. И вот еще что: не упускайте случая подсказать обследуемым, чтоб лечили испорченные зубы, расскажите им, как много бед могут натворить острые края полусгнившего зуба.
В тот же день к заместителю директора пришел Сухов. Он был крайне встревожен, говорил отрывисто и избегал глядеть в глаза собеседнику.
– Я прошу вас считать наш разговор официальным, – сдержанно–холодным тоном сказал он, – я жду прямого и точного ответа: намерены ли вы познакомиться с работой, о которой я не раз уже вам говорил? Институт нуждается в разработке новых методов лечения рака, их надо искать и дорожить всем, что нам предлагают. У нас должна быть своя тема, свое направление. Я говорил это вам и повторяю снова: в диссертации Андреева все это есть, Андрей Ильич обещал прочитать работу и завтра же продолжить этот разговор.
На следующий день, не дожидаясь прихода Сухова, Сорокин отправился к нему, привел его в дежурное помещение и, когда они остались одни, сказал:
– Можно мне побеседовать с вами неофициально, запросто, от души?
Диссертант не отвечал. Он медленно поднял упрямые глаза и сказал:
– Хорошо.
Сорокин обнял молодого человека и похлопал по спине:
– Молодец! У вас прекрасное чутье на большие идеи. В диссертации Андреева их хватит не на один, а на пять институтов. Передайте ему, что мы его ждем.
Взволнованный Сухов снова забыл все на свете. Он прижал к груди молитвенно сложенные руки, взглянул на того, кого недавно лишь так ненавидел, и, счастливый, произнес:
– Сегодня же мой дядя будет здесь, я поеду за ним. Вы полюбите его, таких, как он, нет больше на свете.
– Так Андреев – ваш дядя! – удивился Андрей Ильич. – Почему же вы раньше мне не сказали?
– И фамилия его, – не слушая вопроса, продолжал он, – не Андреев, а Ванин. Он – друг детства Якова Гавриловича, они большие друзья.
Сорокин не любил ни сложных биографий, ни путаных историй, то, что Сухов ему преподнес, именно этими недостатками страдало. Можно было примириться с тем, что у Николая Николаевича – замечательный дядя, редкий человек, какого не сыщешь, но почему у него две фамилии? Если он друг детства Якова Гавриловича, и они действительно большие друзья, почему он оставил диссертацию без внимания?
– Не съездить ли нам к вашему дяде? – все еще не отделавшись от своих сомнений, спросил Андрей Ильич. – Ведь это недалеко?
Сухов принял это предложение с восторгом, он уверял, что дорога пролетит незаметно, он попросит у директора машину, сядет за руль и за три часа свезет его туда и обратно. И Самсону Ивановичу будет приятно, это доставит ему удовольствие. Ванин этого стоит, надо его знать, раз взглянув на него, нельзя его не полюбить.
Было решено, что в первое же воскресенье они рано утром поедут, чтобы к обеду вернуться домой.
15К Ванину поехали втроем – перед самым отъездом Елена Петровна попросила взять ее с собой. Она успела уже после операции окрепнуть и с неделю как приступила к работе.
Стояла теплая, сухая осень. Опаленная степь пожелтела, ковыль рыжими клочьями покрыл ее. Солнце все еще грело, но сияние его блекло, иссякал жар, и с ним уходило теплое дыхание земли.
Андрей Ильич уселся на заднем сиденье, раскрыл книгу и стал читать. Елена Петровна села рядом с Суховым, с интересом наблюдая, как он легко и непринужденно переключает скорости, ловко огибает препятствия и перед неожиданной выбоиной или вдруг возникшей помехой плавно замедляет ход. Они разговорились. Она спросила, давно ли он научился водить машину, и похвалила его искусство. Узнав, что Самсон Иванович приходится ему дядей, она сказала:
– Если это вас не затруднит, расскажите мне о нем.
Николай Николаевич не заставил себя просить, разговор о дяде не мог его затруднить, наоборот, неизменно доставлял удовольствие. Он сразу же заговорил с высокой ноты, страстно, горячо, отрывистые жесты становились все более частыми, левая рука оставила руль, н управление машиной перешло к правой.
Елена Петровна внимательно слушала, ей виделась высокая мощная фигура врача, доброго, нежного, с мягким певучим голосом и широкой приветливой улыбкой. Рядом с ним – его жена Анна Павловна. У нее волнующий голос, слова она произносит четко и ясно, словно с тем, чтобы, проверив на собственный слух, уберечь их от ложного звучания. У нее спокойный белый лоб, детски свежий изгиб рта и мирные голубые глаза. От них становится легко и приятно, забываются огорчения и заботы.
Сухов не жалел красок: Анна Павловна и мила и прекрасна, соглашаясь с собеседником, она часто кивает головой и при этом ласково улыбается. Ее возражения всегда осторожны и звучат как извинения, от смущения она зардеется, но умеет и отчитать, поставить человека на место. Доставалось и Самсону Ивановичу от нее, он потом вспоминал об этом долго. Они чуть не рассорились и все–таки поженились.
Николай Николаевич заговаривает о чем–то другом, но маленькая ручка касается руки, лежащей на руле, и как бы требует к себе внимания.
– Вы не рассказали, – говорит Елена Петровна, – как это случилось?
Да, да, она хочет знать эту историю до конца.
Сухов машет рукой, об этом долго говорить, всего не перескажешь.
Тем более интересно послушать. Впереди у них более чем достаточно времени.
Николай Николаевич исполняет и эту просьбу.
Началась эта история по вике фельдшера Петра Васильевича. Он скверно принял Анну Павловну, когда она с чемоданчиком в одной руке и с путевкой в другой прямо из института прибыла в участковую больницу. До этой встречи все шло хорошо. Ей понравился больничный двор на опушке леса, черные стаи ворон на кронах сосен и елей и неумолчное карканье птиц. Девушка залюбовалась полем, лежавшим по ту сторону двора, высокой рожью, ходившей ходуном. Было время цветения хлеба, и в воздухе стояла мгла от ржаной пыльцы. Когда она оторвала глаза от степной дали, перед ней неожиданно вырос мужчина в белом халате. Он прихрамывал на левую ногу, но держался твердо и прямо. Заложенные назад руки, седые усы с подусниками и густые, низко сдвинутые брови придавали его лицу выражение важности. Он испытующе оглядел ее, бросил взгляд на чемоданчик и назвался больничным фельдшером. Она сообщила ему, что назначена сюда врачом. Он несколько раз сказал «хорошо», «давно пора» и взял из ее рук путевку.
Голос у него был внушительный, даже строгий, каждое слово продумано, взвешено. Не спеша снял он очки, чтоб прочитать путевку, и так же неторопливо надел, чтобы поверх стекол разглядеть нового врача. Правая рука держала документ, а левая то приближалась, то пугливо отступала или вовсе уходила в карман халата. Так движимый неясной тревогой ребенок касается игрушечного зверька: любопытно и страшно.
Он возвратил ей бумагу и, заложив руки назад, сказал:
– Не имею права принять, не могу.
– Почему? Ведь вы – заведующий больницей!
– Я самый и есть, – не без достоинства ответил он. – Тридцать пять лет здесь тружусь, а всего сорок с лишним.
Он бросил на путевку неприязненный взгляд и отвернулся.
– Почему вы отказываетесь принять назначение? – испуганно и вместе с тем удивленно спросила девушка.
Фельдшер поморщил лоб и пожал плечами: несмышленый народ – молодежь.
– Не по инстанциям скачете, – назидательно произнес он, – командировка отмечена областью, а мы эту область знать не знаем и ведать не ведаем. Наше начальство – район. Кто из них старше, не мое дело.
Он не дает ей говорить, ничего дельного она не скажет.
– Я тут, голубушка, не вас первую и не вас последнюю встречаю. За тридцать пять лет врачей здесь перебывало без счета и числа. За один прошлый год восемь заведующих принял и спровадил. Придут, покружатся и сбегут, а ты за них отвечай… Одна тут такой рецептик отколола, что больной чуть душу не выплюнул.
Фельдшер поправил очки и заложил руки назад, готовый уже уйти.
– Постойте! – почти в отчаянии останавливает она его. – Помогите мне. Ведь я никого не знаю.
– Обратитесь в ра–йон, – отвечает он ей, – не надо скакать. Всякому делу свое время и место.
До района двадцать два километра, кто ей покажет дорогу? Фельдшер как будто недоволен, она, должно быть, не понравилась ему. Обратиться в село за подводой – пожалуй, откажут.
– Таково было начало, – сочувственно произносит Сухов, – затем пошел разлад с больными…
– Погодите, – перебивает его Елена Петровна, – что же, она отправилась в район или фельдшера упросила?
Сухов улыбается, вопрос этот его рассмешил. Анна Павловна не такая: ни просить, ни уезжать она не стала, приказала завхозу открыть квартиру врача и расположилась в ней. К вечеру она вызвала фельдшера, пригрозила его выгнать и пошла с ним осматривать больницу.
Елена Петровна хлопает в ладоши от удовольствия. Нет, какая умница! Вот что значит проучить! Чудесно!
– Ты послушал бы, Андрюша, – со смехом обращается она к мужу, – интересная история.
Андрей Ильич нехотя откладывает книгу и перегибается к ним.
Николай Николаевич рассказывает, как строптивая и неопытная Анна Павловна поссорилась с фельдшером, повздорила с больными, и те перестали у нее бывать, шли за семь километров на прием к Ванину. Огорченная и расстроенная, она явилась к Самсону Ивановичу и потребовала, чтобы он не принимал ее больных. Она крепко посердилась, наговорила ему всякой всячины, и все–таки они подружились. Ванин обещал ей помочь и сдержал слово. Он назавтра же приехал к ней на участок, осмотрел стационар и провел все время на приеме. Больных пришло мало – пять человек. Анна Павловна принимала, а Самсон Иванович сидел в стороне. То же самое повторилось и на другой день.
«Теперь, – сказал он ей, – вы побудете в гостях у меня. Кое–чему я у вас поучусь, кое–что вам пригодится из моего опыта. Через недельку–другую у вас приемная будет ломиться от больных».
Она приехала к нему и села в амбулатории рядом с ним за стол. Так, обмениваясь мнениями, провели они прием. «Теперь, – сказал ей Самсон Иванович, – принимайте больных вашего участка. Я оставил их для вас».
– Вот это была неожиданность, – весело расхохотался Сухов. – Они входили, смущенные, не зная, что делать, как себя держать.
«Говорите, говорите, – подбадривал их Ванин, – чего время даром терять. Не хотели к себе в больницу ходить, извольте сюда – за семь верст хлебать киселя».
– Когда у Анны Павловны было уже много работы, – закончил Николай Николаевич, – она продолжала навещать Самсона Ивановича, бывать у него на приемах. Эта история сосватала их, вот уже год, как они поженились.
Елена Петровна снова кладет свою маленькую руку на руль и, слегка касаясь его руки, с упреком говорит:
– Амбулаторный прием никого сосватать не может. Надо, чтобы люди друг друга полюбили.
– Разумеется, – быстро соглашается он, – но то другая история, и ее интересно рассказывает Самсон Иванович… Не подумайте только, – умоляет он Елену Петровну, – что я сказал не то или преувеличил, увидите их, сами убедитесь.
Ему очень хотелось, чтобы Елена Петровна поверила ему, и он с юношеской горячностью долго еще возносил Ванина и его замечательную жену.
Тем временем Андрей Ильич вспомнил, что, рассказывая ему о своем дяде, Николай Николаевич чем–то его, Сорокина, озадачил. Вначале эти сомнения казались ему важными и он даже хотел поговорить с Суховым, но вскоре о них забыл. Сейчас Андрей Ильич припомнил, что именно тогда озадачило его, и спросил:
– Скажите, Николай Николаевич, почему у вашего дяди две фамилии – Андреев и Ванин? Вы говорили, что они друзья с детства с Яковом Гавриловичем, почему же Студентов оставил диссертацию без внимания?
– Так ли это важно, – возразила Елена Петровна, считавшая важным в тот момент не то, что занимало Андрея Ильича, а то, что обещал ей рассказать Сухов.
Николай Николаевич готов был рассказать Сорокину о неблаговидной роли Якова Гавриловича, как он обидел своего друга Ванина, но, вспомнив, что Андрей Ильич упрекнул его однажды в неделовом бунтарстве, когда он посоветовал ему опасаться директора, – решил сейчас уклониться от ответа.
– Ваш вопрос, Андрей Ильич, очень важен. Это особая история, длинная и грустная, мы о ней поговорим в другой раз. Вот и больничные корпуса, мы приехали.
На бугре показался высокий крепкий забор, опоясывающий больницу, и широко раскрытые, добротно сколоченные ворота. Машина, подпрыгивая по неровному булыжнику, обогнула фруктовый сад, проскользнула между стационаром и амбулаторией и остановилась у дома Ванина. Сухов вошел и вскоре вернулся с сообщением, что Самсон Иванович вчера уехал к жене и вернется только завтра.
– Поедем к ней, – предложил он, – кстати, познакомитесь с Анной Павловной. Не пожалеете, тут недалеко, семь километров по большаку.
Уловив одобрительный взгляд Елены Петровны, он сел за руль, на радостях свистнул, нажал кнопку сирены и, лавируя между деревьями, выехал коротким путем к воротам.
Осеннее солнце начинало пригревать, и там, где ложились его блеклые лучи, белой дымкой взвивалась утренняя прохлада и сверкали на зелени капли росы.
Дорога шла степью, заросшей бурьяном. Ветер пригибал макушки кустов, и они как бы кланялись мчащейся навстречу машине.
– Ты, может быть, пересядешь сюда, – предложил Андрей Ильич жене, – тут тебе будет лучше.
Сухов в это время что–то рассказывал ей, и чтобы не прерывать интересный разговор, она жестом поспешила отказаться.
Машина свернула с большака и стремительно подъехала к больнице. Николай Николаевич проскользнул во двор, нашел в известном ему месте ключ и раскрыл ворота.
– Вот мы и прибыли, – сказал он, лихо подъезжая к широкому крыльцу большого деревянного дома. – Пойду предупрежу их, они где–нибудь тут.
Он вернулся в сопровождении молодой женщины, одетой в длинное голубое платье с беленьким строченым воротничком. Она пригласила гостей в дом и тут же добавила, что Самсон Иванович с утра уехал к председателю районного исполкома и будет дома только к обеду. Если дело не терпит, Николай Николаевич свезет их туда. Дорога – хорошая, не больше пятнадцати километров.
Решили, что Андрей Ильич поедет, а Елена Петровна его здесь подождет.
Сухов вынул из багажника горшочек с цветком и, передавая его хозяйке, сказал:
– Редчайший зверек, исключительный, приеду, расскажу вам о нем чудеса.
Она ласково кивнула ему головой и почти шепотом произнесла:
– Спасибо.
Пока хозяйка разговаривала с Андреем Ильичом, Елена Петровна разглядела ее. Она была выше среднего роста, хорошо сложена, пышные каштановые волосы, причесанные на прямой пробор, мягко оттеняли несколько бледное, с чуть выдающимися скулами лицо. Голос у нее действительно был нежный, и слова она произносила четко и ясно. Спокойствие сквозило в ее движениях, таких же сдержанных и четких, как и речь; покоем веяло от ее лица, и больше всего его было в глазах – самом мирном царстве, куда когда–либо заглядывал человек.
Когда машина ушла и они остались одни, хозяйка протянула руку гостье и сказала:
– Будем с вами знакомы, меня зовут Анна Павловна, ваше имя я уже знаю. – Вспомнив о горшочке, который держала в руках, она с улыбкой добавила: – Николай Николаевич знает мою слабость и часто балует меня такими подарками. «Зверек» как будто в самом деле хорош, – любовно поглядывая на горшочек, проговорила она.
Хозяйка открыла дверь, пропустила Елену Петровну, и они маленьким коридорчиком прошли в большую комнату, сплошь уставленную и увешанную растениями. На столиках, полках и скамеечках заботливая рука самым причудливым образом разместила вазоны и корзинки с цветочными растениями. Их стебли и ветки свисали с потолка, лепились вдоль стен или вились вдоль окон.
– Это мой домашний сад, или зверинец, как его называет Николай Николаевич, – с нескрываемой гордостью произнесла Анна Павловна, устанавливая подарок Сухова рядом с вазоном, покрытым нежно–голубыми колокольчиками. – Больные, узнав, что я люблю цветы, просто извели меня. Всю амбулаторию и стационар заставили растениями. Мне как–то даже совестно, когда я подумаю, что они расстаются с любимыми цветами из–за меня.
Она виновато улыбнулась, и лицо ее густо покраснело.
– Вот эту горку сделал больной и ни за что не согласился взять у меня денег. Пришлось сделать его жене подарок.
Елена Петровна внимательно слушала ее и с еще большим интересом наблюдала за ней. Переставляла ли она с места на место горшочки, отодвигала ли корзинку, чтобы не мешать распустившемуся цветку, или просто глядела на своих питомцев, – во всем сквозили глубокая нежность и тепло.
– Я тоже люблю цветы, – сказала Елена Петровка, – не так, как вы, конечно. Мне и места для них не найти, и времени мало. Вы их любите по–особому, у вас с ними как будто общий язык.
Хозяйка с благодарностью взглянула на свою гостью и сразу же заговорила полушепотом:
– Мне с ними не скучно, они ведь умеют и говорить и даже капризничать. Они своенравны, как дети, одному дай одно, другому не то, а другое…
Она непринужденно обняла Елену Петровну, подвела ее к одному из своих зеленых питомцев и, указывая на него, сказала:
– Вот этот перистый цветок, лапчатый, неуклюжий и как будто суровый, – плакса. Самая настоящая плакса. Он слезами подсказывает мне непогоду: выступили на нем росинки – значит, будет дождь.
Она рассмеялась и ласково потрогала горшочек, в котором уместилось такое диковинное растение.
– А вот этот, поверьте, – живородящий…
Елена Петровна вспомнила рассказ Сухова о том, как Анна Павловна приказала завхозу открыть квартиру и вопреки запрету вселилась в нее; как она строго и даже грозно потребовала от Ванина, чтобы он не принимал ее больных, – и не поверила этому. Где уж этой милой скромнице воевать и «ставить людей на место».
– Так вот у этого живородящего цветка, – продолжает хозяйка домашнего зверинца, – без цветения и всего прочего появляются детеныши, как две капли воды похожие на него. Такой же водохлеб, как родитель. Вы, конечно, догадались, что зовут его «папирус». Своенравный, – тоном матери, распекающей озорника, произносит она, – чадолюбивый, вон у него сколько деток, а цвести не хочет. Чего ему не хватает, не знаю. Всего, кажется, ему давала, а он, упрямец, не уступает.
Она водит гостью от цветка к цветку, нежно улыбается своим баловням, упрямым и любимым, причиняющим ей столько хлопот.
«Она милая, очень милая, – думает Елена Петровна, – с ней действительно легко, забываются огорчения и заботы, но откуда эта трогательная привязанность к комнатным цветам?»
– Мы, женщины, – как бы угадав ее мысли, говорит Анна Павловна, – только тогда по–настоящему и счастливы, когда имеем возможность растить новую жизнь. У кого это – привязанность к ребенку, у кого к цветам…
Эти слова, как бы нечаянно оброненные, настораживают Елену Петровну. Ей кажется, что она расслышала в них тайное признание тоскующей души, и с интересом ждет продолжения. Анна Павловна не замечает ее вопросительного взгляда или делает вид, что не замечает, и заговаривает о другом:
– Вообразите, мой муж не одобряет меня. В растениях, говорит он, хороши либо их плоды, либо заключенные в них лекарственные вещества. Он часто спрашивает: к чему это мне, какая от этого польза? Я пытаюсь ему объяснить, но у меня ничего не выходит. Самсон Иванович советует мне разводить павловские лимоны, но подумайте, мой друг, они раз в году цветут, и то мимолетно.
В дверь несмело постучались, и вошел паренек лет восемнадцати, в белой рубахе, свежевыглаженных брюках, с повязкой красного креста на рукаве. Увидев незнакомого человека, он вопросительно взглянул на Анну Павловну, хотел уже повернуться и уйти, но она пошла ему навстречу, взяла за руку и отвела в сторону.
– Что случилось, Степа? Ты ко мне?
Он несмело одернул рубаху, отвел глаза от Елены Петровны и доверительно заговорил:
– Был уговор на нашу деревню нагрянуть, чистоту проверить. Санитарки и сестры уже там, вас ждут. Вы обещали заглянуть. Наши посты все на месте.
Она внимательно слушала его и тем временем бережно поправляла повязку на его рукаве.
– Спасибо, что напомнил, я чуть не забыла, – сказала она, – передай, что я скоро приду.
Когда дверь за пареньком закрылась, хозяйка пригласила гостью в дом, подала чаю, плетеную корзинку с яблоками и грушами и тарелку с печеньем. Она не говорила больше ни о цветах, ни о чем–либо другом, лицо ее выражало озабоченность, движения утратили свою мягкость и стали по–деловому строги.
– Вы не обидитесь, – некоторое время спустя спросила она, – если я вас оставлю здесь на часок? Меня ждет одно дело, откладывать его нельзя. Хотите, пойдем с вами, деревня – рядом, минут двадцать ходьбы. Боюсь только, вам будет неинтересно, дела у нас будничные, не то что у вас, ученых.
Хотя приглашение прозвучало просто и искренне, Елена Петровна уловила новые интонации в ее голосе – более твердые и даже решительные.
«Ей, должно быть, сообщили что–то неприятное, – подумала Сорокина, – и она огорчилась».
– Я охотно пойду с вами, – согласилась Елена Петровна, – надеюсь, это не очень меня утомит.
– Нет, нет, мы спешить не будем. Да и дорога приятная, легкая.
Она надела поверх платья врачебный халат и плотный клетчатый пыльник, покрыла каштановые волосы цветным платочком и взяла в руки маленький желтой кожи портфель.
Они вошли в лиственную рощицу, окружающую больницу, пересекли ее и вышли к пруду, обсаженному ветлами и ивняком. Анна Павловна говорила очень мало, роняла скупые замечания, отвечала односложно и, видимо, занятая своими мыслями, часто забывала о спутнице. Это особенно становилось очевидно, когда, дав волю своей энергичной походке, она вдруг замечала, что Елена Петровна едва поспевает за ней. В таких случаях она виновато улыбалась и говорила:
– Простите, так бывает всегда, когда я задумаюсь.
У ветхого мостика, проложенного через речку, она предупредила Елену Петровну:
– Будьте осторожны, мост не рассчитан на наши каблуки, в нем много щелей и дыр.
Она заговорила о районном исполкоме, который небрежно относится к своим обязанностям; на этом мостике недавно произошел несчастный случай. Колхозы тоже забывают свой долг, и с теми и с другими приходится спорить.
Елена Петровна воспользовалась завязавшимся разговором, чтобы отвлечь спутницу от мыслей, расстроивших ее.
– Николай Николаевич рассказывал, как вам нелегко было здесь первое время.
Она приглашала ее вернуться к сердечным признаниям, начатым в домашнем саду. Анна Павловна с благодарностью взглянула на нее и со вздохом, который означал, что предложение принято, сказала:
– Да, бывало нелегко, не все хорошо и сейчас.
Трудно ей было с фельдшером. Чудной человек, степенный, серьезный, любит больницу, почтителен к врачу, неизменно послушен, а не было у нее доверия к нему. Молчание его казалось ей скрытой угрозой, в каждом вопросе чудился расчет, желание опорочить, собрать улики, чтобы потом повернуть их против нее. Все в нем тревожило ее: и манера закладывать руки назад, отставлять ногу, чтобы скрыть хромоту, надевать и снимать без причины очки. Временами ей казалось, что Петр Васильевич неплохой человек, искренний, добрый. Отнесись она к нему лучше, внимательней, все, возможно, пошло бы иначе. Случай подтвердил, что это так. Перебирая свои рецепты в аптеке, она заметила на них поправки, сделанные чужой рукой. Кто–то, ловко подделывая ее почерк, аккуратно их исправлял.
– Зачем вы корректируете рецепты врача, – спросила она его, – я, кажется, вас не просила.
Он сильно смутился и ничего не ответил.
– Вы слишком много себе позволяете. Я объявляю вам выговор.
Он вздохнул и виновато проговорил:
– У нас бывают ревизии из аптекоуправления, увидят ошибку, другую и разнесут по району. Что им стоит больницу осрамить.
Она выписала эти ошибки, чтобы не повторять их. Ей кажется, что теперь они с фельдшером станут друзьями.
Елена Петровна начинает узнавать ту решительную и твердую женщину, о которой Сухов рассказывал в пути. Такая действительно «отчитает и поставит человека на место», но как совместить эту суровую строгость с той безудержной нежностью, так отчетливо выраженной в домашнем саду. И то было искренне и это – правда. Пусть решимость и строгость поддерживаются чувством собственного достоинства, сознанием долга и дела, но там среди цветов все в ней было иначе, даже голос и движения другие. Что за чувство ее волновало? Какие мысли поддерживали этот душевный накал?
– Хорош и завхоз, – продолжает Анна Павловна, – ходит напомаженный, как жених. Рубашка подпоясана шелковым шнурком, сапоги сверкают, – хоть веди его под венец. Пятый год женится, все выбирает. В каждой деревне невеста, в каждом доме – сваты. Где уж ему следить, чтобы больным хватало хлеба, чтобы в срок привозили дрова…
Она умолкает. Елена Петровна молчит, чтобы не помешать ее раздумью. Они прошли уже порядком, пруд и речка остались далеко позади, а она нисколько не устала. Ее заинтересовали не повесть о фельдшере и завхозе, не высказывания санитарки, и даже не размышления о цветах, заинтересовала ее эта женщина, удивительно совмещающая трогательную нежность девушки, суровую твердость перестрадавшего сердца и способность видеть свое прошлое глазами строгого судьи.
– И с сестрами и с санитарками было нелегко, – вспоминает Анна Павловна. Сколько раз она встречала их пляшущими на улицах деревни. Парни орут, улюлюкают, слышны крики и брань, а сестра и акушерка пляшут, притопывают под гармонику. «Крепче, Тонька, – подбадривают их, – покажи, раскошеливайся! Давай, Наташка, давай! Молоти ногами…» Какие трудные люди!
Елена Петровна бросает на Анну Павловну сочувственный взгляд. Она одобряет ее недоверие к фельдшеру, нерасположение к завхозу. Она также разделяет горькое чувство к сестре и акушерке.
Анна Павловна умолкает и почему–то не рассказывает, как она с сестрами поладила и к чему это затем привело. История эта доставила бы Елене Петровне удовольствие.
Вот что тогда произошло.
После того как она увидела своих сотрудниц, танцующими в деревне под градом шуток и непристойных выкриков, она вызвала их к себе, усадила за стол и, потчуя чаем, завела разговор. Она говорила о высоком призвании сестры, о том, что легкомыслие несовместимо с нравственным чувством того, кто призван облегчать страдания людей.
«Слишком много надежд, – сказала она, – возлагает на нас население. Наша помощь нужна не только больным, наш долг устранить все, что вредит здоровью людей на работе и дома. Научите их беречь свои силы и здоровье, обходите деревни, добивайтесь, чтобы в избач не было насекомых, в окнах были форточки, в печах исправные задвижки, во дворах крытые колодцы и помойки. Дом колхозника должен быть убран в будние дни, как и в праздники. Расскажите населению, как много вреда приносят мухи, убеждайте их сажать вокруг дома цветы…»
Они слушали ее, опустив глаза, молчаливые и смущенные. Сестра, пытавшаяся вначале ей возразить, просила потом извинения.
Увлеченные ее речью, сестры и санитарки пригласили себе на помощь комсомольцев и комсомолок окружающих сел, предложили им быть санитарными постами и сами горячо взялись за дело. Многое было сделано с помощью этих добровольных помощников врача. Вот и сейчас Анна Павловна спешит в одно из селений, откуда поступили неблагополучные вести. Ее помощницы уже с утра проверяли заявления из санитарных постов.