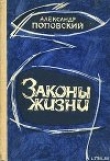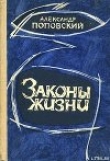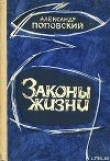Текст книги "Повесть о несодеянном преступлении. Повесть о жизни и смерти. Профессор Студенцов"
Автор книги: Александр Поповский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 33 (всего у книги 45 страниц)
На пятый день после операции Елена Петровна попросила газеты и прочла их. На шестой Андрей Ильич принес ей книги и по ее настоянию рассказал обо всем, что происходит в лаборатории: кто чем занят, что делал и делает, хорошо ли, дурно. О каждом факте говорилось подробно и точно, малейшая попытка ограничиться общими рассуждениями вызывала ее недовольство и решительно пресекалась. В залитой солнцем палате давно водворили прежний порядок: на столе не стало папок, на окне микроскопа, заняла свое место ваза с цветами.
Перенесенная операция заметно отразилась на больной; она похудела, осунулась, лицо вытянулось и как бы застыло, только тонко очерченный рот сохранил прежнее выражение, капризно сложенные губы словно единственные уцелели в вихре жестокого страдания, и казалось, что стоит им приоткрыться – и все встанет на свое место: улыбка согреет лицо, в глазах отразится недосказанная мысль, набегут морщинки на лбу и оживут неподвижные руки, утонувшие в рукавах больничной рубашки.
Не дожидаясь напоминания жены, Андрей Ильич стал каждый день приносить ей новости о чудодейственном экстракте, о его великой спасительной силе. Одна больная встала на ноги от маленькой дозы, другая настолько поправилась, что попросилась домой; особенно удивила всех старушка, неспособная двигаться от истощения, она стала часами ходить по коридору. И Степанов согласился, что экстракт серьезно помогает больным, Евдоксия Аристарховна не дает врачам покоя, настаивает, чтобы всем прописывали его. Много пользы принесли наблюдения Елены Петровны над собой и другими, проведенные до операции.
Она слушала мужа и слабым голосом благодарила на добрые вести. Как хорошо, что он здесь, вдвоем они горы перевернут, чудес натворят, все будут им завидовать. Андрей Ильич соглашался, она, конечно, права, вдвоем у них все пойдет по–другому. С уходом мужа она давала волю своей радости и долго рисовала на бумаге скачущих животных и летающих птиц. Супруги расставались поздно вечером, а утром она уже спрашивала свежие новости. Откуда им взяться, неужели придумать? Нет, этого он сделать не сможет. Больная сердилась, и, как в те дни, когда муж опаздывал к ней или вовсе не заходил с утра, – она вымещала свою обиду на зверьках, покрывая бумагу изображением криворотых и кривоногих котят.
Елена Петровна с каждым днем себя чувствовала лучше, в ней крепло убеждение, что опасность миновала, все трудное осталось далеко позади. Она по–прежнему верила, что болезни врачей и до и после операции имеют свое особое течение, не такое, как у других. Счастливая сознанием, что ничто уже не омрачит ее жизни, Елена Петровна спокойно выслушивала опасения больных, встревоженных разговорами о метастазах.
– Ты понимаешь, Андрюша, – благодушно сказала она мужу, – они узнали, что на швах бывают рецидивы, и все время ощупывают себя.
Андрей Ильич по–прежнему часто бывал у жены, подолгу с ней беседовал, но меньше всего о том, что происходит в лаборатории, и почти не рассказывал о себе. Факты приводились менее подробно и еще менее точно, деловой разговор подменялся отвлеченными рассуждениями, общее оттесняло частное, воображаемое подменяло действительное. Мысли уносили его все дальше от института и лаборатории к широким просторам умозрения. Словно впервые столкнувшись с красотой и величием науки, сложностью ее явных и тайных путей, он объявлял ее основой основ бытия, источником жизненной силы. Согрешив против учения о примате материального над духовным, против философии партии, программу которой он разделял, Андрей Ильич утверждал, что одна лишь наука делает нас умнее и лучше, сильнее и глубже. Там, где царит бедность воображения, узость взглядов и невежество, нет великодушия и мудрости. О раке он говорил как о величайшей тайне природы, как о вспышке слепой силы, сорвавшей с себя узду эволюции. Два гиганта столкнулись в страшной борьбе – человеческий гений и восставшая против себя же природа. Близок час, когда эти вспышки будут невозможны, тайное станет явным и зло покорится человеку.
– Что будет тогда с тобой? – с притворным огорчением спрашивала Елена Петровна. – Для тебя ведь только та загадка хороша, которая еще не разгадана. Если тайное станет явным, не будет и загадки.
Он серьезно уверял ее, что их еще много, предстоит немало гадать и разгадывать, прежде чем исполнится мечта человечества о вечном и безмятежном счастье на земле.
– Найдем это счастье, – торжественно заявлял Андрей Ильич, – и поделимся с теми, кому без него жить нельзя.
Счастливая сознанием, что он занялся делом, дорогим его сердцу, Елена Петровна не спрашивала больше, почему он не расскажет о лаборатории, об опытах и больных. Накал его чувств говорил ей о смелых экспериментах, приведших к удаче, о спасительных идеях, зародившихся в клинике, на благо больных. Где было ей догадаться, каких усилий ему стоили эти речи, с каким волнением он готовился к ним и как трудно бывало обходить молчанием то, что творилось в лаборатории и в клинике. Спроси она его, он не смог бы солгать и признался бы з том, чего ей сейчас лучше не знать. Измученный, усталый, Андрей Ильич уходил с горькой мыслью о том, что завтра придется начинать то же самое сначала.
Иногда он решал позволить себе передышку и после утренней встречи не бывать в этот день у жены. Дел всегда было много, и все шло хорошо до наступления вечера, до часа обычного свидания с ней. Затем, словно го команде, мысли переключались, исчезал вдруг интерес к работе и в голове непроизвольно зарождалась тема предстоящей беседы. Мог ли он оставаться спокойным, ведь в палате с голубыми пане/.ями томилось измученное сердце его жены.
Андрей Ильич не мог всего рассказать Елене Петровне. К чему ей был груз печальных сомнений, скорбные вести, способные кого угодно сломить?
Сомнения зародились у него уже в самом начале работы. Они возникли случайно, когда стали выяснять, надолго ли сказывается действие экстракта на больном. Полезность лекарственного вещества не всегда совпадает с продолжительностью его действия. В одном случае каждая новая доза повышает силы сопротивления, в другом – чуть взбодрив организм, исчезает без следа.
Выяснить это оказалось невозможным – в регистрационных карточках института не было на этот счет ни единой пометки. Елена Петровна не проследила за судьбой своих прежних больных, не заинтересовалась результатами отдаленного действия экстракта. Пока ошибка не устранена, нечего было и думать о дальнейшей работе.
Сорокин начал с расспросов. Он обратился к профессорам, ординаторам, диссертантам и сестрам в надежде собрать у них нужные сведения и тут ничего толком не узнал. Один из врачей, выслушав сомнения А лдрея Ильича, махнул рукой и шутя сказал: «Потол-». куйте с Яковом Гавриловичем, экстракт – его панацея». Искать у медиков ответа было бесполезно, продолжать исследования – бессмысленно.
Между тем время уходило, неопределенность утомляла Андрея Ильича, встречи с женой становились все мучительней, а вынужденная ложь – невыносима. Временами ему казалось, что следовало бы действительно поговорить со Студенцовым, рассказать ему правду, указать на ошибку Елены Петровны и спросить совета. Сорокин даже попытался это сделать, но в последнюю минуту у него не хватило решимости. Хорошо, если Яков Гаврилович его поймет, а вдруг не поймет., истолкует превратно и в душе осудит мужа, который оговаривает больную жену? Не лучше ли выждать, когда Елена Петровна поправится, и с ней обсудить положение? Неделя не вечность, он тем временем займется чем–нибудь другим: засядет за чтение новой литературы или хотя бы съездит к отцу на несколько дней. Старик в письмах давно звал его к себе и жаловался, что все его забыли.
Илья Степанович Сорокин жил в небольшом городке на Украине и в свои семьдесят пять лет продолжал оставаться на службе. После того как он отказался присутствовать в тюрьме при наказании розгами и, в знак протеста против телесных наказаний, вышел в отставку, он оставил Смоленскую губернию и стал санитарным врачом. Отец и сын давно не видали друг друга, и Андрей Ильич обрадовался случаю побывать у старика.
Елена Петровна согласилась с этим. В последнее время она не раз упрашивала мужа поехать. Теперь он кстати свезет фуфайку, которую она связала ко дню рождения отца. Болезнь помешала ей отправить вовремя подарок, пусть он извинится и поцелует старика.
Яков Гаврилович охотно отпустил Сорокина и на своей машине доставил его на аэродром. Они тепло попрощались, и, покидая аэродром, Студенцов вновь заверил его, что не оставит Елену Петровну без внимания. Андрей Ильич вошел в самолет, опустился в мягкое кресло и в предвкушении удовольствия закрыл глаза. Земля круто скользнула вниз, и с этого момента он забыл о ней.
Его окружали белые облака. Легкие, подвижные, с причудливыми очертаниями, они неслись друг за другом бесконечной чередой; одни – маленькие, прозрачные, другие – побольше, такие же светлые и невесомые. Время от времени их обгоняли огромные облака и, словно льдины в полярном океане, расталкивая и поднимая все на пути, уходили. На ярко освещенном горизонте плотиной вздымались могучие айсберги, их белые гребни, озаренные солнцем, сверкали позолотой и, казалось, дышали стужей.
Андрей Ильич смотрел на белый поток, вольно плывущий под небесами, и воображение увело его от действительности. Не облака, не айсберги плывут перед ним, это парят мечты и надежды человечества. Тут их обиталище, отсюда они с тоской взирают на землю, от которой оторвались и куда не вернутся уже. Когда самолет врезался в их гущу, белые тени окутывали его, падали вниз и вновь поднимались, чтобы вечно блуждать по безбрежной стихии, роняя на землю сумрачный отсвет.
Машина вдруг вздрогнула, затрепетала, взлетела и круто скользнула на крыло. Сорокин очнулся от своих мыслей, взглянул в окно и увидел, что гроза охватила полнеба, сверкали молнии и, судя по тому, что в уголках стекол как бы закипала вода и проворные струйки то рассыпались крупинками, то стремительно неслись друг другу навстречу, заключил, что льет сильный дождь. Прозрачные облака исчезли, их накрыла черная пелена, пронизываемая вспышками пламени.
Андрей Ильич отвел глаза от окна. Он думал о мечтах и надеждах человечества, не нашедших себе места на земле, о вечных законах бессмертной природы и о роковой тайне жизни и смерти. Он не видел непогоды, бушевавшей за окном, и мысленно следовал за белой тенью, вольно парящей в небесах. Когда он огляделся, кругом просветлело и яркое солнце заливало землю. Умытые и посвежевшие, тянулись чередой белые домики, обрамленные зеленью садов, темные квадраты скошенного и взрыхленного поля и блестящие лужицы, отражающие небеса.
Мысли Сорокина вернулись к земле, где осталась без решения трудная задача, которую сейчас никак не решить, где Елена Петровна, прощаясь, сказала ему: «Я буду считать дни и думать о тебе». Земные заботы оттеснили небо, и лишь незадолго до посадки машины Андрей Ильич заметил, что тучи следуют туда же, куда и самолет, им оказалось по дороге.
Пока маленький трамвайчик, позванивая и постукивая, катился по рельсам городка, Сорокин думал, что скоро шесть недель, как от отца не было писем, не случилось ли с ним чего–нибудь? Шесть недель – большой срок, всякое возможно. Давно ли он сам еще был всем доволен и счастлив. Прошел лишь месяц со дня их семейного праздника, а сколько за это время пережито! Старик, правда, еще крепок, но он мог заболеть. В доме не слишком много народа: тетя Софья – его стряпуха – да он. Отец упрям и не любит лечиться, не уговоришь его.
Андрею Ильичу показалось, что трамвай слишком долго простаивает на стоянках, скорей, пожалуй, добраться пешком, и на первой же остановке сошел. Он свернул в переулок, прошел дворами к берегу реки, густо заросшему травой и, ускоряя шаг, вышел на уличку, обсаженную каштанами и акацией. Еще один поворот, и за выкрашенным в зеленый цвет забориком покажется цветник, а в глубине двора – аккуратно расставленные ульи.
Последние несколько шагов Андрей Ильич прошел почти бегом. Вот и дом. Все на СЕоем месте: и заборчик, и цветы, и ульи. Между ними кто–то ходит, неужели отец? Да, как будто: такой же высокий, худой, в широкополой соломенной шляпе. Конечно, он – его пышные седые усы и клинообразная бородка.
Когда калитка скрипнула, Илья Степанович надел очки и сразу же узнал сына. Он сделал несколько шагов ему навстречу и укоризненно проговорил:
– Наконец–то пожаловал… Хорош! Хорош! «Не едет, – говорю себе, – и не надо, просить не стану».
Он сердился и улыбался, отмахивался от него, словно не желая его слушать, и в то же время приветствовал ласковым взглядом. Он оглядел сына с головы до ног и затем лишь обнял его.
– Хорошо, что приехал, не сержусь. Что ж ты один, без Елены? Не пустили, должно быть. Ну пошли в дом, позавтракаем, медку моего отведаешь.
Он взял палочку, прислоненную к деревцу, и, легко опираясь на нее, чуть сутулясь, пошел вперед.
«И палочки и сутулости не было раньше, – подумал сын, – и лицом он заметно изменился».
– Тетка Софья, моя хозяюшка, отправилась проведать внука и оставила меня одного. Не взьпци, если не так угощу.
Он был растроган приятной встречей и не удержался, чтобы не потрепать сына по плечу.
– Живем, как видишь, по–прежнему, я – в своей горнице, тетка Софья – в своей, а в твоей – никто.
Илья Степанович открыл дверь, и на Андрея Ильича пахнуло воспоминаниями, ароматом милого прошлого. В этой комнате он когда–то вечерами готовил уроки, по утрам шел в щколу, отсюда он уехал на фронт, сюда привел свою Жену – Елену Петровну. В комнате все оставалось так, как восемь лет назад, когда он уезжал отсюда.
– К твоему приезду берегли, – словно угадав его мысли, сказал отец, – никого не пускали и сами не бывали. Только уж когда разберет меня досада, заглянешь сюда. Отчитаешь тут сынка, который сам не едет и писем не шлет, и успокоишься.
Пока отец накрывал стол и готовил чай на электрической плитке, Андрей Ильич бродил по дому, заглядывал во все уголки, рассматривал и ощупывал некогда столь близкие его сердцу вещи: зеркало в вишневой раме, железная кровать на медных роликах и многое другое. Все они были знакомы и дороги и так основательно забыты, что он ни разу за эти годы не вспомнил о них.
Когда завтрак был съеден и чай с медом выпит, Илья Степанович шумно отодвинул свой стакан и как бы между делом спросил:
– А ты все еще такой, каким был? Всем веришь, веек любишь, а полюбив, забываешь к человеку приглядеться.
Он поглаживал свою клинообразную бородку и остро поглядывал на сына. «Не вздумай отнекиваться, – означал этот взгляд, – знаю я тебя, легковерного мечтателя, не впервые встречаемся, знаю».
Каждый раз, когда судьба сводила отца с сыном, один неизменно задавал этот вопрос, а другой усердно пытался на него не ответить.
– Да, все такой же, а ты как живешь?
Илье Степановичу не понравилось, что сын уклонился от ответа, и не счел для себя за труд повторить вопрос.
– Да, да, отец, такой же, – с доброй улыбкой произнес Андрей Ильич, – стараюсь исправиться, как могу стараюсь. Как твои дела?
Все это было сказано с такой подкупающей нежностью, что склонный раздражаться старик только пожал плечами.
– Мои дела всегда одинаковы – воюю.
– С пчелами?
– Зачем? У них санитария на высоте, не придерешься. С людьми договариваться куда труднее. Попробуй столковаться с моим инспектором, докажи этому плуту, что нельзя в одно время и богу и черту служить: угождать лавочникам и рестораторам и оберегать от пакости и грязи народ.
Он забыл уже, что сын отделался шуткой, уклонился от ответа, забыл старик и многое другое. Он словно обрадовался случаю посердиться, заклеймить ненавистного инспектора и заодно рассказать, как трудно ему следовать голосу совести и честно исполнять свой долг.
– Ты его, конечно, «на чистую воду выводишь», – вспомнил Андрей Ильич, как отец в таких случаях говорил, – «к стене припираешь», «спуску не даешь», так проучишь, что он «вовек тебя не забудет».
– Только так, – согласился Илья Степанович, простив сыну его легкомысленную иронию. – Только так! Он мне руку сует, а я ее не заметил, он на трибуну, а я из залы вон. Назначили тебя, злодея, инспектором, имей совесть честно служить. И, как крот, носом землю рою, по уши в грязи сижу, чтобы в районе был порядок: и за кухнями, и столовыми, мясными, колбасными, банями, парикмахерскими во все глаза смотрю. Хорошо ли, правильно ли хранят в магазинах провизию, часто ли моет руки продавец, показывается ли он врачам, в порядке ли у него санитарная книжка, – хлопот полон рот, а тут какой–нибудь бездельник мешает.
Он так и не сказал, чем перед ним провинился инспектор, хотя все время постукивал кулаком по столу, и голос его, мягкий и сочный, при этом звучал крикливо и резко.
«Изменился старик, – подумал Андрей Ильич, – прежде чем сказать недоброе слово, глазами сверкнет и резким движением раздвинет усы, словно они ему помеха. Не гневается, как бывало, не горячится, а ворчит…»
– Что тебе говорить, – неожиданно закончил Илья Степанович сердитой интонацией. – Какое вам – молодым людям – дело до наших споров и дрязг. Чего доброго, посмеешься еще над старым чудаком.
В его голосе слышались досада и недовольство собой. Все вышло не так, как хотелось старику: сын ускользнул от ответа, сам он не сумел послужить примером, нашумел и погорячился, как школьник. Андрей Ильич решил успокоить отца. Из опыта прошлого он знал, что лучше всего не перечить ему и согласиться. Он поспешил заверить старика, что история с инспектором весьма поучительна, таким людям уступать нельзя, он и сам на месте отца поступил бы так же. Илья Степанович молча выслушал сына и отказался принять его жертву. Он не поверил ни одному его слову и впал в еще большее раздражение.
– Без твоих советов обойдусь, – коротко, но убедительно проговорил он, – ты себе посоиетуй: не всем верить, не всех любить и твердости мужской набраться.
Он припомнил сыну все его прегрешения из времен далекого детства и, словно именно они были причиной его дурного настроения, все громче сердился и все сильнее постукивал кулаком по столу.
– И в институте ты, должно быть, такой же: со всеми компанию заводишь и правого и неправого к себе в гости зовешь.
– Почему мне с ними дружбы не вести? – примирительно спрашивал Андреи Ильич. – Наш директор Студенцов – прекрасный человек, добрый, прямой и искренний, ординаторы и профессора – милейшие люди, зачем бы я стал с ними ссориться или навязывать им свои взгляды?
– Вот, вот, – обрадовался старик неожиданной поддержке, – ты – чистой воды реформист, и нашим и вашим послужишь. Не знаю я твоего Студенцова, не знаю ординаторов и тем более профессоров, а тебя, фантазера, знаю. В облаках паришь, земли под собой не видишь.
Он пристукнул кулаком по столу и, как всегда, когда чувствовал себя виноватым, насупился.
Упреки отца не удивили Андрея Ильича, он знал, что старик недоволен собой и в таких случаях бывает несправедливым. Вместе с тем в его укорах было и нечто принципиальное. Неспокойный Илья Степанович, склонный вспылить по малейшему поводу, немало пострадавший за свою горячность, был убежден, что именно в бурном волнении сказывается подлинный характер человека; только жизнь, исполненная непрерывной борьбы и страданий, плодотворна. Излишнее спокойствие – свойство неполноценной человеческой натуры. Сына он причислял к этой несовершенной породе и в душе его осуждал. Андрей Ильич, спокойно переносивший упреки отца, на этот раз не уступил. Обиделся ли он, страдания ли сделали его менее сдержанным, или ему просто захотелось разуверить отца, – он устремил на него укоризненный взгляд и с легким упреком сказал:
– Не понимаешь ты меня и неправильно обо мне судишь, а называть коммуниста реформистом – нехорошо. Не такой уж я податливый и не такой бесхребетный, как это кажется тебе. Я только верю в человека, знаю, что на доброе он ответит мне тем же, незачем с кнута начинать. Человек не камень, на тепло откликнется теплом, а встретится такой, что с ним не поладишь, – не уступлю: рассорюсь и от себя прогоню.
Выражение рассеянности на лице Андрея Ильича сменилось сосредоточенностью, взгляд широко открытых глаз стал напряженным и острым. Только движения его оставались вялыми, словно нарастающая изнутри энергия сковывала их.
– Был у нас такой случай, – продолжал он. – Работал с нами ординатор – старый опытный специалист. Принимал больных, прописывал лекарства, оперировал неплохо. Всем хорош, одно неладно – никому и ни за что не поможет. Спросит у него молодой врач совета, не ответит, заметит, что хирург дал маху, – отвернется, не его дело учить, он ординатор, и только. На консилиуме за словом в карман не полезет, всю свою образованность покажет, но такое завернет, что скорее дело запутает, чем разъяснит. Посовестили мы его раз, другой – не помогает. Вызвал я его и говорю: нельзя в нашем деле знания при себе держать, от неправильных расчетов инженера рушатся дома, а у нас вырастает могила. Мы не вечны, надо спешить нашим опытом поделиться. Знаешь ли, отец, что он мне ответил? «Я, говорит, получаю семьсот рублей в месяц и деньги эти честно отрабатываю. Ни учить, ни воспитывать я никого не намерен, пусть этим занимаются профессора». Я не оставил его в покое, просил, уговаривал, сердился. Не помогло. Мы уволили его и в приказе записали, что он недостоин носить звание врача…
– Мы? – переспрашивает отец, и в голосе его звучит больше иронии, чем любопытства. – Кто же это «мы»?
– Директор городской больницы и я – главный хирург.
– Ты? – удивленный, спрашивает Илья Степанович.
– Да, я, – отвечает Андрей Ильич и продолжает: – Он явился с повинной. Пришел ко мне, обещал исправиться. Я отослал его к директору, но предупредил, что буду возражать против его возвращения на службу. Ему не место среди нас. Он понял меня и ушел.
Пока Андрей Ильич говорил, отец недоверчиво поглядывал на него, кулаки его на столе разжались, маленькое морщинистое лицо не выражало раздражения, а по тому, как Илья Степанович время от времени вскидывал плечами и хитро подмигивал собственным мыслям, можно было заключить, что рассказ сына не переубедил его.
Андрей Ильич это почувствовал и умолк. Старик некоторое время молчал, затем спросил о здоровье невестки.
– Что Елена, жива, здорова? Все еще вязаньем забавляется? Свяжет фуфайку и ищет, кому бы ее подарить?
Старик мысленно увидел свою любимицу: маленькую, подвижную, с тихим переливистым смехом и редкими веснушками, придающими ее лицу приятную простоту, – и улыбнулся от удовольствия.
– И хозяйка хорошая, – ласково проговорил он, – и врач, и человек превосходный. – Он вспомнил свой разговор с сыном и добавил: – Не стоишь ты ее. – И еще более уверенно: – Мизинца ее не стоишь.
Андрей Ильич вспомнил поручение жены и спохватился:
– Чуть не забыл, она связала тебе фуфайку, просила передать.
Он вынул из чемоданчика сверток, выложил на стол подарок, и, словно прикосновение к фуфайке, побывавшей в ее руках, вернуло его к горькой действительности, он невольно вздохнул и низко опустил голову. Старик заметил перемену и, тревожно взглянув на сына, спросил:
– Это что такое? Не случилось ли с ней что–нибудь?
Илья Степанович слушал печальную повесть о болезни Елены Петровны, украдкой смахивал слезы и старался выглядеть спокойным и твердым. Когда дошло до операции, до тревог и сомнений, обуявших хирурга и его ассистента, старик не сдержался, всхлипнул, слезы потекли по его щекам, исчезая в усах и бородке. Прежняя уверенность покинула его, и лицо выражало смесь сочувствия и отчаяния.
– Ай–ай–ай, голубушка, – заломив по–старушечьи руки, причитал старик, – как же это ее И надо же было беде случиться. Экую красавицу, золотую душу подкосило… Спасибо хирургу, что спас. Кто оперировал? Га? – Испуганный молчанием сына, он закричал: – Что ж ты молчишь? Плохо соперировал?
– Нет, как будто ничего, – смущенный резкой переменой, происшедшей с отцом, тихо проговорил Андрей Ильич. – Я ее оперировал.
Старик растерянно простер руки, и они замерли на весу.
– Ты? Никого другого не было? Как же ты смел?
– Мне ассистировал профессор Студенцов – директор института.
– Тебе?
Человек этот взялся его сегодня удивлять. Такую операцию проделать! И кого оперировать? Жену! Откуда у него сил набралось?
– Так вот ты какой, – со смешанным чувством удивления и восхищения проговорил старик. – А я думал, что ты так ничему и не научишься. Дай я тебя обниму. – Он незвучно поцеловал сына и, не будучи в силах подавить свое волнение, неуверенным голосом продолжал: – Не у каждого на то рука ляжет, не у каждого твердости хватит.
– Ты напрасно удивляешься, отец. В ту минуту она была для меня только больной…
– Погоди, погоди, понимаю, – прервал его старик, – понимаю. И у меня такое бывало.
Он сейчас только заметил, что руки у него дрожат, и с досадой сунул их в карманы.
– Ляжет, бывало, у меня больной, – вспоминает Илья Степанович, – человек, как все люди, ничем не замечательный, а я с той минуты будто с ним породнился. И болтовню его слушаю с интересом, и щей с ним из одной тарелки похлебаю. Дал бог, выздоровел мой больной, и словно мы с ним разочлись – снова стали чужими. Тут только увидишь, что ногти у него кривые и табачищем прокурены и лицом нехорош. Верно ты сказал, у кровати больного все думается и чувствуется по–другому.
Облегчив свое сердце разговором, Илья Степанович пригласил сына продолжать:
– Ничего не утаивай, все говори до конца.
Андрей Ильич рассказывал, как тяжело ему было, как трудно еще и сейчас. Он говорил о своем горе, о страданиях, которые не спрячешь от глаз больной, о том, в чем он сам себе признаться не смел. Отец слушал сына и сочувственно молчал. Только молчанием уместно ответить на такую скорбь.
– Придешь домой, – жаловался сын, – а там пусто. Лежит на столе вязанье, лежат спицы, а вязать некому. Такая тоска меня проберет, хоть из дома беги… Выскочишь в такую минуту, ничего вокруг себя не видишь и не слышишь, носят тебя ноги с улицы на улицу, и нет воли ни прямо пойти, ни в сторону свернуть… Так меня однажды носило не то час, не то пять, и слышу вдруг: кто–то тихо поет и палочкой себе в такт постукивает. Обернулся, вижу – слепой за мной бредет. Лицо его сияет, на губах улыбка, чему–то, видно, рад и поет. Пошел я за ним, вслушиваюсь в его песню и чувствую, как тоска моя уходит. Легче мне стало, и я побрел домой.
Андрей Ильич умолкает. Илья Степанович встает, останавливается посреди комнаты и спрашивает:
– Ну, жена заболела, слегла, а ты зачем сюда прискакал? Проветриться захотел или духу не хватило стерпеть, когда бедняжка окрепнет?
Андрей Ильич чувствует, что за строгим опросом скрывается сочувствие и нежность, которую выразить нелегко, и, растроганный, отвечает:
– Тебя захотелось проведать.
– Ври, да меру знай, – с той же деланной строгостью говорит отец.
– Но ведь ты меня звал… – только и успевает он ответить.
– Звал, – сердится старик, – а ты написал бы: так и так, заболела моя голубушка, не могу. И спроса с тебя нет. Прямо и сказал бы: духу не хватило, поплакать приехал, похсаловаться… Нечего врать.
Андрей Ильич рассказал о трудностях, возникших в лаборатории, о том, что он вынужден был оставить работу, пока Елена Петровна не встанет на ноги.
– Не могу я ей лгать, рассказывать, что в лаборатории все идет хорошо, когда дело вовсе стало. С директором поговорить – значит ее подвести.
На этом разговор их оборвался. Отец вспомнил, что ему пора на пасеку сходить, Андрей Ильич отправился друзей проведать, а вечером за чаем Илья Степанович сказал сыну:
– Надобно тебе завтра уезжать. Нельзя Елену оставлять без надзора, всякое может случиться. А насчет того, что не прослежены результаты лечения, большой беды нет. Возьми сам да проверь. Обойди две–три сотни домов, побывай у больных, запиши, кто выжил и кого уже нет, и вот тебе результаты. Я с этой палочкой не то что сотню дворов, тысячу обскачу за месяц. Привыкли вы сидеть, да чтобы к вам приходили, а попробуй разок сам сходи. Кстати, заглянешь, в каком состоянии выгребные ямы во дворе, много ли в домах клопов и мух. Ведь ты – врач, друг народа, вот и похлопочи.
С той же внешней суровостью, за которой слышится нежность, он, выпроваживая сына, напутствует его:
– Смотри, Елену береги, не давай ее в обиду… Не стоишь ты ее, право слово, не стоишь…