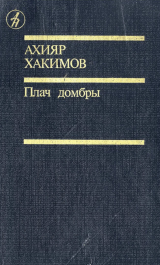
Текст книги "Плач домбры"
Автор книги: Ахияр Хакимов
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 41 страниц)
На люди не выходил, считая, что народ теперь отвернулся от него, сидел в своей юрте и сочинял грустные песни или уходил в степь и бродил там в горьком раздумье. И хотя люди не отвернулись от него, из всех, даже дальних кочевий приезжали к нему гонцы, он отказывался от приглашений, и вестник от Йылкыбая уехал ни с чем. Не было исцеления его скорбному сердцу. Ильтуган был шакирдом Хабрау, тем самым курносым Мальчишкой, который повстречался ему на берегах Яика, когда он возвращался из Самарканда. Вырос, выучился, стал джигитом. Самая пора, когда мужает человек, наливается силой – ив чужое войско, невольником!.. Еще одна рана, вечная, незаживающая, на саднящую совесть поэта.
В один из таких дней, когда сидел он и изводился в черных думах, в юрту в сопровождении пяти-шести аксакалов вошел Таймас-батыр. Тут же следом внесли кумыс и широкое блюдо с горкой дымящегося мяса.
Долго уговаривали, долго корили Хабрау за уныние старики.
– Эх, певец, дорогое дитя Кылыса-кашки, – говорил Таймас. – Самым близким моим другом был твой покойный отец, нрав его хорошо помню. Не похвалил бы он тебя сейчас! Смотри, в домбре твоей уже паук паутину свил. Горячие мелодии, заветные твои слова – будто родник под камнем, им исход нужен. Нет, сэсэн, с досады на вошь шубу в костер не бросают. Выйди к народу! Столкни камень с сердца, скажи свое слово!
Хабрау нехотя, только чтобы уважить старцев, взял домбру, начал перебирать струны, и тускло, лениво прогудели они. Но вдруг проснулась домбра, встрепенулись струны, быстрее побежали пальцы, и мелодия, новая, дотоле неслыханная, лилась все сильней и звучней. Поникнув сидели гости. Горький, жгучий ком стоит в горле Хабрау, слезы бегут из глаз. Вот он, словно распаленный конь, мотнул головой, распрямились, разошлись плечи, искры сверкнули в глазах. Гордый его взгляд скользнул по старцам – и он начал говорить кубаир, совсем новый, никому из слушателей не ведомый, сэсэн его сочинил в дни своего тоскливого одиночества.
Таймас встал и открыл дверь юрты. Вначале Хабрау не обратил внимание на это. Но в одном из переходов напева он бросил взгляд на дверь – юрту, как пчелиный рой, облепил народ. Лица стариков опущены, женщины тихонько плачут, а отважные джигиты смотрят прямо, в глазах – чистый огонь мести, руки сжимают рукоять кинжала или камчи.
И вдруг тесная темная юрта показалась сэсэну похожей на ордынский зиндан. Сердце, все существо его устремилось на свет, на вольный воздух. И мелодия, и яростные слова кубаира – все рвалось туда же, на простор, на широкий майдан.
Рывком поднялся он с места, вышел и встал перед народом. Высоким плачем рыдает домбра, гневным призывом рокочет – и вдруг взлетает и расходится вдаль широкая мелодия, полная любви и нежности к этому приволью, к светлым грустным рекам, к могучим величавым горам. Сколько же силы затаилось в трех жилочках домбры, сколько души и чувства!
Новый кубаир был о парнях, которых, оторвав от родного кочевья, от родных и близких, уводили заложниками в чужую землю.
– Ядовитая змея обвилась вокруг шеи, страшная рука Орды взяла башкир за горло, – пел Хабрау. – Над Уралом, день затмевая, алкая крови, стервятники кружат. Отчего почтенные наши старцы, слава и честь страны, поникли головами, отчего в очах матерей наших, что молоком своим вскормили нас и взрастили, не просыхают слезы? Отчего тоска во взорах юных жен наших и девушек, при виде которых бледнеет от зависти луна и вспыхивает солнце в невольном восхищении их красотой, стройной статью, черными бровями, губами с наперсток, талией, тонкой, как у муравья, и высокой грудью? Земля моя гордая, страна моя горькая! Где батыры твои, что, взлетев на аргамаков, бросятся в бой? Нет разве мужей, что клинок о камень уральский отточат, из веток прокаленных стрел нарежут летучих и соколом-белогорликом, что зайца с излету бьет, щукой, что плотву с измаха подсекает, бросятся на врага, огнем против пламени встанут, даже когда седло и потник кровыо сочатся, они стоят как скала, не шатнутся?

Народ, сам собой прихлынувший на звук домбры, молчит и вздохнуть боится. Но глаза их теперь не в земле – в небе. А там, облетая бескрайнюю синеву, большими кругами ходит орел. Он учит летать двух своих неуклюже взмахивающих крылами детенышей. Время от времени орел проклекочет коротко. То ли подбадривает орлят, то ли от какой-то опасности остерегает.
Один из парней, неотрывно следивший за орлом, обнял Хабрау за плечи.
– Спасибо, йырау, – сказал он.
10
Государственные дела, хитросплетения политической жизни были далеки от мыслей Нормурада. Человек с живым умом и горячим сердцем, как только закончил учебу, он собрал вокруг себя, как и мечтал, молодых ученых, переводчиков, и все принялись за работу – переводили с арабского и фарси научные трактаты, дастаны великих поэтов. Искусные каллиграфы переписывали эти книги в пяти-шести экземплярах, художники украшали орнаментом и миниатюрами. Казалось, Нормурад достиг всего, к чему стремился, к чему готовил себя.
Отец его был видным сардаром в армии Тимура, эмиром тумена, войска в десять тысяч сарбазов. Участвовал во множестве набегов и во всех больших походах Железного Хромца, много сил отдал на великое дело укрепления мощи Мавераннахра, расширения его пределов. В награду за полководческие таланты, воинскую доблесть и верность политике салтаната щедрой десницей отсыпал ему великий эмир несметные богатства. Кроме большого дома в центре Самарканда на окраине, среди садов, подобных райским кущам, сияет его загородный дворец. Полсотни юных наложниц украшают его гарем. Десятки рабов с утра до вечера хлопочут в большом, отлаженном до мелочей хозяйстве, и течет в нем жизнь несуетливо, размеренно, подобно льющемуся в часах песку. Богат и знатен сардар, плодородные земли между Самаркандом и горой Ургут – его суюргал, владение, свободное от всяких налогов.
Но ничто в мире не вечно, и все проходит. Сардару далеко за пятьдесят, подступает старость. И полученные в боях раны дают о себе знать все сильней, и телесная немощь все чаще гонит его на перину или на молитвенный коврик. Вспоминая кровавые деяния воинов, что были под его рукой, их бесчинства в завоеванных странах, сардар все теснее жался к богу, каялся в грехах своих и готовил себя к настоящей жизни, той, что ждет правоверных в ином мире. Войны, походы, ратные заботы уже мало трогали сердце стареющего военачальника, все реже появлялся он на совете государственных мужей, все тягостнее было ему посещать устраиваемые Владыкой Мира шумные пиры.
Законы дворцовой жизни неумолимы, суров ее неписаный устав. Изо дня в день должна обновляться на придворном позолота, какую оставляет на нем державный взор, и стоит царедворцу чуть реже попадаться правителю на глаза, как уже потускнела она, стал человек забываться. А верткие пролазы в лихорадке не осуществленных еще притязаний переминаются тут же и, как собаки, грызущиеся из-за кости, готовы, топча друг друга, ринуться на оставленное на миг теплое место вблизи престола. Так случилось и с отцом Нормурада.
Владыка Вселенной, Рожденный под Счастливой Звездой, не видя на советах и пирах своего сардара там, где ему положено, напротив себя, спросил о нем раза два, а потом и вовсе перестал справляться. Знаменитый воин со счета выпал. И постоянное его место возле трона, и десять тысяч отважного войска перешли к другому.
Дому, землям, богатствам сардара урона особого не было. Разве только дворец на Баги-Дильгуше велели продать новому темнику, потому что он, дворец этот, находился рядом с резиденцией самого Владыки Вселенной. Сочли, что в таком соседстве жить пристало человеку, денно и нощно обремененному государственными делами, нежели тому, кто от исполнения таковых дел удалился. Вместо Баги-Дильгуши отставному воину приискали поместье и сад в другом месте, похуже. На другие его дома и богатства, на землю и воду притязающих не было, все осталось без ущерба.
Но опытный, видавший виды старый сардар быстро смекнул, как могут пойти дела дальше. Разве ветер, который едва колышет кроны деревьев, не оборачивается вдруг ураганом, что и камни двигает? Да, да, если его сегодня, несмотря на былые заслуги, лишили внимания, то не значит ли это, что завтра такая же судьба постигнет и его сыновей? Он должен предупредить беду, заранее побеспокоиться о будущем своей семьи.
Раздав огромные деньги, старый сардар для двоих сыновей, бывших на войсковой службе, выхлопотал должности тысячников; снарядил большой караван с хорошим товаром и отправил в Китай с зятем-купцом. Сам же все мешки с пшеницей, отборным рисом, изюмом и орехом, собранные в закромах, по выгодной цене продал прежним своим друзьям по военной службе, которые теперь занимались поставками войску. Случись что вдруг, подумал он, так пусть хоть часть добра будет превращена в деньги. Всяк знает: золото-серебро много места не займет, в землю зароешь – и там не сгниет…
Особенно тревожило старика будущее Нормурада. Жил тот покуда за широкой отцовской спиной, в тени былой его славы и могущества, не ведая невзгод и лишений. Но отцу-то известно и другое. То, что молодой ученый наряду с безбожными, полными наветов на святую религию, научными трактатами переписывает и распространяет произведения мятежных поэтов, собирает вокруг себя людей темного умонастроения, уже давно приводило в ярость мулл-улемов. Когда бы не страх перед могущественным сардаром великого эмира – давно бы с потрохами съели. Теперь же всякое может случиться. Пошатнулся отец – жди беды на опрометчивого сына.
После долгих раздумий сардар начал хлопотать, чтобы хоть как, но устроить Нормурада на государственную службу. Сын, разумеется, и слышать об этом не хотел, обеими ногами уперся, горячился, доказывал, что дела, затеянные им, очень важны, бросить их на полпути нельзя. Молод был Нормурад. Кроме своей цели – развития науки, поэзии, просвещения, ничего не признавал, хоть и видел, что живет в мире, которым движет грубая сила, где властвует меч, но пытался закрыть на это глаза. Сколько, однако, ни противился, отвергнуть доводы отца был бессилен. Горючими слезами оплакал он свою заветную мечту и понес поникшую голову во дворец Тимура-Гурагана.
На первых порах он был в ведении дивана, отвечал за работу двух десятков писцов и переводчиков. Здесь переписывались державные фарманы, отсюда рассылались во все вилайеты. Лет через пять, в дни, когда начали собирать силы для великого похода против Тохтамыша, Нормурада перевели в помощники знаменитому историку мавляне Шарафутдину. Теперь ему все чаще и чаще приходилось бывать на военных советах, на больших курултаях, и все, что говорилось там, все распоряжения великого эмира вменялось ему в обязанность слово в слово записывать.
В 1379 году Тохтамыш с помощью Тимура захватил престол Белой Орды. И с той поры, где хитростью и коварством, где силой оружия, пытался он объединить под своей властью Белую и Синюю Орды. После того как был разбит Мамай, он стал ханом всего Улуса Джучи.
От чрезмерного усиления хана-разбойника пользы для Хромого Тимура не было вовсе. Неуемный Тохтамыш всюду, где мог, вредил политике Мавераннахра; только выпадал случай, забыв Тимурову помощь, грабил окраины его державы.
Мелкие стычки с Золотой Ордой отвлекали Тимура от главного – мешали его планам нападения на Иран и турков. «Повадился волк в стадо, покоя не жди. Пора обкорнать его», – пришел к выводу великий эмир. Наконец, отсрочив схватку с турецким султаном Баязетом, он решил сначала разбить Тохтамыша.
Осенью 1390 года двухсоттысячное войско, перейдя реку Сейхун, встало на зимовку неподалеку от города Ташкента.
Нормурад был в самой гуще приготовлений к походу. Конечно, все дела идут без него, но он был свидетелем – зорким, дотошным, тщательно все записывающим. Частые ли военные учения, совещания ли военачальников, дела ли снабжения – он все переносит на бумагу. Его записи, попав в руки мавляны Шарафутдина, проходят через его сито и, нанизанные на одну нить, становятся страницами будущей книги[28].
И еще одна обязанность Нормурада – он принимает донесения лазутчиков, приходящих от Золотой Орды. Многочисленные соглядатаи под видом дервишей или караванщиков шныряют из конца в конец ордынских земель. Изучают дороги, по которым пройдут войска эмира, природу, расположение пастбищ, берега, переправы, повороты рек, жизнь и быт тамошних народов, их стада и богатства, выведывают, как относятся эти народы к Тохтамышу. И со всеми этими сведениями возвращаются в ставку. Из подробных донесений отбирается то, что может принести хоть малейшую пользу и кажется достойным внимания, и доводится до ушей великого эмира.
Как можно было понять из донесений лазутчиков, ставка Тохтамыша готовилась мирно летовать на левой степной стороне Итиля, заняв растянувшиеся на сотни верст поймы и луга. Большая же часть войска оставалась в низовьях Итиля и на берегах реки Дон. Ходили слухи, что весной опять готовится набег на Хорезм, чувствуются какие-то приготовления. Тимур решил упредить Тохтамыша.
Зимой 1391 года он провел большой курултай.
По сути, военачальники и высокие вельможи государства собрались на курултай, чтобы найти ответ лишь на один вопрос: как провести двухсоттысячное войско через бескрайний Дешти-Кипчак? Даже если пойти напрямик – кочевая столица Тохтамыша стояла в трехстах фарсахах[29]. Нужно идти так, чтобы огромное, заполняющее степь войско не встретилось с врагом раньше срока, к тому же бесчисленные табуны лошадей, десятки тысяч назначенных на убой коров и овец, караваны с оружием и провиантом довести без потерь.
Значит, во-первых, никакие чужие глаза, хотя бы поначалу, не должны видеть, куда направляется войско, и его продвижение не должно встревожить Тохтамыша. Во-вторых, путь должен лежать через земли с обильными пастбищами, у полноводных рек и озер…
Мнения на курултае разделились. Одни считали, что лучший путь – меж двух морей, Хазарского и Хорезмского[30], другие настаивали на том, что нужно, пройдя восточнее моря Хорезмского, выйти к берегам Яика. Загорелся спор.
Длиною оба пути примерно одинаковы, и у каждого свои достоинства и свои изъяны. Но умный полководец, опытный воин, Тимур-Гураган думал глубже и видел дальше. Он мыслил так: если он изберет первый путь, то пространство между Хорезмским и Хазарским морями в четыреста верст нужно будет пройти еще в начале весны, потом, ближе к лету, от палящего зноя выгорит вся трава, от талых вод не останется и капли, а дальше на север не то что реки, даже ручейки попадаются редко. Оставшийся путь и того тягостней. Ведь даже если войско благополучно минует безводные пустоши, к предгорьям Урала оно подойдет в самый разлив Уила и Яика, когда они выйдут из берегов, затопят всю степь, встанешь перед неодолимой преградой и будешь топтаться на месте чуть не до середины лета. Ибо известно, в тех краях весна приходит много позже, чем здесь. Еще одна напасть – степные пожары, после которых лишь одна зола во весь окоем. Случись огонь – ни стебелька травы не останется, и все стада, все лошади падут от бескормицы.
Второй же путь не нужно и в счет брать, потому что тянется он через пески да солончаки. Направить огромное войско в пустыню, где ни травы, ни воды, – все равно что собственной головой залезть в капкан.
Тимур до этого держал совет с бывалыми путешественниками, неутомимыми исследователями природы разных стран и выбрал третье направление, которое всей его войсковой верхушке и в голову не пришло.
Этот путь, длиннее тех двух, шел в обход, однако не столь опасный, как те, обильный кормом для скота и пресными водами. В начале месяца Хамаль[31] Тимур минует засушливые, бедные травой места, уйдет так далеко, что уже никакой враг не достанет его. Впереди тучные пастбища, полноводные реки. Войско пройдет вдоль Ишима, потом, уткнувшись в излучину Тобола, круто повернет на запад и в лучшую пору, макушку лета, устремится на Орду Тохтамыша.
Придя к такому решению, Тимур устроил смотр войск, ввел изменения в походный порядок туменов, провел учет снаряжения. Каждому воину надлежало иметь саблю и колчан с луком и с тридцатью стрелами. Сверх этого на двух всадников положена одна заводная лошадь, на десятерых одна юрта, две лопаты, один серп, один топор, одна пила, мотки веревок, походный котел.
Войска, разбившись на четыре колонны, пойдут рядом на расстоянии дневного пути друг от друга. По замыслу Хромого Тимура, тумены, прикармливая по пути стада, проводя учения, устраивая облавную охоту на степную дичь, в четыре месяца должны добраться до бродов Яика. В начале лета, перейдя через Ик, намечалось достичь берега Итиля и обрушиться на кочевую столицу Тохтамыша.
Впервые отправился Нормурад в столь далекое путешествие. Выросший в холе, как говорится, на меду и масле вскормленный, он никак не мог привыкнуть по целым дням трястись в седле, есть кое-как, урывками и всухомятку. На первых порах, только войско встанет на ночевку, он вываливался из седла и, стиснув зубы от ноющей боли во всем теле, падал на траву. Приставленный к нему в услужение сарбаз тормошил его, пытался разбудить, уговаривал поесть, если нет охоты к пище, то хотя бы выпить кумыса или чаю. Перебраться бы Нормураду в походную юрту, лечь на кошму, но он ничего не слышит, одно желание – сон, сон, отдых усталому телу.
Воистину нет на свете того, к чему бы не привык человек. К исходу месяца боль отпустила Нормурадовы кости, ушла вялость из тела, и дорожные муки стал он переносить легче. Позади остались и покрытые кустиками полыни и медной выжженной травой иссохшее плоскогорье Туркестана, и берега Сырдарьи, войска вступили в бескрайнюю Срединную степь. Чем дальше к северу, тем прохладней и свежей становился воздух, открылись широкие просторы с большими и малыми озерами, с высокой, по пояс, травой.
В Тургайской степи войску был дан недельный отдых. Уставшие лошади, стада коров и овец разбрелись по широким пастбищам и неумолчно хрумкали траву, воины проверяли оружие, чинили сбрую, латали одежду.
Что же касается Нормурада, то он под неусыпным наблюдением своего учителя Шарафутдина переносил на лист бумаги описания событий, случившихся в походе, наблюдения о состоянии войска, об особенностях здешней природы. В будущем, подправляя и дополняя эти записи, мавляна превратит их в значительный исторический труд. Будут в нем и правда, и плеснувшая через край лесть, и преклонение перед Тимуром-Гураганом. Еще раз найдут весомое подтверждение справедливость и величие эмира, Рожденного под Счастливой Звездой, его военные таланты и беспощадность к врагам. Иначе и быть не может. Мавляна Шарафутдин, подобно любому придворному поэту, который, как курица, склевывает пищу со ступенек трона, – птица в золотой клетке. Во имя правды и справедливости воюет великий Владыка Вселенной, Разящий Меч Аллаха, без сна и устали печется о славе, мощи и благополучии живущего под светлыми лучами ислама благословенного Мавераннахра. Это и восславит историк…
По мысли же Нормурада, мечтавшего посвятить свою жизнь делу просвещения, война, кровопролитие – это чуждые человеческой природе дикость и варварство. Отдельные ли люди, целые ли страны – все должны жить в дружбе, любой спор, любой раздор решать сообща и мирно. Войны, набеги, угроза оружием должны быть изгнаны из политики. Вот тогда расцветут государства и люди, не зная, что такое зло и нужда, голод и лишения, заживут вольной и счастливой жизнью, наслаждаясь плодами истины и просвещения.
Так думал Нормурад. И верил этому. После того как прочитал дастаны Низами, великого поэта из Гянджи, он не признавал других путей, определяющих ход развития истории и общества. Три самых верных, самых неустанных тулпара, считал он, двигают общественный прогресс – наука, просвещение, ремесла.
Но положение у молодого ученого было плачевным. Служил он чуждой ему, отвратительной его душе политике – политике войны, разорения, уничтожения. И не только не мог рассказать о том, что видел, что пережил, излить свой гнев, но даже бесстрастным быть ему не дозволено. В тех записях, которые станут в будущем страницами книги мавляны Шарафутдина Али Язди, каждое деяние, каждый приказ, каждое слово Владыки Вселенной Нормурад обязан представить плодами великого ума и великой справедливости. Рука пишет, а душа в иных мыслях, словно в тенетах, бьется. И не идет из головы больной отец, молодая жена и единственный сын, сердце по ним мается, исходит тоской. Вернется ли он домой, увидит ли своих родных?
Шедшие на Тохтамыша войска Хромого Тимура связи с родиной не обрывали, гонцы безостановочно сновали в оба конца. По старому, еще со времен Чингисхана идущему обычаю, на том пути, что оставляли за собой войска, каждые десять – пятнадцать фарсахов ставился почтово-сторожевой пост в сорок – пятьдесят человек, где держали сменных лошадей для гонцов и запасы провианта. Как бы ни увеличивались расстояния, гонцы, одолевая по сто верст в сутки, сначала за десять, позже за двадцать дней добирались от походной ставки эмира до Самарканда.
Такая осмотрительность не была излишней. Хотя и в покоренных странах, и в самом Мавераннахре управлять оставались верные Тимуру люди, там или тут, только и гляди, закипит смута или вспыхнет мятеж.
О делах торговли и строительства, правосудия и сбора налогов, о посеве или жатве, обо всем, что связано со спокойствием государства, о тайных кознях врагов великий эмир должен узнавать своевременно, пусть он и находится за сотни фарсахов от столицы. К тому же в такой дальней дороге постоянная в чем-то нужда – в новом ли оружии, в дополнительном ли снаряжении. И в каждом случае, спрятав за пазуху грозное предписание эмира, несутся быстрые гонцы по широкой степи. Одни с фарманом домой скачут, другие же с вестями из дома спешат.
Переговорив с главой гонцов, Нормурад отправил домой два письма, но ни от отца, ни от братьев, оставленных защищать Самарканд, ответа почему-то не было. Того начальника без воздаяния он не оставил. Вроде доволен был глава почты, пылко уверял, что, мол, тот же самый гонец и ответ привезет. Но нет ответа. Тревожно было на душе у Нормурада.
До самого Ишима войска продвигались без особой спешки. Верховые лошади, стада овец и коров, отощавшие в долгом походе, на богатых приишимских лугах подкормились и отдохнули. Но вот войско пересекло Тобол, повернуло на закат солнца, и движение убыстрилось, день ото дня становясь стремительней.
Каждую колонну, каждый тумен, до последнего десятка, – все видит Тимур, все под тяжелым неусыпным его вниманием и движется его железной волей. Каким бы смелым, отважным ни был военачальник, воли ему эмир не дает, требует, чтобы все исполнялось по заведенному порядку, чтоб ни на миг не забывалась осторожность, чтоб ни одного безоглядного шага. Ибо знает великий воитель: здесь, в сотнях фарсахов от своей державы, случись что, ждать помощи неоткуда. И то известно Тимуру: упустишь время и случай – и пятисоттысячное войско Тохтамыша, собравшись воедино, подобно страшной палице обрушится на него. И чтоб не поднялась она, не раздавила, не разнесла вдребезги двадцать его туменов, он должен в излучине Итиля разбить Тохтамыша – прежде чем подоспеют войска Золотой Орды из южных степей.
Когда тумены Тимура вошли в привольные долины, прилегающие к предгорьям Урала, конный дозор наткнулся на небольшое кочевье башкир, не успевшее укрыться в горах. По свидетельству аксакалов, ногаи, летовавшие к югу от берегов Яика, собирались откочевать в глубь Дашти-Кипчака, войска их, как слышали, готовятся отбыть в ставку Тохтамыша. Что думает, к чему клонится бей башкиров Богара, пока что неясно, неведомо; известно только, что он тоже собирает силы. Во всяком случае, по стариковским догадкам, уж не на помощь ли великого царя Тимура он рассчитывает?
Эта весть очень скоро достигла ушей Железного Хромца. Эмир позвал своих сыновей, самых верных сардаров и приказал установить связь с башкирским беем. Еще он отправил к Уральским горам человек двадцать острых на язык и легких на ногу дервишей. Пусть ходят по тамошним кочевьям, призывают башкир отложиться от Тохтамыша, идти под руку великого эмира. Если не подчинятся, гнев Тимура-Гурагана будет страшен, и ни в горах, ни в лесах, ни в самой преисподней никому от его расправы не найти спасения. Так что судьба башкирских родов – в их собственных руках. Пусть думают.
А Нормурад вспоминал о своем друге Хабрау, с которым расстался много лет назад. Есть ли он еще на этом свете? И, провожая башкир-аксакалов, Нормурад спросил одного из них, что постарше:
– Отец, не знаешь ли ты человека по имени Хабрау?
– Если ты о Хабрау-сэсэне спрашиваешь, кто же его не знает? – ответил старик. – Есть ли другой сэсэн славнее Хабрау?
Поговорить еще, расспросить о друге подробнее не удалось. Охрана, поторапливая, повела стариков в степь. Они тоже получили повеление идти в свои кочевья и рассказывать о том, что великий эмир несет свободу землям Урала и тем народам, которые не поднимут против него оружия, зла никакого учинено не будет.
У Тохтамыша же были свои заботы.
Еще весна не сошла, как в степях по обе стороны нижнего течения Итиля под ярым солнцем выгорела молодая трава, пересохли озера и мелкие речушки и пришла сушь. Бесчисленному множеству мелкого скота, стадам коров, а пуще того измученным зимней бескормицей табунам лошадей, боевым коням нужны были сочные пастбища, войскам же – отдых.
После долгих раздумий Тохтамыш разделил свое войско на две части, одну половину отправил на берега Дона, а другой, оставшейся в среднем течении Итиля, приказал перейти на левый берег. Раскинувшись на со-тип верст, черною тучей закрыв степь, войска двинулись на север. Повелев разбить на степной пойменной стороне Итиля временную ставку, хан определил каждому из двадцати туменов положенное ему становье и под надежной охраной вышел в путь.
Зима прошла в нудной кровопролитной войне с охваченными смутой народами Кавказа, потом в набеге на Хорезм потеряно до восьми тысяч воинов. Но сумрака на душе у Тохтамыша не было. Из последних походов он возвратился с богатой добычей, и самая большая гордость – разбил десятитысячное войско Хромого Тимура, Властелина Вселенной, который поставил на колени полмира. Вот так-то, пусть не слишком заносится славный Мавераннахр, пусть не забывает, что есть под самым боком теплый сосед – могучая Золотая Орда; чуть зазеваешься – он тебя и пригреет. Тимур поносит его, владыку вечного Улуса Джучи, обзывает самозванцем и вором, на каждом шагу норовит дать подножку. Не обидно ли: мол, сытая собака на хозяина бросается. Вот его доподлинные слова. Тем хочет пристыдить, что помог ему когда-то завоевать престол Белой Орды. Будто мир как взял одно направление, так и идет им… Нет, великий эмир, не будет хан семенить, уткнувшись носом в хвост твоей кобылы.
Хан прибыл в свою кочевую столицу и сразу отдался утехам и наслаждению. Вправе он, пока войска отдыхают, лошади отъедаются на тучных пастбищах, от мирских хлопот отрешиться? По высокому ханскому примеру и сановники его, и славные сардары скинули с плеч воинскую ношу и тяготы месячного перехода. Пошли-покатились пиршества, да гульба, да скачки.
Видит Тохтамыш, хорошо понимает настроение своих сподвижников. Они спешат хоть немного пожить в покое, без опаски и тревог, попользоваться награбленным добром, от услады этого бренного мира отведать свою долю. Пусть побесятся малость, недельки две. Будь уверен: опустеют бурдюки с вином, опостылят наложницы, и сами же начнут приходить к хану и заводить разговоры о новых набегах. Добыча им нужна, новые богатства. Смысл их жизни в том.
Но, по правде сказать, и ханам отдых нужен. И более телесного отдохновения надобен душевный покой. Не по нраву было Тохтамышу валяться на мягкой перине, долго ублажать себя изысканной снедью и утехами гарема. На то он и хан, что мог педелями не слезать с седла, спать по два-три часа в сутки, есть что ни попади. А покой и уединение ему нужны, чтобы решить, куда теперь повернуть тулпара своей державной политики, обдумать, как повести дела в самом государстве, которое год от года расшатывалось все больше.

Прямой угрозы от Хромого Тимура пока что нет. По донесениям лазутчиков, он собирается сразиться с Молниеносным Баязетом. Потом на Китай, наверное, обрушится и на Индию. А помыслы Тохтамыша здесь. Пусть про него говорят, что и опрометчив хан, и своенравен – он-то видит, какая беда подстерегает Золотую Орду, на столько-то чутья у него хватает. Одно не дает покоя хану, заставляет думать целыми днями, никого к себе не допуская. Проснется ночью и ходит взад-вперед, как лев в клетке. А вся досада, вся ярость его – на Московское государство. Из всех бед самое грозное – возвышение Москвы. Видит Тохтамыш: растет Москва Золотой Орде на погибель. Стоит отрядам хана перейти на другой берег Итиля, так непременно где-нибудь да натолкнутся на русских и без крови не расходятся – уже в этом видно, что Москва в своей политике сделала крутой поворот. И еще саднящая рана Тохтамышу в печень – русские налаживают связи с богатыми западными странами, крепят государство. Междоусобица притихла, княжества, большие и малые, все больше к Москве льнут. Упустишь время, и кровный враг Улуса Джучи вырастет в грозную силу.
Тохтамыш принял решение: нужно воспользоваться тем, что Хромой Тимур отсюда далеко, стягивает силы против Баязета, и нынешней осенью захватить Москву. И чтобы скрыть истинные свои помыслы, отдал приказ войскам готовиться к набегу в Закавказье. В этом он, какой бы ненавистью к Тимуру ни исходил, взял себе в пример его умение и воинскую хитрость. Вон ведь как ловко тот придумал! Перезимовал с двумястами тысячами войск возле Ташкента, а с началом весны пошел в Срединную степь. «Вот лиса, вот плут! – восхитился хан еще раз хитроумием эмира. – Ловко он всем глаза замазал! И проморгаться не успеешь, а он уже повернет на запад и ударит по Молниеносному!»
Так думал Тохтамыш, так сам себе рыл могилу. И двести тысяч войска, что были с ним, обрек на гибель. Поздно разгадал он истинные цели Тимура, не успел вызвать войска с Дона. Как стояли они там, так и остались стоять…
А пока что хан бредил мыслями о захвате Москвы и пытался склонить на свою сторону Витовта, князя Литвы. Вскоре его посольский караван отбыл в Киев с наказом: пусть Витовт в дружбе Орды не сомневается, и если даже помощи не окажет, так хоть на политику Тохтамыша, направленную против Москвы, смотрит сквозь пальцы – и на том спасибо.
11
Богара-бей сидит, поджав ноги, на расстеленном в тени молодых березок белом войлоке, длинное полотенце в его руках мокро от пота. Он морщится от солнечных лучей, пробивающихся через листву, ерзает, поворачивает свое большое, тучное тело то так, то эдак. Взгляд его рассеянно проходит по блюду, полному мяса, по шурпе с курутом, по большим кускам лепешки. Кусок в горло не идет у бея. Сунет в рот кусочек мяса и, не прожевав толком, запьет кумысом из красной чашки с ободком, протолкнет дальше и словно бы ничего не видит, не слышит – ни сидящей напротив молодой жены Зумрат, которая исподтишка удивленными глазами посматривает на него, ни внуков, которые с шумом и криками играют неподалеку в войну. Сам здесь, а думы неведомо где. Однако, хоть и сидит с деревянным лицом, нет-нет да и кинет быстрый взгляд на север, на гору Сарыкташ. Оттуда, от той горы, должны показаться гонцы, которых послал он к бурзянам и тамьянам. Уже неделя исполнилась и вторая пошла, как уехали они. Если даже сегодня вернутся, все равно, по подсчетам Богары, на два дня опоздают. Не захочешь, да озадачишься. Кони под ними отменные, и ни бурь, ни дождей, чтобы в пути их задержать, не было. Неужто в какую беду попали?







