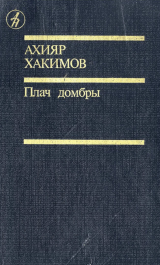
Текст книги "Плач домбры"
Автор книги: Ахияр Хакимов
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 41 страниц)
– Уйди, бесстыдница! – снова загорелась гневом Сагида. – Разве я об этом?! Ополовиненный говорят про того, кто половиной души живет. Вон Сынтимера возьми, какой гармонист был, а остался без руки, глаз от земли не поднимает.
– Хоть бы оставшейся рукой обнял, была бы рада. Нет, подружку выслеживает, словно сокол тетерку. Хорош ополовиненный!
– Что за вздор ты, Кадрия, плетешь! – сердито сказала Алтынсес и, разводя сапогами снежную жижу, прибавила шагу. Хотелось быстрее прийти домой, обрадовать мать и свекровь. Потому, хоть и слушала разговор, шла не оглядываясь.
Пока они брели так, то радуясь, то печалясь, дорога чем ближе к аулу, тем становилась хуже. Снег стал рыхлым, крупитчатым, самую колею залило, во впадинах, покрыв дорогу, разлились лужи. На взгорья, где уже дымилась черная земля, слетелись стаи грачей и с воплями делили что-то.
Сагида опять заговорила о том, о чем болело сердце:
– Нет, я уж так говорю… какую ни есть, только бы привез душу. Господи, на руках носить буду!
– Каждая так думает, Сагида. Я ведь тоже вначале с Сережей в шутку переписывалась. А теперь ночью от страха просыпаюсь, – сказала Кадрия, как-то сразу присмирев. – Хоть бы скорей фронтовики вернулись, кое-кто хвост поджал бы, – сказала она, показав назад, на подъезжающего верхом Тахау.
– И не говори, он бы и солнышку взойти не дал, будь руки подлинней. Куда ни пойдешь, его слово – закон.
Тут, легок на помине, сзади подъехал и сам Тахау. Женщины прикинулись, что не заметили его. Кадрия продолжала:
– В президиуме сидит – Тахау, нами как куклами играет – тоже Тахау.
– А уж это, Кадрия, от нас самих зависит.
– Зависит! Ладно, у тебя есть кому заступиться, а что таким, как я, одиноким, делать? Нужда прижмет, к нему идешь, в колхозе он хозяин.
– И Миннибай-агай совсем плох, два дня ходит, три дня лежит, за сердце держится, – сказала Сагида. – Только название, что председатель.
– Этому псу и на руку. Вон – жена больная, дескать, ни одного дня на работу не вышла. Больная! По лицу щелкни – кровь брызнет.
– Еще подавится…
Они подошли к мосту через речушку Кызбаткан, приток Казаяка. Вода поднялась уже выше наката, быстрые струи омывали накренившиеся перила.
– Я бы сама, не дожидаясь, своими руками удавила его, ни суда, ни тюрьмы не побоялась бы, мать жалко, – спускаясь к воде, сказала Кадрия.
Тут ехавший сзади Тахау махнул плеткой и, взбурлив воду, как мельничное колесо, с шумом и свистом проскакал по еле держащемуся мосту на ту сторону. Или побоялся, что замешкается и будет поздно, останется на этом берегу, или спутницам назло: вот так, дескать, коли языка своего унять не можете, посмотрим, как без Тахау переправитесь.
– У этого пса, наверное, даже потроха черные! – чуть не плача, сказала Сагида. – Не мог нас перевезти.
– У собаки и повадки собачьи, – сказала Кадрия, подтыкая платье.
Не слушая уговоров подруг, вошла в воду и стала выискивать места, где помельче. Палкой потыкать – вроде и не глубоко, а шагнешь – ноги в рыхлый снег под водой проваливаются. Сагида и Алтынсес тоже вошли в воду, походили вдоль берега и решили искать брод в другом месте. У безоглядной Кадрии оба сапога были полны воды.
– Раз так – мне теперь море по колено! – и она размашисто зашагала к мосту.
– Не останавливайся, беги! Быстрей беги! Домой! – закричала Сагида, но Кадрия повернула обратно.
– Тут вроде надежней. Айда, Сагида, сначала тебя перенесу, ты ведь у нас мать двоих детей, – сказал она. Сагида в ужасе замахала руками. – Хватит спорить. Мерзну. – Взвалила ее, как мешок, на спину и, пошатываясь, побрела к мосту, который все больше и больше уходил в воду.
«Уф, только бы не упали!» – молила Алтынсес. Нет, не упали. Тяжело дыша, Кадрия опустила подругу на высокий берег и, верная своей привычке, с ходу сочинила и спела частушку:
На гнедом ли, вороном
Умчат нашу Сагиду.
Кто-то ходит под окном —
Несет радость иль беду.
Перетащив и Алтынсес, Кадрия быстро выжала подол, сняла шерстяные носки, сунула их в карман. Алтынсес сорвала с головы шаль, Сагида – платок, и они обмотали ей ноги.
– Как бы не заболеть тебе, – сказала Алтынсес, тормоша подругу.
– Я не ханская дочка, чтобы от такого пустяка заболеть!
До аула оставалось с полкилометра, когда в околичные ворота, стелясь большим наметом, вылетел всадник. Это был Сынтимер на лошади Тахау.
– Ну и нагнали вы страху! – Он осадил коня и спрыгнул с седла. – Тахау говорит: «Мост через Кызбаткан залило, еле спасся». Про вас спросил, хоть бы глазом моргнул: «Бабы, говорит, что кошки, живучи, ничего им не будет, как-нибудь извернутся». Шмякнул его с седла наземь и к вам поскакал.
– За то, что шмякнул, – молодец! Только опоздал, бригадир. Как Тахау сказал, мы, как кошки, живучи, извернулись. Живы-здоровы, любую выбирай, – с издевкой сказала Кадрия.
– Да… я всегда опаздываю. Ладно, коли так… – Он вскочил на лошадь, но не обратно в аул поскакал, а поехал, теперь уже медленно, туда, куда только что торопился, к мосту через Кызбаткан.
4
Чуть затеплились сумерки, когда Алтынсес проснулась и тихо простонала от ноющей боли в плечах и руках – вчера весь день таскали мешки с семенной пшеницей. Она повернулась на другой бок и не успела подосадовать, что рано проснулась, – заснула опять.
Бывает, что человека всю жизнь преследует какой-то сон: один в ужасе спасается от диких зверей, другой в черном поту карабкается на вершину горы, третий тушит пожар, четвертый изведется весь, ищет что-то и не может найти…
Девочкой Алтынсес, замирая от страха и счастья, летала. В залитом лучами бескрайнем небе плыла тихая музыка. И она вместе с музыкой, плача радостными слезами, летала из конца в конец этого дивного неба. Потом этот сон перестал приходить, забылся, повадились другие, непонятные, смутные, в обрывках, словно моток спутанных ниток. Но когда Алтынсес только-только вошла в девичество, полюбила Хайбуллу, стала душой исходить по нему, пропали и эти… В тяжелую, но чуткую, как настороженный чеглок, дрему стал приходить странный сон.
…Детский голосок закричал: «Свадьба идет! Свадьба идет!» И Алтынсес, бросив с плеча коромысло с ведрами, понеслась вдоль Казаяка к броду, чтобы перебежать на ту сторону. А с того берега какой-то парень кричит что-то, Алтынсес зовет, но голоса не слышно, да еще руками размахивает, раскидывает их: плыви, дескать, вот так, вот так… И Алтынсес, забыв про страх и про то, что не умеет плавать, прыгнула в самый омут. Казаяк, бурля водоворотами, понес ее, потянул на дно, где мерцают черные водоросли и тусклые рыбы. Бьется Алтынсес, отчаянно рвется из воды. А парень на берегу – Хайбулла. Зовет, руками машет, но с места не двигается. Пошел бы навстречу – ноги по колено в землю ушли. Виновато улыбаясь, он показывает на них… Близок уже берег, но силы на исходе. Тяжелое платье, пудовые сапоги гирями тянут ко дну. Эх, еще бы один-два рывка! За камыш бы уцепилась, за ветви нависшей ветлы и выползла бы на берег…
Но что это? Вместо Хайбуллы на берегу – Сынтимер…
А берег, вот он, рукой подать…
Обратно рванулась Алтынсес, но сил уже нет. И вода остановилась, вверх поднимается и ее, бессильно раскинувшуюся, поднимает вверх.
К худу ли, к добру ли – она и в этот раз не досмотрела сна.
От страха ли, от криков ли на улице, от ветра ли, который стучал калиткой, – она вздрогнула и открыла глаза. Тело колотила дрожь, сердце билось, готовое выскочить из груди. Что за сон – придет, измучит, отойдет, придет и мучает снова… В который уже раз!
Едва, еще не очнувшись, подумала: «Не дай бог, наяву такое…» – распахнулась дверь и вбежала свекровь.
– Невестка, доченька! Дочка! – задохнулась, схватилась за горло. – Проснись же! Не время спать! – Сама плачет, сама смеется, платок с головы до пола повис. Дверь настежь, куры набежали – ничего не видит старуха. Проглотила застрявший в горле комок и, подбежав к Алтынсес, обняла. – Доченька, неужели не слышишь, что на улице… Вставай! Война кончилась!
– Мама!!! Откуда… Кто сказал?
Она отбросила одеяло, спрыгнула и, оторвав свекровь от пола, закружила ее по избе. Зоя и Надя проснулись, сели, смотрят недоуменно. Алтынсес посадила Мастуру отдышаться и бросилась к девочкам, обняла, то одну целует, то другую:
– Маленькие мои! Красавицы мои! Война кончилась, война кончилась.
Девочки высвободились из ее объятий и, разметав кур по избе, выбежали на улицу. Следом, на ходу натянув платье, бросилась и Алтынсес, старая Мастура, даже забыв выгнать бессовестных кур, тоже поспешила за ними.
Горе в одиночку, радость – на миру. Счастливая весть промчалась по аулу, словно вихрь, распахнула двери, окна, вынесла всех на улицу.
Мальчишки, постарше – верхом на коне, помладше – верхом на палке, с кликами: «Суюнсе! Суюнсе! Война кончилась! Война кончилась! Победа! Победа!» – носились по улицам. Женщины, от девочек-подростков до глубоких старух, позабыв о заботах и хлопотах, мелких и крупных обидах и дрязгах, обнимаются, одна смеется, другая плачет. Кто-то растянул гармошку, кто-то играет на курае. То там, то здесь раздаются бойкие припевки и, словно казаякские буруны, проходят по толпе; кто умеет, кто не умеет – все пускаются в пляс. Мужчины уже спроворили, промочили горло, один костылем стучит, другой пустым рукавом машет.
Празднество не стояло на месте, оно медленно шло по улицам, подвигаясь к сельсовету.
Вдруг все стихло. Два подростка вынесли из сельсовета красное полотнище – его разрезали и сшили из сукна, которым застилали стол президиума. Четыре долгих года горело оно на поздних куштиряковских собраниях; от голода, от усталости, от этого пылающего в свете керосиновой лампы пятна у женщин плыли круги перед глазами, а председатель сельсовета, тревожный, будоражащий, говорил: помните, сейчас, вон там, война! «Эх, – сказал он, – режь, не жалко, теперь и сукна, и всего будет вдоволь!» Ребята подняли и развернули полотнище над дверью. Белой известкой было написано: «Победа! Слава Красной Армии!» – больше не уместилось, хотелось написать покрупнее. Все узнали его, это красное сукно. И оттого, что слова эти сказало то самое, еще вчера столь грозное сукно, – глазами, телом, измученной памятью ощутили: Победа!
– Ой, мама-а! – закричала и забилась в рыданиях одна женщина. К ней присоединилась вторая и третья. Другие стали обнимать, успокаивать их. Одну даже чуть не на руках вынесли из толпы и посадили под плетень. Воздух дрогнул от нескольких разом рванувшихся гармоней. Снова зазвучали песни, толпа раздалась, и в кругу под звонкое жужжание курая начались танцы. Праздник закипел снова. Лишь старухи начали расходиться по домам, нужно было залить воду в казан, затопить печь. По всему аулу задымили трубы. Доставали из погреба заветный, туго сбитый колобочек масла, горшочек со сметаной, из амбарного подволока спускали четверть вяленого гуся.
Вместе с людьми праздновала и природа. Солнце, перевалив за полдень, купает землю в тепле, поднятые шумом на улицах, мечутся в ясном небе всполошенные птицы, щипля молодую траву на первом выпасе, ржут кони, по холмам, задрав хвосты, носятся телята.
Алтынсес вместе с подругами пела до хрипоты, плясала, покуда не стали подкашиваться ноги. Если даже эта страшная бесконечная война кончилась, то почему же ее бедам не должен прийти конец? Придет, непременно придет конец и ее тоске. И народ ликует, и природа, казалось, никогда еще не была так прекрасна, как сегодня. Солнце в небе, белогрудые ласточки над головой, деревья, с легким треском выпускающие листья из почек, – все обещало счастье, обновляло надежду.
Не знала Алтынсес, что мучениям ее не кончен счет, впереди и бессонные ночи, и горькие слезы. Но сегодня вместе со всем Куштиряком гуляла и она. Двухлетнее молчание мужа, смерть родного брата и многих близких, собственные страдания хоть и не забылись, но на этот один день отошли в сторону. Она не замечала сожалеюще-удрученных взглядов, а когда Фариза вызвала ее из круга танцующих и, глянув с укором, всхлипнула: «Отчего ж ты, дочка, так-то веселишься? Ведь наша с тобой радость – мед с полынью», сказала только: «Не плачь, мама! Вот увидишь, скоро отец домой заявится, а за ним следом и твой зять», – и снова устремилась в круг, к выбивавшей дробь Кадрии.
Этот подъем в ауле царил еще дней пятнадцать. И Алтынсес, куда бы ни шла, какую бы работу ни делала, будто на крыльях летела. Прострекочет ли сорока, сидя на плетне, упадет ли на пол заткнутая за жердину подушка, свекровь ли, накрывая к чаю, по ошибке поставит лишнюю чашку на стол – все истолковывала на хорошее, все это было знаком, что скоро вернется Хайбулла.
Прошел месяц. В аул начали возвращаться солдаты. Вернулся из трудармии Гайнислам, отец Алтынсес, следом Самирхан, муж Сагиды, потом сразу три фронтовика, а потом, сверкая медалью, объявился старик Салях.
Каждого полсвета прошедшего солдата приходили повидать со всего аула. Собирались в сумерки. С одной стороны, днем все были на колхозной работе, с другой – надо же и усталому, из дальней Европы пришедшему солдату обнять, приласкать родных, хоть немного наглядеться на них, гостинцы раздать, в бане попариться.
Войдя в дом, куда залетела птица счастья, или здоровались почтительно, обеими руками, или обнимались, расспрашивали о житье-бытье. Вначале справлялись о здоровье фронтовика, цел-здоров ли, если нет – не очень ли донимают раны, потом рассказывали о себе, о доме, о семье, родственниках и соседях, о последних новостях аула. Потом слово солдату: об орденах и медалях, где и за что наградило командование, о ранах и увечьях, где и как наградила судьба. И наконец кто-нибудь из женщин, ждущих сына или мужа, но их свиданию еще не настал черед, осторожно спрашивал: «А с нашими встретиться не довелось?» Разговор, само собой, переходил на то, каким огромным был фронт, и как далеко, за тысячи километров друг от друга, лежали страны, которые освобождал наш солдат. «Эх-хе, свойственница (или сноха), там не то что человека – целую армию не знаешь, где искать!» Уходить не спешили. Европейского гостинца – сигарет с золотым обрезом – и на пару часов не хватало, в распахнутое окно тянулся дым крепкого, как корень девясила, самосада с районного базара.
Не успеет солдат обвыкнуться с аулом, как приезжает другой. Были и такие, что еще не оправились от ран. Тогда старухи несли только им ведомые целебные травы, женщины забегали к жене раненого с катыком, молоком или яйцами, на отказы хозяйки говорили: «Разбогатеешь – рассчитаешься», мужчины приходили, починяли ограду, строения, заготавливали сено и дрова.
В день, когда вернулся старик Салях, Алтынсес была на дорожных работах. Услышав радостную весть, она воткнула лопату в кучу песка и хотела бежать в аул, но одна из женщин кивнула на щебень возле дороги:
– А это кто разбросает, если все в аул побежим? Уже вечер скоро, успеешь.
Домой пошли после захода солнца. Алтынсес наскоро перекусила и поспешила к старику Саляху. Двор был полон народа. Наверное, чтобы не тревожить больную старуху, поговорить решили здесь. Главный разговор, кажется, еще не начался, люди подходили к стоявшему на крыльце старику, почтительно здоровались, расспрашивали о здоровье. Пройти через весь двор у всех на глазах Алтынсес не решилась, подошла к женщинам, которые пришли раньше и вынесли из дома скамью. Потеснились, дали ей место.
Пока еще подходил народ, она украдкой рассматривала старика. Его сухое лицо на солнце и ветру стало темным, как медь. Мало того, острую козлиную бородку сбрил, оставил только усы подковой. Широкий ремень, новая гимнастерка, пилотка чуть набекрень, живость движений – старик помолодел лет на десять.
Вот уже все пришли, все поздоровались, сам хозяин тоже сел на крыльцо, и один из стариков сказал:
– Ай-хай, годок, шустрый ты оказался! В наши с тобой лета воевать – шутка ли!
Раздались голоса:
– Шутка не шутка, а без него-то никак не могли закончить.
– Хитер старик, уловил момент, лежачего небось каждый добьет.
– Чепуху городишь, сам маршал Жуков лично ему письмо прислал: помогай, старик, не свалить нам Гитлера без тебя.
– А что? И свалил Гитлера – медали-то зря не дают. Старик сидел, слушал и только посмеивался из-под усов. Когда все стихли, он достал из кармана трубку, не спеша набил ее и щелкнул сделанной из гильзы зажигалкой.
– Эй, ровесник, ты же лет десять как бросил курить! Снова задымил, что ли? – удивился тот старик, который все восхищался тем, какой Салях шустрый.
– Пришлось закурить… Тут один из вас Жукова помянул. Из-за него-то и закурил.
Народ зашевелился, заерзал, усаживаясь поудобней.
– Да, с этого все началось. Прошли мы Польшу, вошли в Германию, дороги там хорошие, и всю артиллерию перецепили к машинам – так что все, полная отставка моим иноходцам! Вызвал меня комбат и говорит: «Всех лошадей полка отправляем в тыл. На тебя возлагается задача: в целости доставить в такой-то пункт. Сдай – и обратно. Будут с тобой еще двое с других батарей. Ты – старший». – «Есть, товарищ капитан! Разрешите вопрос. Сдам я коней, а как вас потом разыщу?» Смеется: «С самого Урала прибыл, не потерялся, здесь тоже не пропадешь, не иголка».
Приказ есть приказ, встали с зарей и погнали косяк, чуть не сто коней, обратно в Польшу. Капитан велел идти просеками, на большие дороги не выходить – там войска идут, чтоб у них под ногами не путаться. В первый день прошли километров сорок. Ребята мои – русские, с поляками объясниться могут, едем, дорогу спрашиваем. Я и сам, когда с Буденным под Варшавой был, кое-что по-польски знал, только забыл… В лесу переночевали, утром дальше пошли. Скорее бы сдать лошадей и обратно. Наши к самому Берлину уже подошли, обидно, если опоздаем.
Как я прикинул, к вечеру должны быть на месте. Но прикинул, выходит, по домашнему счету. Дома версты считаешь, а в дороге – ямы. Вышли мы к большой реке, напротив того места, где нам лошадей сдавать, – и глазам своим не поверили. От деревянного моста, по которому я столько ездил с фуражом, только черные сваи торчат. Стоим, затылки чешем. Вброд перейти и думать нечего, полая вода только в берега возвращается. Не то что лошадей вплавь пустить, на лодке плыть страшно. Уже темнеть начало. Пришлось заночевать здесь. Утром верстах в шести повыше нашли мост, большой, каменный, но подойти и не думай: танки, «катюши», машины с войсками и боеприпасами идут и идут.
Что делать? Подумал, подумал и говорю: «Сделаем так. Подгоним лошадей к мосту, а выйдет момент – и галопом на ту сторону погоним».
Ждем. Лошади плотным косяком стоят, ребята поели, сидят сонные, носом клюют. И не заругаешься, редко солдату сна вдоволь перепадает, вот он и подбирает, где можно, крохами.
Было уже за полдень. Колонна все шла и шла на закат и вдруг оборвалась. Только санбатовский фургон проскочит или мотоцикл. Побежал я к часовому у моста. С сержантом я еще утром договорился, но все равно разрешение нужно. «Черт с тобой, гони своих чесоточных!» Только он рукой махнул, мы и погнали табун, кнутами щелкаем, свистим. Но лошадь на войне больше всего мостов не любит. Где их косит, так это там. Бедные лошади… у них этот страх уже в крови. Мы орем, надрываемся, кнутами хлещем, а лошади сбились в кучу, дрожат, будто волка почуяли, топочут возле моста, а на мост не идут. Тут еще сержант перепугался и весь, какой у русских есть мат, на наши головы вылил.
Только мы с трудом загнали передних лошадей на мост, показался немецкий самолет. Пролетел над нами, тень прошла, мы головы вжали, потом развернулся и пошел из пулемета бить, бомбы бросать. Хорошо, тот парень, что впереди, бойкий оказался, рванул на своей лошади на тот берег, и весь табун с ржанием понесся следом.
Не до самолета! Какой там самолет! Знай коней нахлестываем. Ведь не пять-шесть голов – вся тягловая сила полка! Голова табуна уже на том берегу, а хвост еще на этом. Тут упала бомба и снесла боковину моста. Сам проезд целый остался, а вот коней двадцать встали и стоят, страх все четыре ноги путами стянул. Половина уже на том берегу – во все стороны разбегаются, а эти с моста ни шагу.
В это самое время с той стороны въехали на мост два мотоцикла. За ними – четыре машины. Солдат на мотоцикле автоматом машет: «Что за цирк! Освободи мост!» А я от злости сам на него ору: «Дай дорогу!» Начали друг друга крыть, сразу до дедов-прадедов дошли. Еще и тот сержант мне в стремя вцепился, чуть не плачет: «Гони обратно! Начальство какое-то! Полетят наши головы!» Раз так вышло, у меня самого упрямства хватит. Головы оторвут или прямо здесь на мосту застрелят – все равно, знай плетью машу. Две лошади от давки в воду свалились. Остальные, видать, поняли, что другого пути нет, – кинулись вперед. Солдат на мотоцикле, который на меня орал, еле в сторону успел отпрыгнуть, мотоцикл у него перевернулся, второй на ограду моста вскарабкался. «Не оглядывайся, скачи!» – крикнул я напарнику, тут кто-то схватил мою лошадь под уздцы и стащил меня с седла.
Смотрю, молодой такой полковник, за шиворот сгреб, съесть меня готов: «Кто такой? Документы!»
Слушатели затаив дыхание смотрели на старика Са-ляха, кто-то хлопнул себя по бедру:
– Ну, влип старик!
На него тут же зашикали. Старик воспользовался заминкой и набил трубку.
– А потом… дальше? – заторопили его, недовольные задержкой.
– Дальше? Дальше душа в пятки ушла. Гляжу, за теми четырьмя еще с десяток машин показалось. За то, что движению войск помешал, могут и расстрелять. Очень просто. И никому не пожалуешься. Не успел я даже красноармейскую книжку и документы на лошадей достать, полковник обернулся к стоявшему рядом лейтенанту и рявкнул: «Арестовать!» Но тут вышел из машины еще один и сказал: «Отставить!» Два солдата уже схватили было меня с двух сторон, но сразу, будто змея их ужалила, отдернули руки и отскочили. Меня холодный пот прошиб: какой-то очень большой начальник. «Виноват, говорю, товарищ генерал». А он усмехнулся строго и поправил: «Маршал».
– Ух ты! – крикнули оттуда, где сидели мальчишки. – Сам Жуков, что ли?
– Сам. Я его не сразу, но узнал. В газетах портрет видел.
– Ну, врет старик! Жуков! И глазом не моргнет! – рассмеялся кто-то.
– Ты вот что скажи, – крикнул другой, – я три года на передовой был, а не то что Жукова или другого какого маршала, и генерала-то раза два всего видел.
– Эй, не шумите-ка! У вас так было, а у Саляха-агая этак вышло.
Старик, будто и не слышал, сунул трубку в карман гимнастерки и стал рассказывать дальше.
– Нет, бушевать не стал, расспросил, в чем дело. Я уже очнулся, что и как – все толком объяснил. Маршал постоял, подумал и… достал из кармана золотой портсигар.
Старик помолчал, и все молчали, каждый вдруг увидел этот портсигар перед собой.
– Большой портсигар, красивый.
Гул всплеснулся над ночным двором:
– Я же говорю: врет старик!
– Ай-хай, а не ошибаешься, Саляхетдин-агай? Больно нравом зол да крут, говорят про маршала Жукова, – засомневался еще один фронтовик.
– Говорю же – заливает!
Старик, кажется, немного обиделся.
– Что я, у Жукова воевал и Жукова не знаю? – строго сказал он. – Крут! Много вы понимаете.
– Не слушай ты их, рассказывай! – сказала одна женщина.
– Рассказывать, говоришь… А на чем я остановился?
– Маршал портсигар открыл.
– Да, щелкнул портсигаром и мне протягивает: закури. А я стою ни жив ни мертв, где уж сказать, что не курю!. Рука онемела, а сам не знаю, шутит или нет. Он увидел это и говорит: «Бери, бери». Ну, пронесло, думаю, протянул руку и сам не заметил, как брякнул: «Спасибо, товарищ маршал! Раз такое дело, возьму две». Те, кто вокруг стоял, как от полыни поморщились, один даже тихонько сказал: «Вот нахал». Маршал улыбнулся: «Про запас? Что, не выдают табаку?» Не успел я ответить, а он: «Лейтенант, пачку папирос солдату!» – «Спасибо, говорю, не надо, я вторую для товарища взял». Но лейтенант, малый проворный, улыбается во весь рот, пачку мне сует. Закурил я от зажигалки маршала, он тоже закурил. Покурили, он и говорит: «Ладно, прощай, старик. Больше у маршала на дороге не вставай, время сейчас горячее. А за службу спасибо». Вот так. Машины покатили дальше, а я так и остался с открытым ртом.
– Афарин, ровесник! С самим Жуковым разговаривал, а? – восхитились старики.
Фронтовики только посмеивались. Уж они-то о многом могли спросить старика: куда потом делся самолет, неужели такой важный мост не охраняли зенитки, и чего это маршал в самую бомбежку въехал на мост, и на каком языке они с маршалом так свободно разговаривали – на русском или на башкирском?
– С тех пор и куришь?
– А как же, подарок маршала, небось не выбросишь. Правда, пачку мы с ребятами еще до вечера искурили. И перешли на махорку.
– А кони-то, кони? Что с ними стало?
– Собрали их снова, даже одна из тех лошадей приплыла, другая, видать, расшиблась, и сдали, куда было приказано. А там! Тысячи голов! В эшелоны грузят и домой отправляют – колхозам.
– Эх, нам бы хоть пять-шесть! – мечтательно сказал мальчишеский голос.
– Нам вряд ли, сынок. По Украине и Белоруссии один пепел летает. Там поднимать нужно.
Женщины завздыхали:
– Сколько же еще будут тянуться эти муки?
– Неужто и теперь не заживем по-человечески?
– Нелегко будет, опять терпеть придется. Ничего, сношеньки, главное сделали, – сказал старик Салях, достал из кармана сигареты, раздал мужчинам. – Покурите, может, понравится. Немецкие.
– Не из Берлина, случаем?
– Оттуда, можно сказать. Мне не по нутру – больно пресные.
Мечтавший о лошадях мальчишка вскочил:
– Ты и в Берлине был, дедушка? Большой он? С Уфу, наверное?
– Вот еще, куда конь с копытом… – Кто-то из мужчин, дернув за штаны, посадил его на траву. – Тут взрослые разговаривают… – и закашлялся. – Тьфу, к горлу липнет!
Мальчишка не сдавался.
– Интересно же! Прошлой осенью лес туда возили – ох и большая Уфа, удивился я!..
– Если удивился – поставь рядом еще десять таких, как Уфа, вот и будет Берлин.
– Ну-у… Неужто и Москвы больше?
– Нет, больше Москвы на свете города нет, но и Берлин, пожалуй, немногим уступит. Огромный! На машине едешь-едешь, а конца-краю не видать, устанешь даже. Правда, разрушен здорово, мало что уцелело.
– Впору им, – отрезал из темноты женский голос.
– Верно! И весь ихний народ надо было с земли стереть – за их зверство и за наши муки! – поддержала другая женщина.
– Не народ, сноха, фашизм виноват. А народ…
– А эта армия, которая у нас один пепел оставила, – не народ? Рано ты их жалеть начал, дед!
– Конечно, народ тоже виноват, – сказал Салях. – Поддались немцы угару, рабоче-крестьянское сознание замутилось, потеряли голову, дали дорогу этому псу, Гитлеру. Теперь рабочие и крестьяне там покрепче думать будут: кому верить, кому нет. Кто обжегся на молоке, дует на воду.
Но женщин эти доводы не убедили!
– Пусть теперь хоть на собственный язык дуют, нам от этого не легче. Мертвых не воротишь…
– Ишь когда опомнились! А если бы взяли верх? Они бы нам показали рабоче-крестьянскую…
– Эх, мой бы суд, я бы знала, что с этими извергами делать!
– И всегда вот так, зла не держим! – в сердцах сказала одна. – Сам же воевал, Салях-агай, Германию прошел, а такое говоришь!
Проблема была сложная, и старик спорить не стал.
– Поживем – увидим.
Было уже поздно. Вернее, уже перевалило на раннее утро. Прошла по аулу вторая перекличка петухов. Подул прохладный ветерок. Народ и не думал расходиться. Разговор перешел на деревенскую жизнь, на ближние заботы. Люди, позабыв, зачем они сюда собрались, начали вспоминать пережитые тяготы, пытались угадать, какая жизнь пойдет теперь. Начнут ли выдавать на трудодни хлеб? Появятся ли в магазине чай, сахар, товары? Скостят ли хоть немного налоги, поставки мяса, масла?
Разговор, в точности как воды Казаяка, то плавно, спокойно тек, то, кипя на перекатах, переходил в горячий спор. Все – и старые и молодые (только мальчишки уже спали, про налоги было неинтересно) – забыли о том, что с рассветом выходить на работу, и часов для сна уже не оставалось. Все бы сидели и сидели, если бы старик Салях не сказал наконец:
– Ладно, ямагат, всего враз не перерешим. Надо и для правительства работы оставить.
– А про медаль-то и не рассказал! – вспомнил один из парней.
– Это в другой раз…
– Да, да, – сказали старики. – Поздно уже. И батыру отдых нужен.
Люди встали, растолкали детей и, переговариваясь, пошли по темным улицам.
Никто так не досадовал, как Алтынсес, что ночь была коротка и что оборвался разговор. И рассказ старика, и споры односельчан, их воспоминания о пережитом, рассуждения о будущем она слушала в нетерпеливом ожидании. Но до самого главного разговор так и не дошел. Помня, наверное, что рядом с больным о болезнях не говорят, о тех, кто погиб и от кого давно уже нет вестей, не сказали ни слова. Удивительно, три месяца провоевал дед Салях и неужели ни одного земляка не встретил?
Ведь Хайбулла не единственный, кто без вести пропал. Если не в Куштиряке, то в соседних аулах есть, Алтынсес слышала. Почему же о них-то не зашел разговор? Может, что-нибудь говорили до нее? Стала вспоминать, и сразу показалось, что и старик и односельчане все время прятали от нее глаза, и женщины, когда она подошла к ним, как-то очень быстро потеснились на скамейке.
Поэтому, когда утром свекровь сказала:
– Отпросись сегодня пораньше, Саляхетдина пригласим на чай, – вяло ответила:
– А чего меня ждать? Посидите, поговорите вдвоем…
– Ты что, дочка? Вчера, как услышала, что он приехал, не поела даже толком, туда побежала. Что с тобой?
– Ничего. Думала, посидите, поговорите вдвоем… – Алтынсес опустила голову.
– У меня секретов от тебя нет. Хоть и без особых яств, свату со сватьей тоже скажу. Хочешь, Кадрию пригласи.
Кадрия тоже вчера приходила к старику и тоже осталась недовольна его рассказом: «Только байки и знает, старый черт», так что возможность поговорить со стариком в тесном кругу пришлась ей по душе.
– Эх, подружки, так, видать, в пустой тоске иссохну вся. С последнего письма Сергея уже месяц прошел, седьмого мая написал. С тех пор ни слова. Может, мертв, а может, жив, да пятки смазал.
– Наверное, случая не было, человек же военный.
– Случай! Война была, каждую неделю писал, а теперь случая нет? Может, дед что знает…
Алтынсес знала, что сердце Кадрии под спудом-то всегда, словно угли, синим жаром тлеет – только ветра ждет, чтобы вспыхнуть живым огнем. На этот раз ветер прилетел издалека. Если бы встретились, судьбами сошлись, как бы хорошо было!
Бывает же так: познакомятся по письмам, полюбят и живут потом счастливо. Недавно в кино даже про это показывали. Интересно там вышло! Получила девушка телеграмму, от волнения пить-есть перестала, две ночи на вокзале ночевала. И чего бы ей дома не сидеть, все было бы хорошо, нет, не выдержала, встречать побежала. Ну и, конечно, разминулись. Девушка на вокзале среди тысячи военных разыскивает парня, а тот слез с поезда и прямиком пошел домой к девушке, которую ни разу в жизни не видел: с сыном профессора – он тоже возле девушки увивался – сцепился. И пошла путаница! Солдат обиделся, пошел брать билет домой, девушка узнала, как было дело, за ним следом поспешила. Конец известен: встречаются, объясняются. Без этого и кино не бывает.







