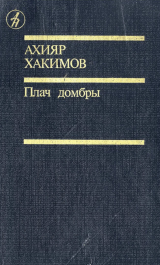
Текст книги "Плач домбры"
Автор книги: Ахияр Хакимов
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 40 (всего у книги 41 страниц)
И вот сейчас – лежит она, думает. Вспомнит что-нибудь из недавнего, зароется лицом поглубже в подушку и простонет тихонько. На ровесниц своих, с которыми росла, десять лет вместе училась, кричать! Как она могла? По какому праву? А вспомнит про Зайтуну, и лицо словно пламя лизнет. Приветливая, исполнительная, смешливая девушка, с губ улыбка не сходит, а сама – как серебряный бубенчик, все время поет. А как мать слегла, молчит, с лица спала, ходит, головы не поднимет.
А ведь говорили Танхылыу. И не раз говорили. И Диляфруз, и Алтынгужин при случае пытались урезонить. Исмагилов тоже иной раз при встрече рассказывал какую-нибудь историю. И оказывалось, что очередная его история в сути своей схожа с тем, что, скажем, позавчера случилось с ней. Но Танхылыу это сходство и эти намеки старалась не замечать, очень уж они были не в ее пользу.
Кстати, и Кутлыбаев. Тоже случая не упустит, всегда готов капризный ее характер раскритиковать, спуску не даст. Впрочем… Тут отдельный разговор, двумя-тремя словами не отделаешься. Кутлыбаев по молодости в каждое дело страсти, быстроты прибавить хочет, но, как известно, у мира свой ход, свой лад. Без времени и лист с дерева не упадет. Действительно, все – и как трава прорастает, и спящее зерно просыпается, и яйцо под курицей в желтого цыпленка обращается, и солнце всходит и заходит, – все, все доказывает, что течение жизни, законы бытия основаны на движении неторопливом и степенном. Значит, и читатель не может требовать от автора, чтобы идущие своим ходом события он тянул вперед за полу или подталкивал в шею. Всему свое время. На дне терпения – чистое золото.
А Фаткулла? Разве не видел он, что дочка ведет себя, мягко говоря, не так? Или ему было все равно? Нет, и видел, и не все равно. Не раз говорил с ней, пытался вразумить дочку. Но здесь, как и в любой семье, если и возникал какой-то спор, то разрешался он в пользу молодого поколения. Только в одном старшее поколение стояло твердо, не уступало – когда дело касалось идейных позиций.
О долгой ожесточенной войне, которая шла между отцом и аулом из-за места для тополя, Танхылыу знала до мельчайших подробностей. Шла из-за этого и малая война дома. И уговаривала Танхылыу, и обижалась, и целыми днями пробовала не разговаривать, но Фаткулла стоял крепко, словно скала, стойко держал свои позиции. Вот тогда и пришло дочке на ум поставить в конце улицы новый дом.
Нрав Танхылыу известен. Задумала – пусть хоть сто человек наперекор встанут, сделает по-своему. Поехала в Каратау, договорилась с одним знакомым тетушки своей, который имеет отношение к строительству, и однажды ночью, словно осенний гром, прогремели вываленные из кузова лиственничные бревна… Последующее читателю уже известно.
Расчет у Танхылыу был простой. Поставит она большой новый дом, тогда и отец за старую избенку, которой уже полвека, и за баньку, которой уже все сто, цепляться не будет, передаст вместе с ней. Место для тополя на старом подворье освободится, и Шамилов получит желаемое. Как-никак Танхылыу – дитя Куштиряка, слава аула и ей дорога. Но Фатхулла одно твердил: «От дедов-прадедов достался мне этот фундамент. Как же я брошу его? Не нравится старый дом – поставим новый, но только на этом же месте».
К тому времени уже и птица любви успела свить гнездо в сердце Танхылыу. Фатхулла узнал об этом, но, конечно, не от самой дочери. Новость, под большим секретом, после страшной клятвы, что ни словом, ни жестом, ни намеком он не выдаст никому, сообщила ему сестра его Ниса.
Хоть досадно было Фаткулле, что на старости лет останется один, но сердечным выбором дочери был доволен. «Хорошего отца сын, и не для себя, для людей старается, – думал он о парне. – И что на пять-шесть лет старше ее – тоже хорошо. Созрел уже, ума набрался. Не то что некоторые молодцы – от ворот к воротам шастать не будет. Вот такой жених, трезвый умом, с твердой рукой, и нужен Танхылыу». И отец с дочкой тайком друг от друга начали готовиться к свадьбе. А Ниса, будучи наперсницей и брата, и племянницы, обе нитки их желаний, их хлопот сматывала потихоньку в один клубок.
Наконец-то!
Вот и настал миг, когда автор сможет удовлетворить желание измаявшегося читателя. Не то у него, у автора, в ушах уже звенит от нетерпеливых вопросов: «Что за загадка? Кого же любит Танхылыу? Что за автор – ничего не знает! А если знает, чего же молчит? Язык проглотил?»
По совести говоря, поначалу автор действительно ничего не знал. Правда, чувствовать маленько чувствовал. Но чувства, догадки – источники ненадежные.
Выше автор уже говорил, что в своем повествовании он опирается лишь на твердые свидетельства и исторические документы, кладет их друг к другу плотно, как кирпич к кирпичу, чтобы для сомнений даже маленькой щели не осталось. Поиски и проверки привели его туда, куда и должны были привести, – к почтенной его односельчанке Нисе, которая и раньше несколько раз вступала на край паласа нашего повествования (как сказали бы, наверное, в старинных книгах), чем придала его узорам еще большую красоту.
Доказано, что исторический ли документ, чистосердечный ли рассказ Нисы – свидетельства одинаково надежные. Каждое слово из ее правдивых уст вылетает уже скрепленное круглой печатью. Итак…
Итак, случилось это в прошлом году. Стояли теплые весенние дни. Прошу заметить: весенние. Самая пора, когда Зульпикей тешится. Потому и многие исключительной важности события начинаются весной. Например, любовь. Именно в эту пору она, как видно из множества литературных произведений, вспыхивает особенно ярко и жарко (готовая кафия для будущей поэмы Калканлы). Если же это беспокойное чувство, спутав сроки, посреди лета вдруг нагрянет или, что уже ни в какие ворота не лезет, осенью – ничего хорошего не жди. От такой любви, как говорится, ни радости, ни сладости. Такая любовь – все равно что козленок-этембей, то есть осеннего приплода, – выхаживай не выхаживай, а хорошего круторогого козла в полном достоинстве из него не вырастет. А нрав весны известен каждому. Самое шальное, самое соблазнительное время года. По погоде и душа, оттого и любовь, начавшаяся весной, так сказать, весеннего приплода, полна сил и страстей – словом, всяческих переживаний, сомнений, колебаний, ссор, примирений, разлук и свиданий. В общем, кипит, бурлит и пенится.
Да, был весенний день. Танхылыу и еще несколько молодых доярок пошли на ферму соседнего колхоза, посмотреть, поучиться, что есть хорошего, перенять. Завершив дела, девушки отправились домой, а Танхылыу, сказав им, чтобы шли, она их потом нагонит, осталась поговорить с зоотехником, который водил их по ферме и давал объяснения. По кое-каким вопросам она хотела расспросить подробней. Так что возвращаться ей пришлось одной.
Солнце уже прогрело землю, черно-белые поляны, пятнами очистившись от снега, парят на припеке. Будто какое-то чудесное зелье кипит во чреве земли и целебные пары расходятся в воздухе. И хорошо Танхылыу, и немного грустно. То летящей куда-то птице рукой помашет, то без причины улыбнется, то чему-то вздохнет. Но без следа, как облако, пройдет непонятная тревога, безымянная грусть, и снова радостно ей.
А почему бы и не радоваться? В руках сила есть, в сердце страсть. Работа ладится, начальство ее уважает, товарищи в глаза смотрят. Если и дальше так пойдет, то, может, и она такой же, как у Тани Журавлевой, славы добьется. Всего-то на четыре года старше Танхылыу, а имя на всю республику известно, на груди орден сверкает. Как говорят Урманбаевы, а мы чем хуже?
Тот зоотехник оказался мужем Тани. Втроем пошли к ним домой. Вот он где, рай-то! Тепло, светло, блестящая мебель, люстры под потолком на солнце сверкают. Куда ни посмотри, какие-то незнакомые Танхылыу цветы растут. Но самое лучшее украшение дома – трехлетний сын. Только дверь хлопнула, выкатился, как мячик, сообщил: «А мы с бабушкой вам блины печем!» – и, нисколько не чуждаясь, взял Танхылыу за руку, повел из комнаты в комнату: игрушки показывать, книжки, котенка, бабушку.
За чаем, разумеется, разговор шел не столько о работе, сколько просто о житье-бытье. Дом этот, оказывается, поставил им совхоз. Рассрочка на десять лет, каждый месяц понемногу платят. Танхылыу двухэтажный пятикомнатный дом весь осмотрела, где что стоит, какая комната каким нуждам служит, все запомнила.
Задумалась Танхылыу, идет не спеша, Таню вспоминает, ее мужа, их советы. И смелые планы теснятся в голове. Действительно, возможностей у куштирякской фермы ничуть не меньше, чем у совхозной. Внимания только не хватает, и не по-научному как-то все. А ведь в звене Танхылыу уже сейчас надои больше двух тысяч литров. Если же кое-какие новшества, которые она увидела на совхозной ферме, ввести у себя и работать еще старательней, как Таня работает, можно и до трех тысяч поднять. Надо сегодня же после вечерней дойки пойти в правление и поговорить там. Нет, не согласна Танхылыу, как пожилые доярки у них на ферме, день ко дню, месяц к месяцу пристегивать, тем, что есть, быть довольной и так жить годами. Ей все сегодня нужно. Если работать – так уж работать! Если уж слава – так чтоб всех ослепила!
Но в такой день не то что восемнадцатилетняя девушка, но даже пожилой, умудренный годами и опытом человек мыслями об одной лишь работе мозги себе сушить не станет. Как мы уже говорили, весной Зульпикей особенно резвится. Это он, баламут и подстрекатель, в тихом омуте чертей в пляс пускает, людей, которые без него прошли бы мимо друг друга, парой сводит.
Только повеселевшая Танхылыу, что-то напевая про себя, вышла на каратаускую дорогу, как сзади послышался стук копыт. Верхом на коне ее нагнал Кутлыбаев.
Поравнявшись с ней, он поднял коня на дыбы и остановился.
– Здравствуй, красавица, – сказал он. Слез с коня и пошел рядом с Танхылыу. – Не устала? Говорил же, вот просохнет дорога, на машине поедете.
– Если на ваших скоростях жить… – недовольно сказала Танхылыу. Потом взглянула на него и вдруг от изумления даже рот приоткрыла. Председатель-то совсем молодой парень, оказывается! Впервые увидела. Был председатель как председатель, а тут… Да что же это такое? Будто вдруг глаза ей промыли!
– День-то какой… хороший!
Это умное замечание Кутлыбаев произнес с таким видом, будто сам до него додумался. Но можете не сомневаться, слова эти нашептал ему на ухо Зульпикей. Видно, приметил он, что председатель давно уже бросает взгляды на Танхылыу.
И девушка поспешила поддакнуть этой глубокой мысли:
– Такой ранней весны, как нынче, и не помню…
Слышали? Не помнит… А ведь всем известно, что прошлогодняя весна и раньше пришла, и теплей была. Во всяком случае, влюбленные, которые в прошлом году повстречались, так говорят.
– Ты, кажется, все одна ходить любишь? – помолчав, сказал Кутлыбаев. Дескать, нет слов, так, чтоб связать оборвавшуюся беседу, сойдут и эти.
– Как придется…
Вся ее бойкость, находчивость, где они? Никогда прежде не скупилась, на каждое слово пятью возвращала. Видно, от своего внезапного открытия в себя прийти не может. И Кутлыбаев идет, потупившись, словно виноватый, потом покашляет, прочистит горло, расправит плечи и снова молчит. А ведь перед самыми красноречивыми уважаемыми аксакалами не теряется, что думает – говорит прямо, без обиняков. А тут? Э-эх! Покраснел, словечка даже найти не может, уздечку в руках теребит и дергает, словно порвать ее хочет. Лучше бы за язык себя так дернул, ей-богу!
Заметив, что уже подходят к аулу, он вздохнул:
– Если слово скажу, Танхылыу, не рассердишься? (Уф, наконец-то!)
– Разве на слово сердятся? Вы – председатель. Председатель скажет – для нас закон. (Гляди-ка, и эта уже перышки расправила.)
Кутлыбаев вскочил в седло – слово-то, значит, отсюда удобней сказать. Нагнулся к Танхылыу и сказал охрипшим голосом:
– Эх, Танхылыу, люблю ведь я тебя! – огрел коня плеткой и поскакал в аул.
Так началась история любви Танхылыу и Арслана. Когда они нашли удобный случай и опять встретились наедине, девушка дала понять, что тоже неравнодушна, но поставила условие – ну, прямо в огонь парня сунула! – отношения их держать в глубокой тайне и, пока не придет время, чтобы ни одна душа не знала. В общем, Арслану дается право ждать и надеяться, а сама девушка – ветер степной, когда захочет, тогда и решит, а до тех пор перед парнем ответа не держит.
Горел-страдал Арслан, в редкие встречи наедине винил Танхылыу в равнодушии, о свадьбе пытался договориться. Но девушка или шуткой отделывалась, или двумя словами: «Рано еще». И без всяких объяснений. Вот такие непонятные, на радость Зульпикею, отношения сложились между ними.
Нет-нет, пусть не подумает читатель, что не было у влюбленных и светлых минут. Были. Под настроение Танхылыу с упоением (именно!) слушала планы будущей их жизни, которые разворачивал перед ней Арслан. И даже сама к этим мечтам новые узоры добавляла. Однажды даже на день, назначенный Арсланом для свадьбы, согласилась. И тогда совершенно неожиданно встало новое препятствие.
Танхылыу – дочь Куштиряка. Для нее пойти в Яктыкуль снохой и жить там – самая ужасная несправедливость, прямо сказать – измывательство над человеком. Так что условие такое: если Кутлыбаев сам переедет в Куштиряк – тогда пожалуйста, она согласна. А нет – так извините, бросать родной аул она пока еще не дура. Да она с места не сдвинется! Так что ответом ее был тот ночной гром – в конце нижней улицы ссыпали сруб.
По правде говоря, сам Кутлыбаев это требование не счел таким уж невыполнимым. Правление и сельсовет в Куштиряке, почта, гараж – тоже здесь. Только средняя школа в Яктыкуле. А председателю даже положено жить поближе к правлению. Но он жалел чувства матери, даже заговорить с ней о переезде не смог. Хорош ли, плох ли, но Яктыкуль – родное их гнездовье. И могила отца здесь.

А Танхылыу как уперлась, так и стоит на своем. Потом еще эта история с челябинскими коровами. Кутлыбаев пробовал уговаривать ее, так она отрезала: «Ты во всем виноват. Председатель – а сам даже коров оставить за мной не мог».
После этого парень с девушкой не встречались почти два месяца. Огонь их любви не погас, но кого он греет, кому от него радость? Где мечты, где надежды? Подобно перелетной стае, у которой в долгом пути устали крылья, спустились они с небес на землю.
Поначалу Танхылыу хотела уехать из аула, но не смогла. Несколько раз порывалась с Кутлыбаевым встретиться, но гордость дальше двери не пускала. Думала, что, может, товарищи придут, уговаривать будут, чтобы вернулась на ферму. Не пришли, не уговаривали, не кланялись.
А ведь Танхылыу, когда хлопнула за собой дверью, рассчитывала на это. Наступит вечер, затихнут улицы, она возьмет какое-нибудь рукоделие и сядет к окну. Вот сейчас заскрипят ворота, и, насупленные, пристыженные, войдут девушки…
Слышно, как молодежь идет в клуб, шум машин доносится с улицы, чей-то смех, разговоры, но все это – мимо, ворота молчат. Словно не посреди аула, а среди дремучих лесов, непролазных трясин стоит их дом. Так вечер проходил за вечером, а девушки не шли, разве только Диляфруз забегала порой.
Что же заставило ее вернуться на ферму?
Уговоры Диляфруз? Та ей прямо сказала, что никто к ней не придет и кланяться не будет.
Беседы с Исмагиловым? Ведь после разговора с ним Танхылыу, видя, что парторг расположен к ней, но поведения ее ни понять, ни принять не может, впервые по-настоящему задумалась. Увидела Танхылыу, что в Куштиряке жизнь и без нее своим ходом идет, а вот она без Куштиряка, видно, уже не проживет. И сегодняшнее ее, и будущее, и счастье ее, и судьба – здесь, на этой земле, в этом ауле.
Сыграл свою роль и разговор с Аюханом. Поэта она поначалу встретила с усмешкой: какая еще, дескать, поэма? Жизнь – это одно, литература – другое; если писать о доярке, то уж лучше – о Тане Журавлевой, а о Танхылыу только фельетон можно написать; наверное, «Хэнэк» уже по ней плачет. Но Аюхан повернул разговор на свой лад, пусть она – свое, а он – свое, расспрашивал, о себе рассказывал и понемногу все ее секреты узнал. Удивительно, другому и четверти, и десятой доли не сказала бы, а с ним своими думами, мечтами поделилась. «Старайся, красавица, – сказал под конец разговора Аюхан. – Разве ты Журавлевой хуже?» После этих слов Танхылыу рада была бы побежать на ферму к своим коровам, с ними-то она не ссорилась, тосковала по ним, но гордость и упрямство удержали ее и на этот раз.
Может, любовь была причиной, что она вернулась на ферму? Может, и она. Хотя поначалу Танхылыу даже имени Кутлыбаева слышать не хотела. Как она полагала, председатель-то и виноват во всем. Не защитил ее, с достоинством передовой доярки не посчитался. Если бы Арс… Кутлыбаев не допустил, то и девушки ничего бы сделать не смогли.
В общем, ничего само собой не делается, ничего само собой не случается, на все нужны причины. И кроме всех перечисленных выше причин не забудем еще об одной. Это – Зульпикей. Вернее, то, что отвлекся он, замешкался где-то в стороне, а Танхылыу тем временем разобралась, что к чему, увидела свою вину и, может быть, даже ахнула. Потом-то Зульпикей спохватился, снова начал виться вокруг Танхылыу, подбивать ее на всякие новые выходки, и не всегда, кстати, без успеха, но это уже была, как говорят в Одессе, игра на чужом поле.
Теперь Танхылыу заносчивые свои манеры оставила, но встреч с Кутлыбаевым избегала по-прежнему. Хотя обида на него еще и не улеглась, она уже понимала, что во всей этой двухмесячной сумятице виновата сама. Значит, и прощения просить придется ей, а это – ну, никак не в ее натуре.
И в эту пору, когда ходила и прятала от любимого глаза, она вдруг застала Кутлыбаева в комнате отдыха спящим на диване. Девушки посмеялись, тихонько пофыркали и на цыпочках вышли. Танхылыу вернулась с порога. Она жадно оглядела его исхудавшее лицо, на глаза навернулись слезы, рука невольно потянулась погладить его по волосам. Но удержалась Танхылыу, подавила тоску. Написала на листке бумаги: «Засоня», – положила перед ним и вышла. Вот почему в тот вечер Кутлыбаев пошел с фермы, подпрыгивая, как мальчишка. Он и по печатному понял, чья эта рука.
Шутит – значит, любит.
11
«А Гата? А Шамилов? Как же они? Совсем с круга, то есть с майдана, сошли? Больше ничего о них не будет?» – может спросить недовольный читатель. Справедливые слова, обоснованное недовольство. Потому автор снова возвращается к своим на время забытым героям.
Когда снег выпадает, деревьев не сажают – это знает каждый. Упустив время, Шамилов был вынужден вопрос с тополем отложить до весны. Но к делу не остыл, от замыслов своих не отказался. Дела у его шакирда идут на лад, решил он, можно дать себе немного отдыха. Заодно подумать и о других пунктах плана по сохранению памятников старины.
Как вы помните, пункт насчет лачуги с булыжным очагом и окном, затянутым пузырем, был безжалостно исковеркан. Крепко переживал тогда Шамилов. Но в конце августа он поехал в Каратау на учительскую конференцию и заодно посмотрел там спектакль, который ставил театр из Уфы. И снова в Шамилове вспыхнул азарт. В этом спектакле, заполнив всю сцену, раскинулся аул. Артисты, они на выдумку хитры, взяли и расставили игрушечные дома. Даже мечеть есть, совсем как настоящая. В домах огни зажигаются, дым из труб идет, ворота, двери, все как положено.
Шамилов принялся за работу. Все вечера напролет с пятью-шестью учениками проводит в школе. Один у него из жердочек срубы ставит, другой двери, оконные рамы стругает, третий печи выводит, четвертый плетни плетет, пятый два тополя из веток и бумаги делает. Сам Шамилов в дальнем углу класса на большом столе готовит место для аула, ландшафт возводит. По его расчетам, макет старого Куштиряка к весне будет готов.
И за всеми этими заботами Шамилов чуть не проморгал самое важное. Шумные, на весь аул, предсвадебные хлопоты Зарифа Проворного сбили его с толку. И Гата довольный ходит, на лице улыбка, даже «ых-хым» свое теперь говорит мягко: «Эх-хем». А если Танхылыу невеста Гаты, так и Шамилову беспокоиться не о чем. Пусть только весна настанет. Хочет Фаткулла Кудрявый не хочет, а навалятся дочка с зятем, никуда не денется, даст место для тополя.
Да, увлекся Шамилов, хотел хоть в игрушке, но увековечить старый аул и упустил из рук уздечку событий. Хорошо еще, у жены его Асылбике нюх оказался чуткий.
Если бы и она оплошала, остался бы учитель, извините, в дураках.
Дело было так. Однажды вечером, вернувшись из школы раньше обычного, Шамилов сел смотреть телевизор. Запыхавшаяся, вернулась откуда-то жена, поспешно скинула пальто и прошла к мужу. Села рядом и прильнула к нему. Зимний морозец и свет еле сдерживаемого торжества разрумянили лицо Асылбике. С таинственной улыбкой она ждала, когда Шамилов повернется к ней. По всему видно, новость принесла, такую новость, что еле удерживает, сейчас выплеснет.
Но Шамилов, не отрываясь от телевизора, приложил палец к губам, дескать, помолчи пока. Шла передача о новых обрядах. Интеллигентный человек, внимательный к новостям культуры и искусства, такого пропускать не должен.
В центре передачи, словно рубин в золотом кольце, – картины свадьбы. Через весь экран с шумом несутся украшенные разноцветными лентами, воздушными шарами машины, распахиваются широкие двери роскошного Дворца бракосочетаний. Брачующиеся молодые, пара за парой, встают перед толстой женщиной с двойным подбородком и сытым лицом. Женщина, уткнувшись в бумагу, держит пламенную речь.
Заслушавшись плавной красивой музыкой и горячими словами толстухи, Асылбике чуть не забыла, с чем прибежала.
– Послушай-ка, отец, может, и у нас такую свадьбу сыграть? – сказала она, обняв мужа за плечо.
– А почему не сыграть? Чем Куштиряк хуже их? – сказал Шамилов и с довольным видом ткнул пальцем в телевизор. – Возьмем и сыграем вот так же свадьбу Гаты и Танхылыу. На зависть всей округе!
Асылбике отскользнула от мужа и презрительно посмотрела на него.
– Гаты? – усмехнулась она язвительно. – Чья это баба принесла, что Гата на Танхылыу женится? Пусть держит карман пошире.
– Глупая, – сказал Шамилов безмятежно. – «Чья баба»… Весь аул об этом говорит. Гата сам говорит.
– Может, и Танхылыу говорит?
– Какая разница? Заяц пойман – освежеван, – рассердился учитель, еще раз доказав, что и ему, как и другу-критику, образные выражения не чужды.
Но лишь это и доказал, ничего больше.
По телевизору началась другая передача. Шамилов встал, сладко зевнул и собрался идти спать. Но вдруг повернулся и схватил Асылбике за локоть.
– Выкладывай! Все как есть! – сказал он, почуяв, что есть у жены какая-то новость, которая не дает ей покоя.
Но жена, видно, уже успела обидеться – решила поднять цену своему секрету. Молча прошла в соседнюю комнату, переоделась, вышла, начала прибираться и только после уговоров Шамилова сказала, посмеиваясь:
– Танхылыу потешается, а вы с Гатой поверили, ротозеи! Пока вы тут ночь напролет из пустого в порожнее переливали, птиц. а-то любви на чужие ворота села.
– Ых-хым, – повторил учитель любимое выражение ученика, – а на чьи верота? Ты думай, что болт… Зная говоришь или сплетни притащила?
– Сплетни! Еще неизвестно, кто их больше таскает, – снова было обиделась Асылбике, но тут же успокоилась, как-никак предстояло приятное дело: не разлив, не расплескав, подробно рассказать о том, чему была свидетельницей.
…Вчера она ходила в Яктыкуль. Дела сделала, в гостях посидела, припозднилась, домой вышла уже в самую ночь.
Асылбике – куштирякская женщина. Подойдя к аулу, она сошла с санной дороги и завернула на тропку, идущую через урему напрямик, – срезала угол. Вдруг за кустами послышался чей-то приглушенный голос. Асылбике перепугалась. Разве добрый человек будет в такую темь, в такой глуши в кустах прятаться?
В жару и в ознобе, спотыкаясь, понеслась она обратно. Но вдруг встала как вкопанная, постояла минутку и крадучись пошла на голос. Хвала тебе, Асылбике! Еще раз доказала, что из всех чувств самую большую власть над женщиной имеет любопытство. И не только в Куштиряке.
Она подошла поближе. Среди мелколесья стояли двое на лыжах, но кто, не узнать. Асылбике присела под куст и прислушалась. Разговор доносился обрывками, так что и по голосу не поймешь.
«…Думала, рукой уже махнул…» – это женский голос. «Эх, глупая…» – сказал мужчина. Дальше Асылбике не разобрала, эти двое перешли на шепот. Тень поменьше нырнула в объятия большей, и – чмок, чмок, чмок, чмок – Асылбике насчитала четыре поцелуя. Потом меньшая махнула лыжной палкой, крикнула: «Завтра к Разбойничьей выйду! Пока!..» – и прошла мимо куста, под которым притаилась Асылбике.
Это была Танхылыу. Асылбике, вся в поту от волнения, стала вглядываться в другого лыжника. Но тот словно язык проглотил. Постоял молча, раззява, и, что-то напевая под нос, повернул в сторону Яктыкуля.
Поначалу он шел не спеша, плавным шагом, только иной раз оттолкнется палками и проедет немного. Асылбике, стараясь не скрипеть валенками, втянув голову в плечи, семенила шагах в тридцати сзади. Ничего, что обратно в Яктыкуль идет, ради того, чтобы узнать парня, с которым Танхылыу на прогулку вышла, она готова всю ночь меж Яктыкулем и Куштиряком, как челнок, бегать. Секрет, от которого весь аул всколыхнется, вот-вот будет в ее руках – тут уж не до усталости.
Вдруг лыжник, словно проснувшись, взмахнул палками, бросился вперед и с каждым рывком стал уходить все дальше и дальше. И Асылбике прибавила шагу, потом понеслась рысцой. Только разве за долговязым лыжником угонишься! Просвистели лыжи, и он исчез, попробуй разгляди тень во тьме.
Наверное, в эту минуту Асылбике пожалела, что не крылатой птицей родилась она на свет, а может, и мотолет Карама вспомнила. Подхватив полы пальто, она неслась по зимней укатанной дороге, тупая дробь сыпалась из-под валенок. Все! Перехватило дыхание, встала, схватилась за грудь, не в силах отдышаться, и села посреди дороги. Из глаз брызнули слезы. Поплакала, полегчало. Обессилевшая, притащилась домой.
Но не из тех женщин Асылбике, что задуманное на полдороге бросают. Словно азартный охотник, она весь день следила за домом Фаткуллы Кудрявого, Танхылыу все сторожила. В сумерки, побросав домашние дела, она прокралась за гумно и поспешила на Разбойничью гору.
Лунный свет как вода разлился. Тихо. Сыплет мелкий снежок. Притаившись под стогом, Асылбике залюбовалась красотой вечера и чуть не забыла, зачем пришла сюда. Даже в дрему немножко отплыла. Она-то задремала, да не дремлет Зульпикей. Вдруг, прорезав ее сон, заскрипели лыжи, и два путника подъехали к стогу.
– На гору полезем?
Так, это Танхылыу.
– Давай, – ответил мужской голос. И ни слова больше.
Асылбике, отодвинув шаль, выставила ухо. «Тьфу, молчун. Скажи еще, чего ты язык-то свой так бережешь!» Уйдут они, ничего больше не сказав, и останется тетушка Асылбике, как вчера, по-русски говоря, с носом. Нет уж, сегодня опа такой разиней не будет. В случае чего прибегнет к крайнему средству: выйдет из своего убежища, встанет перед ними и топнет пяткой. Вот тогда они и впрямь языка лишатся.
Те двое действительно, тихо смеясь, пошли вверх по склону. Уф! Укатится заветный клубочек, прямо из рук ускользнет, а ведь в пальцах уже держала! Хоть как, а надо остановить лыжников! Иначе и сегодня вернется домой с пустыми руками.
Стой, а что это? Черное на белом снегу. Зоркая наша тетушка метнулась, словно щука, хватающая плотву, цапнула то черное и снова нырнула под стог. Выставив на свет, она рассмотрела ее. Кожаная варежка. Вот ведь как ловко вышло! Вскочит она сейчас и с криком: «На свою варежку!» – бросится следом.
Она уже начала выбираться из соломы, как вдруг один из лыжников, тот, незнакомый, повернул обратно.
– Что случилось? Или горы испугался? – рассмеялась Танхылыу.
– Варежку обронил, – ответил ее спутник, подходя к стогу.
Вовремя же Асылбике зажала себе рот! А то бы вскрикнула! Что именно? В таких случаях куштирякские кумушки кричат «Астагафирулла!», или «Здорово живешь!», или, на худой конец, «А-xa-a!», чем выражают свое изумление, недоумение, торжество. Асылбике была готова издать все три возгласа разом. Торжество ее было полным: потерявший варежку разиня был не кто иной, как председатель колхоза Култыбаев Арслан!
Сунув варежку за пазуху, она забилась в стог, выдавать себя не имело смысла. Нет, теперь-то она своей находки из рук не выпустит. Что ни говори, вещественное доказательство. Ничего, не холодно, рука у председателя и без варежки не замерзнет. А замерзнет, так Танхылыу отогреет.
Потоптался Кутлыбаев, осмотрел место, где они только что стояли, пробормотал:
– А ну ее! И так не замерзну, – и пошел следом за Танхылыу.
Когда две фигурки пропали из глаз, Асылбике засмеялась радостно и с видом Клеопатры, которой удалось очередное ее коварство, с высоко поднятой головой зашагала к аулу. Всю дорогу сопровождала ее плутоватая песня Зульпикея:
Кто забрасывает удочку умело, тот всегда
и в снегу поймает рыбку – не нужна ему вода.
Тот, кто сам искать умеет, обязательно найдет,
все, что хочет, из-под носа у растяпы унесет.
…И перед Шамиловым, который, затаив дыхание, не зная, верить или не верить, слушал рассказ жены, шлепнулась кожаная варежка. Жена ожидала, что теперь-то они обстоятельно поговорят обо всем, всласть обсудят, начнут строить всякие предположения и догадки, но муж минут на двадцать лишился языка. Наконец он словно бы очнулся и сказал: «Да-а…», еще минут через десять сказал: «Не-ет…» – и начал быстро одеваться.
– Ты куда это, на ночь глядя? – встревожилась жена.
Он же ответил ей спокойно, твердо и даже немного торжествующе:
– Покуда ни звука! – сунул варежку в карман и вышел.
Сначала он пошел к Гате, но оказалось, что Гата по какому-то делу уехал в город. Открывать тайну Зарифу Проворному Шамилов не собирался. «Бегай, готовься к свадьбе», – усмехнулся он про себя. Учитель направился к Фаткулле Кудрявому. Но возле самых ворот остановился, задумался. Потом хлопнул себя председательской варежкой по бедру и пошел домой.
Утром он спозаранок пришел в правление, оттер Юламана Нашадавит, пришедшего пригласить председателя на свадьбу, в сторону и, войдя в кабинет, захлопнул перед его носом дверь. Юламан до того растерялся, что не ринулся следом, чтобы сказать нахалу пару слов, а, потоптавшись, приник ухом к двери. Услышал он немного. Разговор, хоть и бурный, шел, кажется, шепотом. Только отдельные слова разобрал Юламан: «Тополь… давить… как председатель не могу… как зять можешь… это шантаж…»
* * *
Подробно о том, как прошел разговор Шамилова с Кутлыбаевым, автор узнал лишь через несколько месяцев. Уже в городе он получил письмо от Шамилова. Но его сообщение опоздало и на ход повествования оказать влияния уже не могло. Письмо пришло в тот день, когда в «Куштиряке» была поставлена последняя точка, вернее, многоточие («это шантаж…»).







