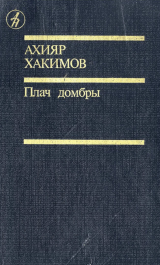
Текст книги "Плач домбры"
Автор книги: Ахияр Хакимов
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 32 (всего у книги 41 страниц)
– Воля твоя… А то ведь я от Фаткуллы-агая шел. Ну… некогда так некогда, извини.
Услышав имя Фаткуллы, Гата насторожился. «Тьфу, абитуриент! Разиня!» – выругался он про себя и поспешил завязать узелочек на оборвавшейся было ниточке беседы.
– А впрочем, ладно! Что мы, сна этого не спали, что ли? – сказал он, давая понять, что ради своего учителя готов на любые жертвы. – Я готов, агай! – И Гата поспешно вдел ногу в стремя мотоцикла.
Опустив голову, задумчиво зашагал Шамилов к дому. Обида на скрытность и неучтивость Фаткуллы Кудрявого все еще не улеглась. «Чувство благодарности в людях редко пробуждается, – с горечью подытожил он. – Когда его дочка, словно пчелой ужаленная, места себе не находила, из аула собралась уехать, кто ее удержал? Если б не я – где, в каких краях ходила бы сегодня Танхылыу? И слава, что на ее долю выпала, кому бы досталась? Фаткулла добра не понимает…»
Но все же неожиданная встреча с Гатой несколько подняла настроение. Вот с кем он душу отведет. Что ни говори, человек в ауле на виду. Случись какая нужда по школе, Шамилов идет к Гате, а тот, хоть и любит поломаться, все доводит до сведения председателя. Что и говорить, свой человек, шамиловский ученик! От Гаты мысли перешли к собственным сыновьям. «Эх!» – вздохнул Шамилов в третий раз за вечер.
Два сына у него. Закончили школу: старший – десятилетку, младший – восьмилетку, отслужили в армии и теперь живут в городе. И в ауле не остались, и дальше учиться – кишка тонка. Уж как отец, который сам дальше педучилища не ушел, бился с ними, уж как уговаривал! Нет, так один за другим и уехали в город на нефтеперерабатывающий завод. Оба теперь в передовиках ходят. Но все равно Шамилов сыновьями недоволен. Хоть и говорит на людях: «Мои ребята – рабочий класс!» – политическую базу подводит, но про себя переживает. И досадно. Хоть бы один из двоих был рядом! Теперь вся надежда на дочку, семиклассницу Киньябике. Может, хоть она поступит в институт, достигнет заветной цели, которой он не достиг.
Впрочем, надо сказать, что эти невеселые думы редко гостят в видавшей виды голове Шамилова. Нет у него на это ни времени, ни желания. Во-первых, школа на плечах. Во-вторых, по его твердому убеждению, за всю культурную жизнь в Куштиряке в ответе тоже он. И в третьих… эх-хе-хе… есть у Шамилова еще одна обязанность, одна мысль о которой вгоняет в краску.
И все они, сыновья его! В каждый приезд одно талдычили: «Люди как люди, на машинах разъезжают, одни мы – на своих двоих. Давай, отец, машину купим!» Примчались в один выходной, запыхавшиеся, глаза горят, будто гонится за ними кто, и поставили вопрос ребром, по-куштирякски: «Чем мы хуже других! Нельзя без машины, выручай!» – уперлись, как два пробующих молодые рожки барана. Будто отец здесь сам деньги печатает. Откуда у учителя начальной школы такие деньги? На этот отцовский довод старший сын выставил план, который они с младшим братом еще в городе разработали. «Свиней откормим и продадим!» – вот ведь что заявил балбес городской.
Понятно, все хлопоты легли на плечи родителей. Сна-чала-то у сыновей нос торчком, хвост трубой: за корм, дескать, сами будем платить, – но очень скоро поджали хвостики. Пришлось Шамилову весь уход и весь расход взять на себя.
Один стыд чего стоит, от него-то уже никакими деньгами не откупишься, думал Шамилов, шагая по улице. Нет, он – человек сознательный, не то что некоторые, от проклятых пережитков свободен, «нечистого» животного не боится, возиться с ним за срам не считает. Дело в другом. Авторитет, который он создавал годами, был под угрозой.
И давеча в правлении кое-что обидное услышал – тоже из-за поросят. Заместитель председателя без спора выписал полтора центнера ржаной мякины. Выписать-то выписал, но не удержался, пристегнул к слову: «Сам учитель, а занялся ерундой, за Юламаном увязался, достоинство свое роняешь».
Вспомнил Шамилов и от стыда пинком открыл ворота. Звеня цепью, с лаем выбежал Сарбай. Мало того – поросята завизжали. «Тьфу, вот скоты, и ночью жрать подавай!» – выругался хозяин, опускаясь на лавку возле дома.
– Чай поставь, гость будет, – сказал он вышедшей на шум жене и снова невесело задумался.
Теперь он размышлял о Фаткулле Кудрявом и Танхылыу. Ни рев коровы в хлеву, ни блеяние овец, ни визг этих ненасытных – ничего не могло отвлечь его от дум. Хоть как, но должен он распутать клубок – под угрозой была честь Куштиряка.
Если Кудрявый и Танхылыу переедут в новый дом, то за хозяина, который на их прежнем месте поселится, нужно взяться сейчас же, клочок для тополей захватить сразу. Говорят, человек в своей жизни должен посадить хотя бы одно дерево. А здесь речь идет не о простом дереве. Сей тополь – памятнику равен.
План такой: во-первых, любая мелочь, связанная с тополем, должна быть в центре внимания; во-вторых, нужно направлять события, то есть взять вожжи в свои руки.
Учитель еще не знал, чем тут может помочь Гата. Но чуял: этот парень в стороне от грядущих событий не останется. Вон и сам уже прилетел. Шамилов с почтением ввел его в дом.
Разговор, который состоялся между учителем и учеником, автор относит к разряду выдающихся исторических событий. Посему, чтобы исключить хотя бы тень жизненной неправды, ему следовало бы обратиться к самой прекрасной и высокой разновидности искусства – к бессмертной драме. Но вспомнил он, как написал когда-то одну пьесу и тем самым выставил себя на посмешище, – и от измены золушке-прозе удержался, одолел соблазн. А если бы не одолел соблазна и дело до-шло-таки до драмы – голову бы не ломал и назвал это произведение в произведении так: «Ночной разговор» – или нет: «Единство поколений». Нет же, нет! «Гата выходит на ристалище». Вот как! И по примеру некоторых драматургов, фамилии которых оканчиваются на – баев, дал бы глубокомысленную ремарку: «Действие происходит в наши дни». И о том бы сообщил, что кроме главных героев участвует и благоверная Шамилова – Асыл-бике (лет 50-ти). Автор, разумеется, не дерзнул бы потревожить сладкий сон столь почтенной ханум, но, коли она не спит, почему же не воспользоваться случаем – все равно ей, покуда ночь на утро не перевалит, придется раза три-четыре выйти к этим прожорливым «тупорылым» (как она называет поросят) и дать корм.
Итак, «Ночной разговор» решили мы изложить прозой. Чтобы никто не мог сказать: дескать, автор к чужому куску руку тянет, хлеб отнимает.
– Давай, браток, не стесняйся, вот сюда, в красный угол, проходи, – сказал Шамилов и похлопал гостя по плечу.
Гата оглядел комнату и оттопырил губу: ничего, мол, особенного, дом как дом.
– Видела раза два, как ты верхом на своей трещалке носишься, – сказала Асылбике. – Гляди, как вымахал! Садитесь, чай стынет. Я пойду этих тупорылых наведаю…
Шамилов прошелся от застолья к порогу и обратно. По тому, как тер виски, было видно, что он даже собственные печали позабыл, о том лишь думает, как ученика от такой напасти выручить.
– Ба-ба, что с вами? Один туда-сюда носится, другой унылый сидит, словно топор в воду упустил, – с порога сказала Асылбике. – Ты бы сел, отец. Чай совсем остыл. Про тупорылых этих говорю, не по дням, а по часам растут, не сглазить бы.
– Оставь-ка ты их! – перебил ее хозяин. – Тут дела поважней, чем эти прорвы. Ты это… иди ложись, чай я и сам хорошо разливаю.
Асылбике спорить не стала:
– Ладно, ладно, отец, – и, отчего-то подмигнув Гате, ушла во внутреннюю половину.
– Так-так, – сказал Шамилов и, подперев щеку, испытующе посмотрел на бывшего своего шакирда. – Ротозейство! Мое ротозейство! Вот бестолковый! Не учуял. А я-то думаю: парень жизнь повидал, что к чему разбирается, и вдруг «ГАЗ» оставил, на председательскую машину пересел! Там на две руки одна работа, а тут – ни сна, ни отдыха, и все по чужой указке. У Кутлыбаева-то по струнке ходят. Крутой. Такие были волосы – наголо обрил.
– Пустяк, – хмуро сказал Гата. – Кутлыбаев-агай хоть и молодой еще, но человек что надо. Строгий, конечно. Но я с ним в любую погоду в открытое море, на любой посудине…
– Полностью согласен. На председателя нам повезло, как он за дело взялся, колхоз богатеть начал, – с растерянным лицом на полуслове подхватил Шамилов. Боясь, как бы слова, вылетевшие невпопад, не дошли до Кутлыбаева, добавил веско: – Ты меня извини, браток, я так скажу: я нашего председателя за отца родного почитаю.
Помолчали. Шамилов решил зайти с другого боку.
– В ауле-то уже обвыкся, по Одессе не скучаешь? – спросил Шамилов, подвигая чашку к гостю.
– Ых-хым… – сказал Гата. По ответу было видно, что краткий жест он ставит выше любого красноречия.
– И мне так показалось. Пусть там из серебряной тучи золотой дождик льет, а на родине лучше. Где тот край, чтобы с Куштиряком сравниться? А вот мои сыновья не поняли, уехали, недотепы… Что вернулся, за ответственную работу взялся – похвально. А как насчет женитьбы? Не намереваешься?
От куштирякской манеры учителя резать напрямик по лицу Матроса пробежал румянец. Но оставить вопрос без ответа было неудобно. И вместо давешнего «ых-хым» сказал: «Эх-хем», – помягче.
– Полностью согласен. Пора, давно пора. Чаю, чаю изволь. А может… и рюмочку, того, пригубим?
Гата Матрос поднял ладони к плечам:
– Пас!
Лицо Шамилова просветлело, даже мысли, весь вечер не дававшие покоя, позабылись.
– Молодец, брат, одобряю, с полным удовольствием подписываюсь! – Ис этими словами, взяв стакан, он подошел к застекленному шкафу, налил из графина чего-то красного и махом выпил. – Душа не на месте.
Тут и у Гаты язык развязался:
– Если из-за этого пить, то мне с моей душой впору по этому зелью вплавь пуститься.
Шамилов поднял брови:
– Ты-то чем маешься? Живешь, как птица в небе, как рыба в воде.
– Эх, агай, – сказал Гата, вскочив с места. – На рыбу невод есть, на птицу силки! Душа горит!
– И тебя подцепили? Ну-ка сядь. Такое горе, а ты от своего учителя таишься. Эх, Гата, Гата! Кто тебя первым буквам научил, глаза открыл, в широкий мир вывел? Нет чтобы взять сразу и посередке выложить!
– И не говори, агай! – махнул рукой Гата.
– Совсем голову заморочил этот Фаткулла, – сказал он, вспомнив, что лишь при этом имени Гата принял приглашение. – Ходит, слова из него не вытянешь.
– Ых-хым.
– Вот именно. Ты мне вот что скажи: коли ты в новый дом переезжаешь, старый дом тебе да место старой бани зачем? Вы с Танхылыу в клубе всегда вместе, ничего не говорила?
– Эх, агай!.. – Гата Матрос опустил голову. И такое было на лице страдание – любой, даже не такой проницательный, как Шамилов, с одного взгляда все понял бы.
– Так-так, – сказал Шамилов, потирая ладони. Еще раз прошелся по комнате. Довольство, исходившее от его лица, сошлось с унынием Гаты – свет и тьма. – По* нятно, шайтан его забери!.. Эх, знать бы раньше, я бы этого упрямого Фаткуллу под гнилой корень топором подрубил!
– Какой корень? Каким топором? – Взглядом, в котором сквозь уныние пробилось удивление, Гата посмотрел на своего наставника.
– Он бы у меня на горячей сковородке попрыгал! – все больше распалялся Шамилов, лицо его пошло красными пятнами.
Дверь во внутреннюю половину приоткрылась, и показалась голова Асылбике. Она спросила робко:
– Отец, чего расшумелся? Ругаетесь, что ли?
– Спи! – отмахнулся он от нее, как от мухи, но все же прикрыл дверь и заговорил потише: – Давай, браток, выкладывай все как есть. Тут мы с тобой заодно. Как русские говорят: дружно не грузно, врозь – хоть брось. Кто тебе поможет, если не я?
– Не знаю даже… – но все же Гата подтянулся и в глазах блеснула надежда.
– Не знает, а? Тут, брат, как в бою: чем стрелять, лучше лежать… Нет, ошибка, то есть наоборот: чем лежать, лучше стрелять. Вот так! Случая упускать нельзя. Не то живо какой-нибудь добычливый охотник найдется.
– Похоже, нашелся уже…
– Не может быть! – И Шамилов плюхнулся на стул. – Чей такой глаз приметливый?
Вместо ответа Гата Матрос в каком-то сомнении посмотрел на своего учителя и достал из кармана синего бархатного пиджака сложенную вчетверо бумагу. В раздумье, показывать или не показывать, покрутил ее в ру* ке, развернул, снова сложил. Наконец, одолев сомнения, положил бумагу на стол. Шамилов, словно коршун, хватающий цыпленка, подцепил ее.
– Да-а, – протянул он, прочитав известное нам письмо, которое из самой Одессы привело Гату домой, помолчал и, словно прислушиваясь к начавшей проклевываться мысли, спросил у самого себя: – Ну?.. Так-так…
Гата Матрос, почуяв в голосе наставника отзвук надежды, тоже сказал:
– Ых-хым. (Согласен, значит.)
Нужно сказать, что женился Шамилов еще лет тридцать назад, о любви и прочих необузданных чувствах давно позабыл. Потому и страдания Гаты казались ему страницами из какого-нибудь очередного романа Нугушева: то ли правда, то ли бред, то ли верить, то ли нет.
По его разумению, такому парню, как Гата, зря бы голову не ломать, взять и жениться на дочке кого-нибудь посостоятельней. А там – Танхылыу ли, Айхылыу ли – какая разница? Впрочем, мысль эту Шамилов сразу же отмел. Тут, брат, душа. А коли душа, говорят, запросит, так и змеиного мяса съешь. Главное, все в Фаткуллу Кудрявого упирается. Хозяин еще раз обошел комнату, остановился, насколько нужно было, возле застекленного шкафа и снова сел на место.
– Алтынгужин здесь ни при чем. А если и при чем – не страшно. Почему, спросишь? А потому, что есть у него один большой недостаток – он замминистра сын, стало быть, в ауле не задержится.
– Да неужто? – вырвалось у Гаты. – Это, агай… извините… налейте мне этого… вашего… рюмочку.
Шамилов, глядя, как воспрял Гата, словно упорхнувший из-под ножа петух, с усмешкой покачал головой:
– Водки не жалко, но коли не пьешь, так уж и не пей. – Видно, вспомнил, что как-никак, а на страже педагогики стоит. – Я про Алтынгужина говорю. Отработает два года и смоется в город. Еще неизвестно, чью там дочку ему отец с матерью приглядели. Ты мне вот что скажи: если отец переезжать не собирается, то зачем Танхылыу ханский дворец возводит? Мало того, пока сруб не подняли, все в тайне держали, тьма кромешная. Вот о чем подумать надо.
Гата снова приуныл, помолчал, наморщив лоб, и сказал, перейдя на шепот:
– Обещайте в секрете держать, я вам что-то скажу.
Тут дверь в соседнюю комнату чуть слышно скрипнула, по два застольника этого не заметили.
– Эх, браток, коли такое недоверие, нечего было и приходить. Словно первый раз меня видишь! Нет, нет, коли не веришь, то не говори! – сказал с обидой Шамилов.
Но ученик в ответ только: «Ых-хым», – вот так, дескать, от своего не отступлюсь.
Так что пришлось Шамилову сказать:
– Смех, конечно, да ладно, воля твоя. Ну, клянусь… валлахи-биллахи.
Обезопасившись таким образом, Гата подробно рассказал, как он по поручению Фаткуллы Кудрявого ездил в Каратау.
С той встречи с Капралом не было, пожалуй, события, которое бы так потрясло Шамилова. Он вставал, садился, то правый висок чесал, то левый тер, переставил свой стул к печке, сел на другой. Опять вскочил, оконные занавески поплотнее запахнул. Обида на лице сменилась досадой. Наконец он обрел дар речи.
– Вот пройдоха! Вот молчун! – чуть не плача, сказал он. – В тихом омуте черти водятся, это точно! Ты только глянь на этого Фаткуллу, ты только подумай, а! Молчком-молчком, а под корень режет! И ты хорош! Нет чтобы сразу прийти и рассказать… Нет, посажу я его на раскаленную сковородку! Коли так, и я разиней не буду. – Шамилов раскрыл ладошку и быстро сжал ее в кулак. – Вот он где у меня теперь.
– Вы это, агай… вы уж не…
– Пятьдесят второй, рост четвертый, говоришь? Как раз твой размер. И Алтынгужину впору будет. Нет, браток, мы этого так не оставим. С утра – на разведку. Ловко это у нас вышло, что мы нынче на улице встретились. А то ходим и не чуем, откуда ветер дует.
Понятно, Шамилов самую трудную часть дела взял на себя, а Матросу дал такое задание: если не каждый вечер, то хотя бы раза четыре в неделю, пока позволяет погода, катать Танхылыу на мотоцикле и тоже попытаться узнать, что к чему.
4
Шамилов избрал куштирякскую тактику – пошел, срезая углы. Сколько ведь на Фаткуллу Кудрявого времени зря потеряно! Сказал себе: «Закинул крючок – так закидывай сразу на щуку, а то и на сома», – и решил с мелкой рыбешкой не возиться, начать сразу с председателя. Хотя на следующий день намерения выпустить куштирякскую мелкоту в светлый мир во всеоружии передовых достижений современной науки были так же тверды, как и всегда, Шамилов с самого утра не отрывал глаз от окон. Прошло два урока, а на третьем к правлению колхоза подлетел уазик, вернувшийся откуда-то председатель поднялся на крыльцо. Шамилов велел четвертому классу писать изложение, второму классу задал задачу – крепкую, зубы сломаешь – и поспешил в правление.
– Здоров, браток, – кинул он обтиравшему машину Гате Матросу. Видать, в обхождении с начальством Шамилов придерживался тех же правил, что и автор. – Как настроение у хозяина? Хорошее?
– Плохое. В Яктыкуле были. Бригадир куда-то в гости уехал, а строители, которые ферму строят, на работу не вышли.
– С просьбой, значит, идти бесполезно?
– Какая ведь просьба. Только с Яктыкуля не начинайте. Очень рассердился. Яктыкульцы, говорит, одно знают: председатель, дескать, наш, яктыкульский, потачки ждут. Парторга туда послал.
Получив нужные сведения, Шамилов вошел в правление. Потер виски, энергично откашлялся. По всему видать, за дело он взялся решительно. Впрочем, и без этого уточнения, наверное, читатель уже почувствовал, что Шамилов не из тех, кто останавливается на полпути, и в советах, при какой просьбе откуда заходить и как разговор вести, он не нуждается. Опыта у него с лихвой. Достаточно вспомнить, как он вел переговоры с Фаткуллой Кудрявым. А что сейчас Гату расспрашивал – так это по обычаю положено.
Говоривший по телефону Кутлыбаев кивнул, показал на стул. Учитель с намеком отогнул рукав, посмотрел на часы: времени, видишь, в обрез, хорошо бы покороче. Но председатель на это не обратил внимания, продолжал говорить, мешая башкирский с русским, требовал от кого-то стройматериалы – пока снег не выпал, ему не одну, а две фермы отремонтировать нужно. Шамилов в невольном восхищении, как председатель ставит вопрос ребром, упрямо гнет свое, чуть не забыл, зачем он сюда пришел.
Впрочем, дела особого у Шамилова не было – так, прощупать председателя, выяснить его отношение к событиям, назревающим в семье Фаткуллы Кудрявого. Если же разговор пойдет как нужно, то и в вопросе с тополем перетянуть Кутлыбаева на свою сторону.
Конечно, нельзя сказать, что о заботах Шамилова он ничего не знает, – знает, и давно уже. Но своего твердого председательского мнения еще не высказал. Или шутками отделается, или подбодрит мимоходом: «Давай, давай, агай, не поддавайся». Но нельзя же «давай, давай» считать официальной директивой. А Шамилову позиция нужна, официальная поддержка.
– Ты уж на завтра это не откладывай, товарищ Камалов, сегодня же вызови Шайхетдинова и вынь из него душу. Без этого он и не почешется… Да, да. С рассветом четыре машины отправлю, вернутся порожними – извини, придется на бюро поставить… Слушаю, слушаю… Вот спасибо! – Кутлыбаев то вдруг распалялся, то, кивая согласно, умерял голос.
Шамилов смотрел на него и думал: «Гляди, как он с секретарем райкома разговаривает, как напирает на него, даже на «ты» с ним. Впрочем, и Камалов только года на четыре старше его. Вот времена пошли! Председатель-то молодой, а уже кругом мастер – что на руки, что на язык».
Действительно, поработал Кутлыбаев после сельскохозяйственного института два года агрономом, и семь аулов выбрали его своим председателем. Выбрали, правда, с оглядкой, очень уж молод. Но скоро шесть аулов убедились в том, что седьмому, Яктыкулю, было известно давно: этот, только родился, уже все знал. Даже гордый Куштиряк принял яктыкульского парня своим.
– Извините, агай, заставил ждать. Ну, как здоровье? – сказал Кутлыбаев, вставая из-за стола. Выше среднего роста, плечистый, крепкий парень, председатель большого колхоза подошел к Шамилову, словно ученик, вызванный к доске.
– Да так, по-стариковски. – Учитель кивнул на телефон. – Ай-хай, круто вопрос ставишь, молодец!
– Так ведь уперся этот Шайхетдинов, забрал стройматериалы, которые нам выделили, и не хочет отдавать. Разозлишься тут или нет? Ну, с этим ладно. Не сердитесь, агай, со временем туго. Давайте выкладывайте просьбу. Что-нибудь для школы нужно? – Кутлыбаев открыл дверь и крикнул Гате Матросу, читавшему в зале книгу: – Заводи мотор, к дояркам поедем!
Еще и дверь не успел закрыть, как взревел мотор и в кабинете зазвенели стекла.
– Просьба… Да не просьба, браток, – заспешил Шамилов, – общественность волнуется, надо бы ясность внести. Ты сам подумай, дочка новый дом ставит, а отец старое подворье укрепляет, за старую баню цепляется. Вот что непонятно.
Кутлыбаев от двери вернулся к столу, от прежнего не остыл, а тут еще больше нахмурился. Шамилов, поняв, что слова его попали в цель, решил ковать железо, пока горячо.
– Вот именно, товарищ Кутлыбаев! Фаткуллу этого давно пора укротить! А кто это сделает, если не хозяин, то есть ты? Только посмотри на них: тайна на тайне! За кого Танхылыу выходит – даже тут загадка. Народ за черных баранов держат.
– Да, да… тут много всего, что нужно выяснить, – вздохнул Кутлыбаев. Сказал и вдруг, хлопнув ладонью по столу, расхохотался: – Тайна, говоришь, на тайне? А Куштиряк такого не любит! Так? Ему ведь все на серебряной тарелке подай. Да, Шамилов-агай? Давай так сделаем… ты пока ходи себе тихо, будто ничего не случилось. Согласен? А если кто допытываться будет, ты знай себе подмигивай и поддразнивай. Забавно? А мы тем временем развяжем узелок.
– Может, и забавно… да как же я подмигивать да поддразнивать буду, если и сам ничего не знаю? Нет, ты давай выкладывай!
– Знал бы – выложил. Я ведь тоже в твоем положении. Вместе и разведаем. Ты, значит, своим путем, а я – своим. Давай руку.
Всю усталость, все огорчения с Кутлыбаева словно сдуло, сейчас он походил на мальчишку-сорванца, задумавшего какую-то проказу. Хоть Шамилову это свойское «вместе и выведаем» польстило, но сомнение в душе не рассеялось. «Знает, что-то знает Кутлыбаев! – подумал он. – Меня, старого лиса, зачем-то одурачить вздумал». Но только рот открыл, председатель, ступая так, что прогнулись половицы, вышел из кабинета. Когда Шамилов выбежал на крыльцо, уазик уж мчался в сторону фермы.
Уазик-то мчится, однако сам Кутлыбаев отнюдь на ферму не рвется. Если бы можно было, он эту поездку отложил бы еще на несколько дней. Но сегодня парторг Исмагилов резко выговорил ему: «Хватит! Пора эту игру в прятки прекратить!» Пришлось поехать.
Уже неделя, как на ферме сыр-бор разгорелся – доярки бузят. А занялся пожар оттого, что семь коров, купленных для обновления поголовья, сначала хотели раздать дояркам, но потом раздумали и прикрепили к одной Танхылыу. Исмагилов был против, но Кутлыбаев категорическому требованию – то есть фырканью и гневным взглядам – передовой доярки противостоять не смог. «Не дадите мне челябинских коров – уйду», – заявила она. И упрямство Танхылыу решило дело. Придется теперь чинить разбитый впопыхах горшок – раздать коров.
Дело было щекотливое.
Отберешь коров – нрав Танхылыу известен: возьмет и уйдет с фермы. А кто виноват? Председатель да парторг. Районное начальство спуску не даст. «Передовая доярка, у всех на виду, а вы к ней подхода не нашли! Сами виноваты, что у вас молодежь из аула бежит!» – напустится Камалов. Танхылыу-то в районе на особом счету.
А не выполни требования остальных доярок – поди знай, что они выкинут! Шустрые и решительные. Справедливость у них – превыше всего. Того не знают, что справедливость – она тоже о двух концах. Вот сговорятся и не выйдут на работу хотя бы на полдня – света белого не взвидишь. От этих вострушек только и жди. «Скандал будет!» – так ведь и заявили!
Да, какой палец ни укусишь – все больно. И девушки правы, и Танхылыу задевать рискованно. И есть тут еще одно… Но это уже такое дело, что мимоходом о нем не расскажешь. Тут уместно вспомнить совет друга-критика и не валить в одну телегу все подряд…
Когда Кутлыбаев вошел в комнату отдыха при ферме, доярки, закончив утренние работы, беседовали с Исмагиловым. Здесь же сидел и зоотехник. Тепло, светло. Из приемника льется тихая музыка. Ни шума, ни скандала.
Но это была тревожная тишина перед бурей. Там тоже подует поначалу, словно нехотя, прохладный ветерок, деревья лениво качнут ветками. Разломав гладь воды, пробежит мелкая рябь. И снова тихо. Но уже как-то незаметно затянуло воздух тусклым занавесом, и на солнце, которое только что ярким светом заливало весь мир, наползло черное облако. Ветер усиливается, гнет деревья, разную живность гонит в укрытие. И вдруг вся природа гневно встает на дыбы, с треском лопается небо, и с шумом-громом, полыхая молниями, рушится на землю ливень…
Только Кутлыбаев поздоровался и присел на пустой стул с краю, как одна из девушек, по имени Диляфруз, метнув на него взгляд, вскочила с места. «Начинается!» – испуганно подумал Кутлыбаев. Пересохло в горле. Он взглядом обвел комнату. Графин с водой стоял на подоконнике. Но пройти к нему Кутлыбаев не решился. Чтобы подбодрить себя, улыбнулся и сказал внезапно осипшим голосом:
– Ну-ка, послушаем твои песни, красавица!
– Вы все в шутку не превращайте, ничего тут смешного нет! – сказала девушка, пригладив красивые, вздымающиеся, как туркменская шапка, волосы» – «Песни», видите ли! Вот что, товарищ Кутлыбаев, я на ферме, комсорг, и довести до вас требования девушек поручено мне.

Тишина. Муха пролетит, и ту слышно. Кутлыбаев, опустив взгляд, покашлял незаметно, оглядел девушек. В другое время из любого пустяка потеху устроят, сейчас сидят – брови нахмурены, губы сжаты, видно, решили: назад – ни шагу.
Только тут Кутлыбаев заметил, что самой Танхылыу нет. Но не успел порадоваться этому, как распахнулась дверь и уверенным хозяйским шагом, с усмешкой на лице вошла Танхылыу. Комсорг подбородком указала на стул и снова повернулась к председателю:
– В социалистическом соревновании все должно быть по справедливости. И товарищ Кутлыбаев, и Исма-гилов-агай об этом хорошо знают. Мы тоже думаем, – что соревноваться можно лишь тогда, когда условия у всех одинаковые.
Девушки одобрительно зашумели.
– Это разве соревнование – все лучшие коровы у Танхылыу!
– И корма получше – тоже ей!
– Подождите, дайте досказать! – еле успокоила подруг Диляфруз. – Да, покуда мы молчали. Если кто-то должен быть в передовиках – пусть будет Танхылыу, сказали мы. Хваткая, работящая, и дело организовать может, и товарищей подбодрит, за нее краснеть не придется. Вместе и подняли…
– Ой, немощь, – вскочила Танхылыу – ты, значит, меня подняла? Меня, безрукую, пожалела!..
– Сядь, не вскакивай. Никто тебя не хает… Да, за Танхылыу следом пришли мы на ферму. Если бы не она, может, разъехались бы кто куда. И руководители дело правильно поняли, – она бросила взгляд на председателя и парторга, – было организовано молодежное звено. Шли и боялись, потом научились работать, самим приятно. Только… от похвал наша Танхылыу зазнаваться начала, славы не потянула. Ну, разве это дело: нам – одни условия, ей – другие. Словно калека она, или лодырь, или неумеха какая-то. Не знаю, каково Танхылыу, а нам стыдно. За нее стыдно. Короче, челябинских коров раздайте всем. Это – первое. А второе – пусть еще скотников дадут.
Снова поднялся шум. Кутлыбаев, покраснев, исподлобья поглядывал на доярок. «Вот тебе и скандал!» Посмотрел на парторга: нет чтобы встать, разъяснить политическую сторону проблемы, прекратить эту неразбериху – сидит, улыбается криво, словно с этой девичьей перепалкой согласен, на председателя и не смотрит. Алтынгужин и тот на стороне доярок:
– Танхылыу – чуть что, хоть маленькое замечание, сразу пугает: «Уйду». А мы все терпим. Сколько же можно?
Нет, здесь вожжи туго надо держать. Кутлыбаев уже с места начал вставать, как Исмагилов поднял руку и прекратил шум. Председатель обратно сел на место. Разумеется, ни он, ни другие не знали, что в комнате уже крутится Зульпикей. Оттого, видно, парторг и сказал, не мудрствуя:
– Тут, на мой взгляд, и спорить не о чем. Требования девушек справедливы. Но, мне кажется, нужно и то учесть, что, пока не испытали новых коров, не распознали все их повадки, лучше бы их вместе держать.
А Зульпикей знай свое.
– Уже слышали! Коли не доверяете – ищите себе Другую доярку, – перебила парторга одна из девушек.
– И то правда! Как моя бабушка говорит: хозяйкино добро – серебро, а медный грош – прислуге хорош.
– Танхылыу – хозяйка, мы – прислуга.
– К ее коровам особый человек приставлен, а мы и корма таскаем, и навоз выгребаем – все сами! Мало того, каждую неделю в район едет, а ее работа на нас остается. Разве это порядок?
– Хотя бы транспортер поставили, навоз отгребать! Я такие в совхозе видела. Вот где удобство!
– И не говори, о техническом прогрессе твердить мастера, а где он, прогресс?
– Понятно, Танхылыу этот прогресс не нужен. У нее дела и так хорошо идут.
Девушки говорили, перебивая друг друга, гвалт стоял, как на птичьем дворе. Озабоченный Исмагилов делал какие-то пометки в записной книжке.
– Ну, а теперь саму Танхылыу послушаем, – сказал он, попытавшись взять ход разговора в свои руки.
– Нечего уже слушать, – выпалила Танхылыу и вдруг заплакала навзрыд. Стащила с себя халат и швырнула в угол. Никто и слова сказать не успел, подбежала к порогу, распахнула дверь. – Думаете, работу не найду? К ферме вашей подол не примерз. Все разбирайте! И прежних моих коров раздайте, – она взглядом ожгла Кутлыбаева, – и новых, челябинских!
Хлопнула дверь, звякнули стекла в окнах. «Ах!» – вскрикнули девушки.
И доярки, и начальство сидели с такими кислыми минами – словно полыни отведали.
Читатель, конечно, отметил про себя, что к этому моменту нашего повествования дверью хлопнули уже во второй раз. (Первый раз дверь грохнула в конце разговора Шамилова с Фаткуллой Кудрявым.) Объяснить это куштнрякскими нравами было бы неверно. Здесь виноваты, во-первых, Зульпикей, большой мастер делать из ничего скандал, во-вторых, сам автор, который старательно следует опыту своих наставников. (Как известно, только в произведении начнут сгущаться события, как сразу гром, стук, грохот, лязг и громыхание заполняют все вокруг. По правде говоря, самому автору милее всего тишина. Но, как бы там ни было, пренебрегать уроками мастерства он не привык. Нравится не нравится, а приходится шуму нагонять. Хотя из личного своего опыта автор знает, что самое трудное – снова открыть дверь, которую сам же перед этим с треском захлопнул.)







