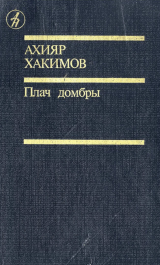
Текст книги "Плач домбры"
Автор книги: Ахияр Хакимов
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 41 страниц)
Хабрау, как только исполнит все возложенные на него по хозяйству дела, сразу берется за книгу. Днем это редко удается. А вечером сядет под каким-нибудь окошком, откуда падает свет от свечи, и, забыв обо всем, читает великие дастаны, труды по философии и истории. Чем больше он читает, тем яснее становится мир вокруг, просветляется разум, и кажется ему, что он входит в удивительные просторы вселенной. Тщательно, с особой страстью, и страсть эта порой переходила в ненависть, выписывал он все, что касалось истории Орды. Кровавой летописью великих трагедий была эта история. Цветущие, богатые города, возделанные долины, сады, хлебные поля – все легло золой и покрылось пылью из-под копыт. Сколько держав, сколько народов исчезло с лица земли! Куда ни посмотри – печальные руины. Где шагнула стопа Орды – там все арыки, все колеи, каждый копытный след по край залило кровью и слезами. В чем же сила Чингисхана и «медноголовых волков» – его наследников? Почему ни одно государство не сумело им противостоять?
После усердных размышлений Хабрау сделал такой вывод: Чингисхан и его наследники всю свою политику строили на хитрости и коварстве. На страну, которую собирались растерзать, они сначала нагоняли ужас, а правителей склоняли на свою сторону – угрозами или подкупом. И дело не в том, что Чингисхан, бич божий, был послан, как пишут некоторые арабские путешественники, всевышним на эти земли карой за их великие грехи. И сила его поначалу была не такая, чтобы половина подлунной склонилась перед ним. Словно коварная юха-змея, которая по башкирскому поверью двенадцать лет живет и все двенадцать лет изводит людей страхом смерти, затуманил он разум племен и народов, подчинив своей воле, и всю их силу и богатство бросил на исполнение своей кровавой цели. Разобщенность этих стран – вот в чем была сила Чингисхана.
Нормурад, заметив пристрастие Хабрау к истории, стал порою проверять его знания.
– Эх, друг Хабрау, – вдруг отбросив книгу, с горечью говорил он, – история – наука такая: изучаешь ее, изучаешь, и ничего, кроме уныния, не остается. Тоска и безнадежность. Кровь, кровь, кровь – тогда ли, сейчас ли, и все уже было сотни раз. История ли Туркестана, история ли Юнана[20], летопись ли халифов – всюду одно и то же и все как сегодня. В какую эпоху ни заглянешь – те же измена, коварство, резня и погоня за богатством… История-то человечества кровью написана, чернилами ее только переписывали. Ну, скажи, был такой владыка, царь, скажем, или хан, чтобы народы, как собак, друг с другом не стравливал? Было так, чтобы справедливость торжествовала? Оставь ты ее, эту науку. Только себя изведешь.
А Хабрау, словно мотылек, летящий на свечу, все больше льнул к этим книгам, читал, пока строчки перед глазами не наливались красным.
– Нет, уважаемый мирза, – спорил он с Нормура-дом, – слова твои верны, но вывод ошибочный. Я в эту историю затем вгрызаюсь, что надеюсь такой урок извлечь, чтобы на пользу был моей стране, ее будущему. А вдруг мой народ изберет не тот путь, о котором ты говорил, а путь правды и справедливости?..
– Дай-то бог. Но помни, Хабрау, твой народ не единственный на земле живет. Заживет он праведно – и другие государства тут же протянут руки к его богатству и свободе. Так что, хочешь не хочешь, а придется и тебе воинское ремесло постигать. А без этого каждый сильный твоей голове господин… Слышим мы тут, Русское государство быстро набирает силы. Московский князь Дмитрий разгромил Мамая, хана Золотой Орды, самозванца этого, и теперь хочет укрепить отношения с другими сильными государствами. И то подумай: русские к вам близко. Они силу набирают – на пользу это башкирам или во вред? Как бы не попасть вам меж двух держав, как зернышку меж двух жерновов.
– Хоть что – беды хуже ордынской не будет.
– У русского вера другая.
– Вера, вера… тоже еще одна петля.
– Вера – оружие политики, Хабрау…
Жаль, нет у Хабрау таких доводов, чтобы опровергнуть Нормурада. И знает маловато, и нынешнее положение его страны – скорее в поддержку мыслям Нормурада, чем его, Хабрау.
Понемногу он начал понимать, что и богатство, и слава, и мощь Мавераннахра растет за счет стран, захваченных Хромым Тимуром. Роскошные дворцы под голубыми куполами, мечети, медресе, гробницы и мавзолеи, узорчатые каменные мосты – на крепком растворе держится их кладка, а раствор на крови сотен тысяч рабов замешен. Какую бы страну ни завоевал Железный Хромец, первым делом он выбирает мастеров, строителей, зодчих, кузнецов, оружейников и под крепкой охраной отправляет в Самарканд. От темна и до темна, не разгибая спины, работают они здесь. Малая задержка, пустяковая провинность – и ждет искусников-рабов тяжелая расправа.
Целыми днями, до треска в голове, думает Хабрау обо всем этом, потом закроется в узенькой комнатушке, отведенной ему в доме для прислуги, чуть слышно играет на домбре, порою и споет тихонько. Но долго сидеть и печаль свою тешить некогда. И двор, который от зари до зари жаром пышет, водой полить нужно, богато разодетых гостей встретить, за лошадьми их присмотреть, утром и вечером в большом саду цветы и плодовые деревья напоить, а кроме того, чай богатым шакирдам заваривать, по разным поручениям сбегать – все он, Хабрау.
И парень – услужливый, усердный, что ни скажи, бегом исполнит – скоро для всех стал своим.
Смышленость, одаренность Хабрау, жадность, с какой набрасывался он на каждую новую для него книгу, удивляли мавляну Камалетдина и Нормурада. Да и не удивительно разве: в один год он уже прилично натаскался в арабском и фарси, выказал страсть к философии и истории, стихи великих поэтов целыми страницами выучил наизусть и о том или ином событии, о деяниях могучих царей, о прочитанных дастанах и диванах этот джигит-полуязычник может спорить с шакирдами на равных! «Что с тобой? Какая в тебе сила сидит? Как твоя голова сразу столько знаний принимает?» – то удивляется, то восхищается Нормурад. Парень чистый, открытый, он принял Хабрау в свою душу, перезнакомил с другими приятелями-шакирдами. Приносит ему редкие огромные старинные книги, которым и цены нет. В один из дней он попросил разрешения у мавляны и позвал Хабрау в гости в свой загородный дом.
Пять-шесть джигитов, однокашников Нормурада, на легких, резвых конях через ворота Фируз выехали из города. Хабрау гарцевал на прекрасном черном иноходце своего хозяина Камалетдина. Настроение у джигитов веселое: то поддразнят друг друга, перекинутся складным, в рифму сказанным словом и расхохочутся, то, отпустив поводья, с криками и улюлюканьем сорвутся вскачь. Клич, удар копыт – и только облако пыли, где миг назад были они.
Дом Нормурада стоит в местности, которая называется Баги-Дилкуа. Здесь неподалеку знаменитый загородный дворец Тимура-Гурагана, приют его отдохновений. Время, когда виноград полнится сладким соком, деревья гнутся, еле удерживая плоды, и воздух густ от аромата цветов. Под открытыми верандами, разгоняя зной, протекают арыки со студеной водой.
При виде всей этой красоты и великолепия, в восхищении от роскоши и богатства, Хабрау лишился языка. Вспомнился ему собственный его народ, как перекати-поле, кочующий по степям вслед скоту, представил жалкую его судьбу и тихонько вздохнул. Почему же его народ выпал из арбы просвещения? Отчего же такие баи и турэ, как Богара и Байгильде, хоть немного не оглянутся по сторонам и по примеру соседей не постараются перейти к оседлой жизни, не распашут земли, не поставят города? Пришли эти мысли, ожгли сердце, и Хабрау почувствовал, что зря он приехал сюда, в этот дом, все вдруг стало в тягость. И впрямь, что общего: он – нищий, неволей забредший в этот город странник, прислуга в доме, живет и заглядывает людям в глаза; они – джигиты в богатых одеждах, шумные, веселые, не знают, куда силы девать. Ведь каждый из них – или сын крупного вельможи, опоры державы Мавераннахра, или высокого военачальника дорогой наследник.
Хабрау, в задумчивости сидевший на каменной скамье в тени оливкового дерева, вздрогнул от чьего-то голоса: «Ассалям, дорогой гость!» – и поспешно встал с места.
– Прости, я, кажется, перебил твои мысли, – сказал незнакомец. Сел и жестом посадил Хабрау рядом. – Слышал о тебе, знаю, что ты друг Нормурада-мирзы.
Открытый ли взгляд, улыбчивый ли разговор, простая ли одежда этого опрятного человека лет тридцати, с орлиным носом и черными, коротко подстриженными усами и бородой – но что-то в нем сразу сняло все замешательство Хабрау, словно водой смыло. Он, приложив ладони к груди и почтительно склонив голову, принял его приветствие.
– Слышал, что пришел ты из башкирской земли в поисках знаний. О твоих способностях шакирды между собой говорили, что в короткий срок грамоте выучился и теперь постигаешь тайны наук и поэзии, очень хвалили тебя, – продолжал незнакомец.
Хабрау в знак несогласия лишь головой покачал. И сам не заметил, как вдруг взял и выложил, о чем думал:
– Эх, господин, что мои скудные знания рядом с глубокими, как море, познаниями шакирдов? Вот этот узенький арычок. От тех сокровищ, которые они пять-шесть лет золотыми слитками собирают, мне только упавшие к ногам крохи достаются.
Незнакомец удивленно посмотрел ему в лицо и вдруг обнял его за плечи.
– Афарин, башкир! – с чувством сказал он. – Ты повторил слова поэта. Но, как говорил Нормурад, тех блесток, что под ногами, тебе уже мало.
– Прости, – прервал его Хабрау, – я не узнал тебя. Кто ты будешь?
– И ты меня прости, брат. Нет чтобы сразу назваться, познакомиться… Имя мое Миркасим. А друзья еще Айдыном зовут.
– Миркасим Айдын?! – Хабрау вскочил с места. И с каким-то детским подозрением – верить или не верить? – уставился на нового своего знакомого. Опомнившись, в знак уважения и восхищения с глубоким почтением склонил голову.
От Нормурада и других шакирдов он уже слышал имя поэта Миркасима Айдына, и не только имя – Хабрау слышал и прекрасные, полные загадочной грусти касыды, газели, знал он и язвительные строки, изобличающие жадных вельмож. И теперь, когда неожиданно увидел его самого, не смог скрыть радости.
– Садись, садись, – сказал Миркасим, почувствовав неловкость оттого, как низко джигит-башкир поклонился ему. – Много великих поэтов жило и в Мавераннахре, и в Иране, и в Шемахе. По сравнению с их, как ты давеча сказал, глубоким, как море, искусством моя писанина – детское лопотанье…
На этом беседа прервалась. Подошел один из слуг Нормурада и пригласил Миркасима и Хабрау к гостям.
Оказалось, что Миркасим, любимый поэт шакирдов, преподает в одном из медресе Самарканда каллиграфию. Нормурад пригласил его в гости с тем, чтобы просить его прочитать стихи и принять участие в беседе.
Многие из шакирдов увлекаются литературой, а кое-кто и сам стихи пописывает. Поэтому, только сели за стол и по чашке чаю не допили, застольная беседа сразу легла на поэтическую колею, разговор пошел о тонкостях стихосложения. Имена поэтов, истинно великих и величием наделенных в скромных размерах, названия их произведений так и летали, то и дело упоминались такие книги, как «Наука быть счастливым» Юсуфа Хас-Хажиб Баласагунлы, «Книга о языке тюрки» Махмуда Кашгари, звучали прочитанные наизусть строки на фарси, арабском и тюрки, разбиралось их построение, звучание, и все – с основательными пояснениями.
Пока пили душистый чай, кое-кто из шакирдов, дав немного себя поупрашивать, почитал и собственные стихи. Миркасим хвалил их, подбадривал, только иной раз, заметив в касыде или газели шероховатость, поднимет полусогнутый палец, скажет: «А что, если вот так сказать», – и снят заусенец. Когда же выставили изысканные яства и из рук в руки пошел серебряный кубок с вином, языки у шакирдов совсем развязались, разговор пошел быстрей, перебивчивей. Миркасим сначала почитал наизусть газели своего любимого поэта Шамсутдина Хафиза, потом из книг «Бустан» и «Гулистан» Муслихетдина Саади стихи о благонравии и воспитанности, Опять к возгласам восхищения и одобрения присоединились тонкие замечания и объяснения.
Миркасим-то, оказывается, стихи пишет и на тюрки, и на фарси. Он читал, и с каждым стихотворением росло восхищение Хабрау. Оба эти языка для обыденного разговора он знал довольно сносно, но разобраться в тонкостях поэтических образов, понять намек и уловить ироничный поворот строки ему было еще трудно. Однако, не смущаясь веселых насмешек шакирдов в сложных для него местах, он переспрашивал по нескольку раз, стараясь уловить наконец-то суть. Но Миркасима такая дотошность не смущала, он охотно отвечал на каждый вопрос.
Хабрау уже несколько раз был на таких мушаирах – состязаниях поэтов. Они очень походили на башкирский айтыш. Хабрау восхищался острым умом поэтов, метким словом, красотой касыд и газелей. По их примеру он и сам украдкой попробовал сочинить несколько стихотворений на тюрки. Но странно: и персидский аруз – на протяжности гласных звуков, и тюркский бармак – на счету слогов – лишь с натугой вмещали его мятежные, изнутри обжигающие мысли. А вспомнит, скажем, кубаиры усергенского йырау Йылкыбая – и будто стоит меж двух огней.
Поэтому, когда они в какую-то минуту оказались вдвоем, Хабрау сказал Миркасиму о своих сомнениях.
– Ну-ка, прочти что-нибудь из вашего поэта, – оживился Миркасим Айдын.
Выслушал, помолчал немного и сказал:
– Я, конечно, не все понял, но из того, что уловил, мне показалось, что башкирская поэзия больше политикой увлекается.
– Увлекается? Разве это увлечение? – вспыхнул Хабрау. – Само горе народа заставляет писать об этом. Это ваши поэты больше о любви и влюбленности, о соловьях и розе поют. А еще тоска-разлука да печальные всхлипы…
Миркасим молчал долго. Потом ответил тихо:
– Да, верно ты сказал, много у нас таких стихов пишется. Но ведь немало и таких, которые направлены против зла, против черных сил, душащих свободу, истину, просвещение. Ну скажи, почему вырвали глаза царю поэтов Абуабдулле Рудаки? За соловья и розу? Отчего жизнь таких великих поэтов, как Низами, Хайям, Аль-Маари, прошла в изгнании и странствиях, в горе и страданиях? И сегодня певчая птица Востока, великий мастер газелей хазрет Шамсутдин Хафиз обречен на муки изгнания…
После этого разговора Хабрау стал больше вникать в потаенный смысл поэтических книг, в скрытые узорами образов и затейливой вязью рифм намеки и иносказания. Из китайской бумаги он сшил довольно толстую тетрадь и стал вписывать туда полюбившиеся ему байты и газели. Он взял у Миркасима четыре урока каллиграфии, и пальцы его окрепли, перо побежало увереннее, и он уже получал удовольствие от быстро ложащейся узорной вязи арабских букв.
Сочиненные Хабрау стихи на тюрки от совершенства были далеки. Миркасим осторожно объяснял ему это. Похвалит какой-то образ, какой-то оборот, разберет стихосложение. Свободная, дружеская беседа идет все шире, расходится, как круги на воде, и доходит до Урала, до башкирских степей.
Миркасим уже о многом расспросил его, почти вся жизнь друга открыта ему. Знает он, что Хабрау хочет вернуться домой и уже затягивает пояс, чтобы начать борьбу с Ордой. Знает и одобряет.
– Ум твой зорок, слово метко, и место тебе среди борцов.
4
Почти все шакирды медресе Камалетдина, подобно Нормураду, не кичились тем, что они из богатых семей, и были приветливы с Хабрау. Непонятное слово или темное место в научном трактате нужно разъяснить, нужда ли в перьях, в бумаге появится, каждый был рад помочь ему. Однако было двое-трое таких, которые делали вид, что не замечают его, при встрече смотрели мимо или сквозь и даже не отвечали на приветствия. От таких Хабрау старался держаться подальше, сами не окликнут, так и он не заговаривал.
Однажды самый надменный и молчаливый шакирд по имени Абдулсамат окликнул Хабрау, когда тот подметал двор медресе:
– Эй ты, как тебя… подойди. – И он полусогнутым пальцем поманил его. После этого поправил шелковую чалму и одернул блестящий, вышитый серебряным узором халат. – Тут говорят, что рука у тебя легкая, пишешь гладко и каллиграфию знаешь.
Хабрау, не понимая, куда он клонит, лишь ответил смиренно:
– Куда уж нам до шакирдов…
– Ладно, ладно, скромничать в другом месте будешь, – хмыкнул Абдулсамат. – Это… как тебя… у моего отца секретарь заболел. Нужен человек на его место дня на два, на три.
– Так ведь, мирза Абдулсамат, я человек подневольный…
– Это все обговорено. Мавляна не против. Завтра за тобой придет человек из отцовского дома, – сказал шакирд и, стараясь держать гордую, степенную осанку, перебирая четки, направился к дверям медресе.
Первым делом Хабрау решил повидаться с Нормурадом, что он посоветует?
– Отец Абдулсамата – крупный торговец, зовут Абдулкадыром. Каждый месяц уходят три-четыре его каравана, и столько же из чужих стран возвращаются. Говорят, что в городе он самый богатый человек. Иди, пожалуй, не задаром же он заставит тебя работать, – сказал Нормурад и истолковал это как удачу. – Кстати, и в письме поднатореешь.
Дом Абдулкадыра стоял неподалеку от площади Регистан. Встретил Хабрау одноглазый человек преклонных лет. Он управлял конторой купца Абдулкадыра, где под его руководством человек двадцать вели все дела. Купля и продажа, письмо и счет проходили через их руки. Одни ведут учет товаров, которые увозят и привозят караваны, прикидывают доход и расход, другие собирают сведения, где какой товар каким пользуется спросом, и устанавливают цены, третьи следят за доставкой из ближних к Самарканду кишлаков риса, хлопка, изюма, фруктов, держат связь с поставщиками. Два самых доверенных работника у Абдулкадыра – два его секретаря. Один под его диктовку записывает основной смысл писем, какие нужно отправить. А второй подчищает стиль и переписывает набело. Этот, второй, и заболел.
Несколько первых писем Хабрау пришлось переписывать по два-три раза. Голова шла кругом: «Другу моему в удивительнейшем городе Ширазе, красе и радости вселенной, милостью эмира нашего Тимура-Гурагана подобно знаменитым розам своей земли процветающем, богатством своим в семи окраинах мира прославленном, проживающему, чистому душой, с нескудеющей рукой, мудрому и справедливому Салахутдину ибн-Шамсутдину с пожеланиями благополучия дому, здоровья его драгоценной семье, неизменного процветания в делах торговли, благороднейшем промысле, угодном богу и великим пророком нашим завещанном нам…» – тьфу, «процветающем» и «процветания», опять переписывать заново! Такое письмо не то что пока напишешь – пока прочитаешь, весь изведешься. Будь его воля, он бы всеми этими узорами ни себя, ни получателя не мучил, а, жалея бумагу и время, написал бы прямо: «Если по цене не будет дороже стольких-то тысяч динаров, пошли два каравана иранских ковров», или: «Этого караванбаши пришлось взять в последний час, по глазам вижу, что плут, тщательно проверь каждый тюк» – как это и выходило из-под пера первого писаря. А то: «Обрати взгляд очей своих на товары, посылаемые твоим ничтожным слугой, и пусть свет их обольет их сверху донизу, не оставив никаких закоулков, не то в бренном мире сильны козни дьявола, и даже на самые светлые души ложится тень корысти и греха».
Оказывается, и приветы, и восхваления, и словесные узоры, и иносказания нужны, чтобы смягчить жесткость требования. Они завораживают получателя письма, обнадеживают и тем зачастую затягивают его в ловушку. Старается Хабрау, целыми днями сидит, сгорбившись над низким столиком, утирая пот со лба, переписывает письма Абдулкадыра.
И еще, самое главное: содержание писем должно храниться в глубочайшей тайне. Что в них – знают только Абдулкадыр, одноглазый управляющий и два секретаря. Об этом Хабрау с самого начала был предупрежден строго-настрого. Впрочем, и болезнь-то его предшественника оказалась связанной с этими тайнами. Сидел тот в застолье с товарищами, тоже служившими у разных купцов, ударило вино в голову, ну и понесло, пошел хвастать: все-то он, дескать, знает и такие вещи ему известны, о которых другие и слыхом не слыхивали. Приятели стали насмешничать, подзуживать его, у того от обиды и язык развязался. Но сидел меж них и Абдулкадыров доносчик. Пришел, видать, других послушать, а тут и свой хорош…
Разглашение же торговых секретов приравнивается к разглашению государственной тайны– По приказу Абдулкадыра того болтуна за его длинный язык повели на крутую расправу. Оттянули пятьдесят плетей по спине, и сидит он теперь в зиндане. Спасибо, язык не вырвали. Хабрау заметил, как тайком и с оглядкой шепчутся об этом в конторе, и решил, что больше в этом торговом доме не останется и дня.
– Говорили два-три дня, а уже неделя, как я здесь, – сказал он Кривому, когда тот зашел разобрать переписанные бумаги. – Вот допишу эти и к мавляне Камалетдину вернусь.
– Не торопись, браток, больно уж много работы в последние дни привалило, сам видишь. Еще неделя – и ты свободен.
– Перед хозяином неудобно. Как бы мое место другому не отдал.
– Об этом не беспокойся, – сказал Кривой. – С ним всё обговорили, хозяин согласен подождать. И к тому же с твоими способностями… разве такой ты человек, чтобы в прислужниках ходить?
– Я работы не боюсь, господин. Уроки пропускаю, вот что беспокоит, – не сдавался Хабрау.
А у того на все ответ готов:
– Какая книга понадобится, мне скажи. Библиотека Абдулкадыра – первая во всем Самарканде.
– Из кочевников я, не привык день и ночь в худжре сидеть, голову ломит.
– Привыкнешь, привыкнешь, нет в этом мире такого, к чему бы не привык сын человеческий, – усмехнулся старый крючкотвор и вышел. Послышался звук повернувшегося в замке ключа.
«Вот, значит, как! Хотят заставить меня работать под замком». От этой мысли Хабрау обдало жаром. Он бросился к двери, стал кричать: «Откройте!» – колотить в двери кулаками, Не только не открыли – и не откликнулся никто.
Хабрау была отведена маленькая комнатка. Здесь он и жил. Спал, вставал, ходил. Здесь он переписывал порученные ему письма и разного рода деловые бумаги о купле и продаже. Все, кто приходил к нему, – управляющий конторой да тот хмурый детина, который составлял письма вчерне, Самого Абдулкадыра Хабрау не видел ни разу.
Уже само поведение Кривого, постоянные его слова «еще неделю» и ухмылка (пять дней прошло, а все «через неделю») и то, что теперь в комнату он никогда не входил один, было подозрительно. Мало того что держат под замком, еще и коварство какое-то замышляют. Сначала в знак несогласия он отказался работать; два раза, когда дверь открывалась, чтобы впустить кривого конторщика, пока она не закрылась, выскакивал из комнаты, но оба раза четыре дюжих охранника сразу же за порогом хватали его и заталкивали обратно. Шуметь и скандалить было бесполезно, таким способом от псов Абдулкадыра он не спасется. Теперь он ел и пил и выходил по нужде только под присмотром охранника. Что ж, на коварство у него хитрость найдется.
После недели войны с Кривым Хабрау вдруг успокоился и без шума, без скандалов снова принялся за работу: «Исполненный божьего благочестия, золотая опора Исфагана, расцветающего в лучах двух солнц, того, что на небе, и того, что на земле, – мудрого и милосердного царя царей эмира нашего Тимура-Гурагана, друг мой, зрачок моего глаза, достопочтенный Хазрет Фахретдин ибн-Мухитдин…» Но все мысли были об одном: хоть как, но дать о себе знать Нормураду. Больше друга в этом огромном чужом городе, чтобы просить помощи, у него нет. Если кто и поможет, так только он.
И Кривой доволен: утихомирился парень, работает так же прилежно, как и раньше.
– Эх, браток, браток! Бедный нищий странник! Где ты еще найдешь такую райскую жизнь? Ни в чем нужды не знаешь, есть, пить прямо в руки приносят, – увещевал он притихшего строптивца.
– Сколько держать меня собираетесь? Ты хоть это скажи! – спрашивал тот, не поднимая глаз от бумаги.
Тот щурил глаза и с тонким жутким смешочком отвечал:
– Так ведь, если хочешь… хоть век живи!
– По родным своим краям скучаю, почтенный господин. Вот потеплеют дни, и я вослед птицам уйду.
– Вот видишь! В таком долгом пути прежде всего деньги нужны. Коли поработаешь прилежно до весны, лошадь себе купишь, хорошую одежду справишь.
– Куда уж лучше, – смиренно вздыхал Хабрау и даже подкладывал под себя обе руки – такая вдруг брала охота мерзавцу этому, который держал его под замком, вышибить и второй глаз.
Хабрау не знал, что уже несколько раз Нормурад приходил и спрашивал о нем, выслушивал какую-нибудь очередную выдумку и уходил ни с чем.
Долго сидел в раздумье Хабрау и решил: коли единственное оружие в его руках перо и бумага – их он и использует.
Когда в доме все стихло, он написал коротенькое письмо на имя Камалетдина-мавляны и Нормурада. Взял голыш, которым придавливал бумаги, и тщательно обернул его письмом. Теперь оставалось попроситься по нужде во двор и выбросить письмо через высокий дувал на улицу. Если попадется в руки доброму человеку, то отнесет его мавляне. О том, что добрый человек должен быть и грамотным, Хабрау как-то не подумал.
На другое утро Хабрау все и исполнил. Умываясь возле протекающего через сад арыка, он заметил, что человек, приставленный к нему в караульные, уселся совершать омовение, и, достав из-за пазухи увесистый бумажный сверток, метнул через стену.
Весь день у Хабрау работа валилась из рук. То ошибка проскочит, то уже в самом конце письма поставит кляксу. Все его мысли были о письме, которое должны доставить мавляне и Нормураду. Нашел ли его кто-нибудь? А коли нашел, то доставил ли по назначению?
Наступил вечер. Стемнело. Наступила ночь. Хабрау с горькой усмешкой покачал головой: «Эх ты, наивный человек! Да, ничего не скажешь, хитрую ты уловку придумал, куда уж хитрей! Конечно, никто письма не заметил, и его, наверное, затоптали в землю снующие туда-сюда прохожие. Ну, скажем, нашел его человек, а читать-то и не умеет, – вдруг осенила догадка. – Куда он пойдет? В ближайший дом, где есть люди, знающие грамоту? А какой дом ближе? Конечно же контора достопочтенного Абдулкадыра!» Говорят, растерявшаяся утка задом в воду ныряет – вот и Хабрау… задом нырнул. Надо снова думать, искать другой способ. Он уже достал с полки одеяло и тюфяк, приготовился лечь спать, как распахнулась дверь и вошел Кривой в сопровождении двух дюжих молодцов.
– Одевайся! – взвизгнул старик. Единственный его глаз зло блеснул в свете свечи.
Один из молодцов сдернул со стены халат и бросил его Хабрау.
Держа халат в охапке, Хабрау прокатился по ступеням, вылетел во двор и упал на землю. «Что поделаешь, если большинство добрых людей безграмотны… – еще хватило у него сил усмехнуться. – А эти ждали, когда стемнеет».
Его подняли и поволокли.
– Куда вы меня тащите? Отпустите! – кричал он, хотя знал, что и не ответят, и не отпустят, Но просто так, словно тюк, мотаться в их руках было совсем унизительно.
Те двое подтащили его к лошади, туго, так что заломило затылок и стало тяжело дышать, завязали глаза, завернув за спину, веревкой замотали руки. Потом забросили его в седло, вдели ноги в стремена, и они поехали.
Сколько ехали и куда ехали, Хабрау не понял. Только осталось в памяти: лошади пошли рысцой, потом пустились галопом, поворачивали то влево, то вправо, шли в гору, потом вниз.
Наконец лошади стали. Ему развязали глаза, размотали веревку на руках. Но и когда сняли платок с глаз, он не сразу смог что-нибудь разглядеть, кругом была непроглядная тьма.
Хабрау слышал, что у Абдулкадыра есть загородный дом. Видать, туда-то его и привезли. Что-то большое, высокое чернелось впереди. И ни звука вокруг. Даже собачьего лая не слышно.
Но все же, когда начальник конторы, позвенев ключами, открыл ворота, внутри дома блеснул огонек. К полуночным путешественникам подбежали двое, в их руках мерцали обнаженные сабли. Они перекинулись несколькими словами с приехавшими, узнали их и поклонились одноглазому:
– Ждем, давно ждем, господин!
Высокое строение впереди оказалось двухэтажным домом. Быстро прошли через огромную комнату внизу и поднялись наверх. Хабрау втолкнули в такую же, как и в городе, маленькую узкую комнатку. Кривой вошел следом.
– Впредь будешь работать здесь! – заверещал он. – И знай, если задумаешь бежать отсюда или эту свою подлую выдумку захочешь повторить, а может, новое что придумаешь – эти двое тебя не пожалеют. Запомни, приказ им дан простой: заметят что подозрительное – смахнут тебе голову с плеч. Сабли ты их видел. – И он бросил на стол бумажный комок. Но комок не отскочил от стола, а стукнул коротко и лег. То было его злополучное письмо.
– Тьфу, будьте вы прокляты! – сказал Хабрау.
Но голоса его, кроме него самого, уже никто не услышал.
Всю ночь не сон был, а долгий бред. Он бежал и бежал от разбойников в черных личинах на вороных быстрых конях, оглядывался на бегу, и они уже настигали, настигали, настигали его…
Только теперь понял Хабрау, на какую участь он обречен. До конца жизни, пока не потускнеют глаза, за одно лишь пропитание будет работать он на Абдулкадыра. Любит почтенный торговец в своих письмах пофилософствовать о совести и справедливости… Вот его совесть, вот его справедливость! В единственном окошке – железная решетка. Тяжелую, из цельного карагача, дверь вечером запирают на замок с тюбетейку величиной. Неужели ни суда, ни кары нет на этого злодея?
Бедному узнику кус в горло не шел, ночами и на короткий миг оон глаз не смежал. С тех пор как заточили его сюда, работы стало еще больше. Закончит писать письма, перед ним кладут старинные арабские свитки, теперь он и их должен переписывать.
Задумается о своей участи, вспомнит с тоской родные степи и отложит на миг перо – сидящий у порога человек сразу рычит, даже камчой замахивается. Да, его решили сделать рабом. Трудно ли обратить в рабство одинокого, беззащитного парня, забредшего из далеких стран на чужбину? Никто о нем не встревожится, никто его не пойдет искать. Что он, что камень, ушедший в воду, – бульк, и нету.
Но Хабрау сдаваться не собирался. Уже прошло два месяца, как он – всего на два дня! – ушел из дома мавляны Камалетдина. Не найдя другого выхода, он решил напасть на часового. Однажды, когда его вывели во двор, незаметно подобрал и спрятал за пазухой круглый увесистый камень… Улучив момент, стукнет часового этим камнем по голове и, когда тот свалится без сознания, вытащит у него кинжал из-за пояса и бросится к наружной. двери. Лучше, конечно, угадать так, чтобы второй стражник в это время ушел поесть или был в людской у слуг. Пока поднимется шум, пока поймут, что к чему, он должен успеть перелезть через высокий дувал. И если доберется до зарослей дикого орешника – там уж он будет бежать и бежать, пока, запалившись, – не упадет на землю. Потом выйдет на открытое место и где увидит огонек, туда и пойдет. Этот беспрерывно льющий дождь – тоже в помощь ему.







