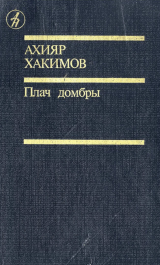
Текст книги "Плач домбры"
Автор книги: Ахияр Хакимов
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 41 страниц)
Так, боясь пошевелиться, она стояла долго. Вдруг очнулась, присела на корточки, взяла в руки мягкий снег и сбила в комок. Прокатила по снегу, получился ком величиной с малахай. Алтынсес красными, как гусиные лапки, руками подняла его и вбежала в землянку.
Женщины только встали, кто одевался, кто умывался.
– Болотный гриб, что ли, притащила? Брось, он же вонючий, – поморщилась одна.
– Болотный гриб, да? Болотный гриб? – Алтынсес положила ей ком на голое плечо, та взвизгнула:
– О-ей! Снег!
– Снег! Снег! – Женщины с криком, с визгом, прямо так, неодетые, выбежали из землянки.
Пошла кутерьма! На шум из другой землянки выглянули подростки. Весь сон сразу слетел, они тут же затеяли игру в снежки.
Пожилая женщина поглядела на радостную суматоху и укоризненно покачала головой.
– Эх, дуры, дуры… Чему радуются? Зиме! Дров нет, одеть-обуть нечего…
– И не говори! – подхватила другая. – Не знаешь, где охапку сена достать! А лишишься коровы, – что с детишками… – не успела договорить, в спину – хлоп! – стукнулся крепкий снежок. Нахмурившись, она открыла уже рот, чтобы отчитать озорника, как две девушки с хохотом закружили ее, повалили. Одна, задыхаясь от смеха, пыталась напихать ей снега за пазуху, другая терла снегом лицо.
– Не горюй, тетка, скоро войне конец! Что душе угодно, все будет. В меду и масле будешь купаться! – кричал мальчишка в рваной рубахе, горстями бросая на них снег.
Тетка с трудом выбралась из кучи, отряхнулась, по-молодому звонко рассмеялась и пошла валить всех без разбору.
Не скоро кончилась бы эта возня, гик и порсканье, если бы повариха не крикнула:
– Хватит вам! Чай стынет!
Задор Алтынсес не угасал весь день. Сделает свою работу и, не слушая ворчанья подруг, то пилу за кого-нибудь тянет, то вместе с другими волочит бревно.
– Никак Хайбуш нынче ночью приснился? – смеялась Кадрия. Следом и другие:
– Уж точно! Видишь, как разошлась!
– Расскажи-ка сон, Алтынсес!
– Эх, и сладко небось целовал Хайбулла!
Алтынсес, как в другой бы раз, краснеть и смущаться не стала, смеялась вместе с подружками, для потехи и сон выдумала. А сама все норовила подсобить, подтолкнуть бревно. Но женщины по неуловимому движению подбородка Кадрии наваливались дружно, и ствол шага на два уходил вперед. Алтынсес даже напрячься не успевала.
Стемнело. Пробили в рельс. Облегченно вздохнув, женщины пошли к землянкам.
Тут, ведя запряженную лошадь под уздцы, подошел паренек.
– Так и оставим, что ли? – сказал он, подводя передок телеги к комлю сосны, которую Алтынсес только что очистила от сучьев. Пять-шесть девушек вернулись и обступили дерево. Алтынсес, обрубив вершину, поспешила к комлю. Вот они с гиканьем, самих себя подгоняя, подняли сосну. Еще немножечко, еще вершок, и бревно ляжет на передок телеги.
Последнее, что помнит Алтынсес, – тонкий голос подростка: «Раз, два – взяли!» – схватившись обеими руками за живот, она повалилась в снег…
Очнулась только ночью. Простонала, открыла глаза. В изголовье, от ее стона готовый погаснуть, трепыхался огонек коптилки. Все тело горит, и горло – будто изнутри подпаленное, и живот, весь живот – полон живых углей. В слабом свете коптилки землянка то вправо валится, то влево. Рядом, накинув телогрейку на плечи, сидя дремлет Кадрия. Словно на качелях, то туда качнется она, то сюда, говорит что-то, но слов не разобрать. Боится, наверное, людей разбудить, тихо говорит, потому и не слышно. Долгая тягучая боль прошла по животу, будто иглой ткнули. Не иглой, нет, длинной вязальной спицей! Алтынсес, вскрикнув, приподнялась. Кадрия обняла ее и, плача, прижала к нарам.
– Лежи, нельзя шевелиться…
Боль отошла, Алтынсес прошептала:
– Не надо, подружка, не плачь… Что со мной? Захворала… Простыла, наверно.
– Захворала, захворала, простыла… Домой вернемся, баню истопим, пропаришься, и все как рукой снимет.
Утром ее завернули в старые одеяла, положили в устланные еловыми лапами сани и отправили в аул. Поехала с ней надежная, рассудительная Сагида, эта в случае чего не растеряется.
Алтынсес, хоть и сама, без чужой помощи, поднялась на крыльцо, была плоха. Вошла в дом и, не дойдя до кровати, опустилась на лавку. Спросила у подбежавшей свекрови:
– А письма нет? – и снова потеряла сознание.
Сколько она проболела, Алтынсес не знала, она потеряла счет дням. Понемногу боль со всего тела снова собралась там, откуда разошлась, – в животе. Потом и оттуда отсосалась. И осталась пустота. Алтынсес чувствовала, как он, этот комок пустоты, начинал шевелиться, полз наверх и, пройдя рядом с сердцем, подбирался к горлу.
Все остальное проходило мимо ее безучастного сознания. Полозья ли провизжат по снегу, шаги ли проскрипят под окнами, возится ли в чулане по хозяйству свекровь, – она не воспринимала этих звуков. Только попытается звук на нитку сознания нанизать, понять его причину – и снова уходит в дремоту.
Что это за болезнь? Не мерзнет, не дрожит Алтынсес. И голова не болит. Но вдруг уйдут все силы, пустое тело оставят, и горит оно в иссушающем зное. Гаснет тусклое мерцание перед глазами, и тот комок снова трется в горле.
«И не говори, сватьюшка. Да хоть ружье бы наставили – не надо было отпускать…»
«Воистину беда беду родит… Скорей бы уж выздоровела, на ноги поднялась. Вернется зять живой-здоровый, и, даст бог, затяжелеет она снова…»
«Аминь. Да будет так. От поганых слов этого кривого совсем я тогда растерялась, не смогла невестку защитить. На мне грех, на мне…»
«Нет, сватья, нет, начнешь вину искать, так и оглобля виновата, и лошадь. Больно уж упрямилась дочка. Вот и вышло: на свою голову».
Будто сквозь дрему слышала Алтынсес горькую беседу матери со свекровью, только клочками. Но она поняла: вот ее болезнь. Три недели в лесу принесли ей одну радость – тот первый снег. И одно горе – она не будет матерью.
3
Прошел еще год.
Невзгоды военных лет, голод и холод Алтынсес мало запомнила. Она говорила: «Как люди – так и я». В еде была неприхотлива, о нарядах и не думала, жила, довольствовалась малым. Все заботы были только о свекрови, о Наде с Зоей – маленьких золовках. Со всем управлялась. А с едой концы с концами сводила свекровь. Беспокойная старуха собирала ягоды, орехи, сушила пастилу, пять-шесть гусей откармливала. Но самая ее страда была на огороде. Не разгибая спины, окучивала картошку, если стояла засуха, ведрами таскала воду и поливала.
Люди хоть и надрывались на тяжелой работе, но были у них и радости и горе. У одной Алтынсес ничего не было. Ни весны, ни лета, ни осени, ни радости, ни страданий. Потому что с того крика «Раз, два – взяли!» и до зимы, после которой пришла победа, время для нее остановилось. Была только работа, работа, работа. И было долгое, беспросветное и неиссякаемое ожидание. Оно застилало все и не менялось, переходя из дня в ночь, из ночи в день, шло через все времена года.
Но вдруг очнулась Алтынсес и увидела: опять зима…
Была середина февраля сорок пятого года. Тихий солнечный день. Далекие отроги, распадки, ущелья, огромные поля – все в ослепительном блеске, все уснуло под ярким солнцем. Сначала целую неделю крутила метель, затем потеплело, все убралось инеем, и снова ударили морозы, загнали людей в избы, зверье в норы.
По дороге через нанесенные бураном сугробы тащатся двое саней. В сугробах полозья стонут, визжат надрывно, а выехав на накат, скользят легко, скрипят с удовольствием. Только этот скрип и еще пофыркивание лошадей нарушают стылую тишину.
На передних санях – старик Салях, на задних – Алтынсес и Кадрия. Старик закутался в тулуп, сжался и стал похож на большую черную птицу. Задумался о чем-то своем, о далеком путешествии. Опечаленно смотрит по сторонам: суждено ли ему вновь увидеть края, где родился и вырос, дорогую землю предков. Сможет ли достойно выполнить почетное дело, которое доверил ему ямагат. Наверное, об этом думает. Вчера на колхозном собрании он примерно так и сказал.
Когда по случаю двадцать седьмой годовщины Красной Армии решили послать на фронт делегацию от района, куштиряковцы выбрали старика Саляха. Аул все силы приложил, быстро собрал подарки, гостинцы. Их-то сейчас и везут на двух санях. Посланцы – пять человек во главе с секретарем райкома – вечером сядут в поезд и отправятся в дальнюю дорогу.
Алтынсес и Кадрия тоже молчат. На подъемах или заносах, где снег еще не слежался, сани подталкивают, лошадке помогают, а как пойдет ровная, укатанная дорога, снова залезают на тюки. Неизвестно, о чем думает Кадрия, а у Алтынсес все мысли – о дальней дороге, в которую вышел дед Салях, на полях войны. Вдруг сбудется, как она загадывала, и повстречает старик Хайбуллу или хотя бы услышит о нем какую-то весточку? Эта мысль уже три дня не давала ей покоя. Прошедшую ночь она совсем не спала, написала Хайбулле длиннющее письмо. Старик без лишних рассуждений сунул письмо в нагрудный карман: отчего, мол, не повстречать, все может быть. Алтынсес как наяву видела: вот старик наконец разыскал Хайбуллу, приветы-пожелания передал, все новости рассказал и потом уже достал из кармана и отдал ему письмо от любимой жены. Одно тревожило: как бы старик не потерял письмо! При прощании надо будет еще раз напомнить. Пусть получше, отдельно положит, не дай бог, начнет другие бумаги вытаскивать, письмо за них зацепится и выпадет.
Проехали через лес, заградой вставший на пути недавнего бурана. Укатанная дорога пошла под уклон, лошади, пофыркивая, побежали рысцой, и через полчаса показались первые дома райцентра.
Сани разгрузили, подарки занесли в предоставленный делегации вагон. Настала пора прощаться.
– Носы не вешайте, – сказал старик Салях, похлопав Алтынсес и Кадрию по спине. – Помните, вы – куштирякские девчата!
– Смотри, дедушка, мои подарки самому храброму, самому красивому парню отдай. Там в узелочке и письмо есть, одна русская знакомая из района написала. И пусть без задержки отвечает солдат! И про меня скажи: красивая, дескать, работящая, язык острый, за словом в карман не лезет, хотя нет, про язык не говори! – наказала Кадрия.
Хоть и шутит, говорит весело, напористо, но в бедовых глазах уже загорелась новая надежда. Разве не бывает, что влюбляются по письмам? И не как-нибудь – на всю жизнь.
– Что там письмо! Я тебе этого джигита самого привезу! – обещал старик. Потом повернулся к Алтынсес. – Ну, дочка, будь здорова! – обеими руками попрощался с ней. – Смотри за свекровью, золовок своих не обижай… Я так. Душа у тебя ласковая. Еще сказать бы надо… Ладно, когда вернусь. Не такой разговор, чтобы вот так, на ходу. А за письмо не бойся, не потеряю, отдам…. постараюсь.
Так отправился под старость Салях в далекое путешествие. Уехал и остался там, на удивление Куштиряку и всем окрестным аулам, до конца войны.
Сначала думали, случилось что-то со стариком, только спутники скрывают, правды не говорят. Сынтимер поехал к ним, дотошно обо всем расспросил. Но к кому бы ни ходил, ответ был один: «Салях-агай все наши охи-вздохи и слушать не стал, на своем уперся. Я, говорит, здесь нужней». Оказывается, в дивизии, куда приехали посланцы Башкирии, в артиллерийском полку за конями должного ухода нет, артиллеристы, все больше парни городские, по лошадиной части знатоки не великие. Ни одному офицеру от старика проходу не стало, до генерала дошел: «Оставьте меня, говорит, и до нового наступления я ваших лошадей, которые пушки тянут, акбузатами[56] сделаю». И добился ведь своего, оставили на батарее! Вот так говорили те, кто ездил со стариком на фронт.
Верить не верить? – ломали голову куштиряковцы. Ровесники Саляха, почтенные аксакалы, загордились даже: и наша копейка еще в ходу! «Надо будет, мы и сами!..» – важно покашливая, говорили они. Были и такие, что ворчали: умом тронулся, не иначе. Как же, без него, дурня старого, у страны солдат не нашлось бы!
Тахау на этот раз принял сторону аксакалов. «Я честно скажу, – говорил он женщинам в правлении, – молодец старик Салях, хоть он мне и не родственник! Я бы и сам пошел, да глаза нет. Хоть бы правый был, а то левый только – целиться неловко». На что ему ответили: «Знаем, куда тебе целиться ловко! Туда ты и без обоих глаз не промахнешься!»
Сами женщины еще не знали, что и думать. То, жалея старика, вздыхали горестно, то жалели себя: «Душой аула был Салях-агай, а теперь и голову негде приклонить».
А вот Алтынсес этой новости нарадоваться не могла. Теперь у деда Саляха времени поискать Хайбуллу будет достаточно. Все расспросит, разузнает. Это не то что из аула то одному, то другому командиру письма писать. На письмо можно ответить, можно и не ответить. А там, на фронте, все рядом: когда прямо в глаза спросишь – и ответ другой. И тот генерал, до которого старик дошел, тоже, наверное, без помощи не оставит…
Пока куштиряковцы ломали голову, от старика пришло письмо. «Народ плюнет – озеро будет» – так начиналось обращенное не столько к семье, сколько ко всему аулу письмо. Действительно, слушать его сбежалась чуть не половина Куштиряка. Письмо было написано арабскими буквами, и, покуда бегали за старухой Мастурой, о нем узнали все.
«Дорогая семья, дети мои и почтенные односельчане от мала до велика, всем вам посылаю горячий фронтовой привет, – писал старик. – Народ плюнет – озеро будет. Подумал я, что и от меня будет какая-никакая польза, и пришел к решению остаться здесь, за что не обессудьте.
Командиры вначале и слушать не хотели. «Мы врага, дед, и без твоей помощи гоним. Езжай домой, хлеб расти, сиротам помогай, дома тоже людей не хватает» – так, намеком, пристыдить вроде хотели, от тяжелой, мол, работы сбежал. Сами знаете, работа в колхозе не из легких, вместе все пережили. Но Салях от работы никогда не бегал, это тоже, наверное, известно. Дело тут в другом, дорогие мои односельчане, которые слушают сейчас мое письмо. На фронт уехать я задумал давно, только случая не было. Старый конь услышит шум скачек – покой теряет. А я, вам известно, в гражданскую с Буденным всю Россию прошел. Душа не выдержала. К тому же в части, куда мы подарки привезли, за конями ухода нет. Кое-какой уход, конечно, есть, но разве она лошадиный язык понимает, молодежь эта…»
Такие письма, как это, в ауле уважали. Длинное, вдоволь начитаешься, вдоволь наслушаешься: обо всем, о солдатской жизни, о фронтовом быте, о разных случаях рассказано подробно. Название сел, фамилии командиров помладше тоже попадаются. И хоть бы слово вычеркнули. Старик даже о скором наступлении, о том, какое оно будет большое, порассуждал.
Были там и слова, которые, как показалось Алтынсес, старик написал именно ей: «Немного осталось, и наши батыры, что четыре года проливали кровь в боях с проклятым врагом, вернутся с победой домой. Этот день близок. Не подкачайте и вы. Будьте стойки, терпеливы». Про Хайбуллу старик пока ничего не написал. Но Алтынсес радостно повторяла про себя: «Этот день близок. Этот день близок…» Так написал не какой-нибудь мальчишка-новобранец, а жизнь проживший, всему цену знающий, и своему слову тоже, старый солдат. Каждое слово – правда. Пусть нет вестей от Хайбуллы, только бы война кончилась, и он найдется. А насчет терпения – у Алтынсес его достаточно, у людей занимать не будет.
Скоро пришло еще одно письмо – написанное по-русски. Это был ответ на послание Кадрии. Солдат по имени Сергей писал: «Дорогая Кадрия, подарок я твой получил, большое спасибо. Если ты написала серьезно, без шутки, я хочу переписываться с тобой. Скоро и война кончится, если позволишь, я приеду к тебе в аул, потому что у меня никого нет». В письмо была вложена и фотокарточка.
– Видала, каких парней может подцепить твоя подружка? – сказала Кадрия, весело закружив Алтынсес. Села, долго и тщательно изучала фотографию, потом приуныла. – Не знаю, что и делать. Очень уж симпатичный парень, и скромный, видать. Ладно, если поймет… – она не договорила. – Или уж не стоит мне отвечать?
– По-моему, надо сделать так… – подумав, начала было Алтынсес, но Кадрия перебила ее:
– Ладно, ладно, и спросить нельзя, тут же с советом лезут! Завтра же в район пойду, пусть Вера еще письмо напишет. Так и так, скажу, на предложение согласна, будем переписываться. Если не передумаешь – милости просим, приезжай. А чего бояться? Пусть приедет, посмотрит. Понравлюсь – так… понравлюсь. А нет – на шее гирей не повисну.
– Как же вы с ним разговаривать будете? – улыбнулась Алтынсес. – Ты ведь тоже, вроде меня, по-русски не очень…
– Выучусь, – отмахнулась Кадрия. – Медвежонка и то какому-нибудь ремеслу выучить можно. Из-за этого, что ли, от судьбы отворачиваться?
– И то правда, – согласилась Алтынсес. – Только бы война кончилась…
Но война еще не кончилась, и беды куштиряковцев тоже еще не кончились.
В мартовский акман-токман[57] среди белого дня пропала Ханифа.
…Утром Мастура привела Ханифу к себе, напоила чаем, потом в поднимающемся буране за руку отвела обратно домой. Уходя, строго-настрого приказала из дома никуда не выходить.
– Слышала, Ханифа?
Кивнула.
– Поняла?
И опять поняла. Сейчас у Ханифы было прояснение – что скажешь, все понимала. Но была замкнута и вида людского не выносила. Потому, наверное, и Мастура, особенно не беспокоясь, оставила ее без присмотра.
Убирая со стола, старуха посмотрела в окно и вздохнула:
– Как ведь крутит, как крутит, от такого кружения и здоровая голова с ума сойдет.
Звякнуло окно от порыва ветра, старуха чуть не выронила блюдце. Словно почуяв что-то, она быстро оделась и почти на ощупь перебежала дорогу. Поднялась на крыльцо – боже милостивый! – дверь распахнута настежь. Вбежала в дом – пусто! Позвякивает от ветра посуда на полке, снега вершка на два намело.
– О аллах! – Старуха бросилась на улицу.
Задыхаясь от кашля, пробралась сквозь липкий слепящий снег, к одним соседям стукнулась, к другим – Ханифу никто не видел. Пока две-три женщины чуть не ползком обошли ближайшие дома, оповестили народ, прошло еще с полчаса.
Л буран еще только расходился. Словно решил и без того утопшие в сугробах дома завалить с крышей и на месте аула насыпать один большой сугроб.
Двое суток люди, перекликаясь в буране, искали Ханифу, всю округу исходили, под всеми плетнями, заборами, скирдами в поле, во всех хлевах, амбарах, овинах посмотрели, все колки, овражки, лощины обшарили, во все колодцы даже заглянули – Ханифы нигде не было. Будто взял ее буран, разнес на тьмы и тьмы снежинок и развеял на весь мир. Потом растаяла она со снегом, ушла в землю. И не было никогда Ханифы.
Долго потом стоял большой заколоченный дом посреди аула, наконец разобрали его и вывезли, осталась груда кирпича, быстро поросшая крапивой и коноплей. Потом сомкнулись два огорода – соседей Ханифы справа и соседей Ханифы слева, – и межа прошла там, где стоял когда-то высокий счастливый дом Муртазы и «Ханифы, потерявшейся в буран».
Не успели проводить эту беду, как небольшой Куштиряк получил сразу четыре похоронки. На фронте началось весеннее наступление, и в Карпатах погиб брат Алтынсес – Хайдар, а под Будапештом – сразу трое куштиряковских парней. И вместе с тоскливыми завываниями акман-токмана потянулись над аулом рыдания и стоны женщин.
К концу марта метели улеглись, внезапно прояснилось. По ночам еще прихватывал морозец, но днем уже гуляли теплые ветры. Звенела капель, сугробы на припеке оседали, вершины их подтаивали, темнели, а ночью их прошивало ледяное кружево.
Пришел апрель. Неделю, не шелохнувшись, висело над аулом серовато-белое небо, и вдруг обрушилось дождем пополам со снегом. На глазах сходили сугробы, шире и шире расползались черные проталины.
Были дни – ни для саней, ни для телеги. Из Куштиряка в район на совещание вызвали четырех передовых колхозниц. Пошли Сагида, Кадрия и Алтынсес. Фариза осталась дома, еще не могла отойти после смерти Хайдара. Возглавил делегацию Тахау. По обыкновению женщины шли пешком, Тахау, как лицо руководящее, – верхом, а во время совещания сидел в президиуме.
На совещании выступил с докладом недавно избранный секретарем райкома товарищ Сулейманов. Алтынсес без всякого интереса, почти не слушая, о чем он говорит, смотрела на бледное отечное лицо секретаря, потом вдруг подумала, что о нем-то, наверное, и рассказывал ей Хайбулла. Они, два земляка, тогда, в сорок третьем, вместе лежали в госпитале в Свердловске, сдружились, и Сулейманов, комиссованный вчистую, даже около недели ждал, когда выпишут Хайбуллу, чтобы вместе ехать домой.
Алтынсес, не сдержав волнения, стала быстро смотреть по сторонам, будто приглашала: вот, смотрите, человек, с которым дружил Хайбулла! Но все и без того во все глаза смотрели на Сулейманова.
– Да, дорогие товарищи, дела неважные, – говорил, заканчивая свой доклад, Сулейманов. – Семена не вывезены, подвод нет, сеялок нет, лошадей тоже нет… В общем, десять у меня пальцев, начну загибать, все десять загнуть придется – нет, нет и нет. Но сеять-то надо. Посевная, товарищи, – та же военная кампания. Мы должны напрячь все силы и победить. Покуда мы свой долг исполняли достойно и теперь задачу, поставленную перед нами партией и товарищем Сталиным, тоже выполним с честью. – Дальше он назвал имена передовых колхозников района, и к своему великому удивлению Алтынсес услышала: – Хочу особо отметить куштиряковских женщин: Кутлугаллямову Фаризу, Кильдебаеву Сагиду, Аитбаеву Малику, Фазлытдинову Кадрию. От имени родины райком партии объявляет им благодарность.
Алтынсес растерянно смотрела на Кадрию и Сагиду: не ослышалась ли? Но они точно так же посмотрели на нее. Все захлопали.
– Ну-ка, пусть встанут, народу покажутся! – крикнул какой-то мужчина.
– Верно, поглядим на них!
– Фариза-апай! Сагида! Малика! Кадрия! Придется встать, коли народ просит, – улыбнулся Сулейманов. «Смотри-ка, всех по именам запомнил!».
Кадрия ткнула подружку в бок, Сагида показала подбородком: встаем. Все три встали. Зал захлопал еще громче.
Вот так они, три молоденькие женщины, – с темными от ветра, дождя и солнца лицами, не шибко высокие ростом, одетые в лучшие свои до белых швов застиранные платья – стояли потупившись, будто виноватые в чем-то.
Даже Кадрия, которая никого не стеснялась и уже с пяти лет за словом в карман не лезла, и та глазами в пол уткнулась.
Дядя, который первым захотел на них посмотреть, с некоторым даже разочарованием протянул:
– Я думал, женщины – так женщины. Они же дети еще!
– Это золото! А золото большими кусками редко бывает, – ответили ему.
Народ весело зашумел, заведенный порядок был нарушен. Сулейманов с трудом установил тишину. Но и конец его доклада, и выступления представителей колхозов, которые один за другим со своими жалобами и планами выходили на трибуну, Алтынсес, можно сказать, и не слышала. Она все еще не пришла в себя от удивления. Ну что она такого сделала, чтобы на таком большом собрании перед всем районом поднять ее вот так, до небес? Правильно, ни от какой работы не отказывалась, сил не жалела – косила, жала, мешки с зерном чуть не в райцентр на горбу таскала и на лесоповале была. А кто не жал, не косил, мешки не таскал, бревна не катал?
Но все равно приятно. Алтынсес тут же захотелось домой – поделиться радостью, как-то сразу заскучала по матери. Как пришла похоронка на Хайдара, Фариза, быстрая, напористая, в руках все горело, – пожелтела, почернела, враз постарела. Не ест, не пьет. Может, теперь хоть немного обрадуется, подумала Алтынсес, все-таки ее, Кутлугаллямову Фаризу, перед всем районом лучшей назвали. Хотя вряд ли этим утешишь. Разве что не за себя, так, глядишь, за дочь порадуется.
Совещание закончилось только после полудня. Алтынсес поспешно вышла на крыльцо и стала дожидаться подруг. Подошел Тахау.
– Поздравляю, поздравляю, сноха-свояченица-сватья! – сказал он, протягивая руку.
– Поздравишь, когда мой конь на байге первым придет, – сказала Алтынсес и отвернулась. Бывают же люди: даже от их похвалы, как от тухлого жира, с души воротит.
Но для Тахау враждебность Алтынсес – что вот этот сучок в настиле крыльца.
– Что там байга! Сам Сулейманов, хозяин района, вон как тебя вознес. Меня бы так похвалили…
– Без того известно, какой ты молодец.
– Не забываешь, а? Зря ты зло на меня держишь. Сама знаешь, я – слуга закона. Я не своевольничаю, кого на какую работу назначить, куда послать – все по закону.
Алтынсес зажмурилась, снова шевельнулся тот комок пустоты, пополз к сердцу. Стараясь не подать виду, она сказала:
– Ну и не оправдывайся тогда, – и повернулась, чтобы пойти поторопить Кадрию с Сагидой.
– Ты, сватья, и то не забудь: райком-то на наши сводки опирается, – дружелюбно прищурив глаз, заступил он ей дорогу.
– Уйди! – она уже готова была оттолкнуть его, но кто-то взял ее сзади за локоть:
– Здравствуй, красавица! Ты ведь Аитбаева, кажется?
Алтынсес отскочила в испуге. Обернулась – это был Сулейманов. Она покраснела от смущения:
– Извините, агай…
– Прославленная ударница – и такая трусиха.
– Какая уж там ударница… – Алтынсес смутилась еще больше. – У нас в Куштиряке и получше есть…
– Ну, ну, скромница!.. – мелко, сахарно рассмеялся Тахау, внимательным глазом смотря в лицо секретарю райкома. Сулейманов тоже посмотрел на него, и Тахау тихо отошел.
– Да, куштиряковцы не подвели, – улыбнулся Сулейманов. – Я ведь что хотел спросить у тебя, красавица. Ты случайно Хайбулле Аитбаеву не родственница?
– Жена, – вспыхнула от радости Алтынсес.
– Как жена? – удивился Сулейманов. – Ведь он… неженатый был.
– Был, – улыбнулась Алтынсес, – да женился. Женатый стал.
– Вот ка-ак! – расплылся секретарь. – Поздравляю! Что же он так, обещал с фронта написать, а сам ни… – Он осекся и испуганно посмотрел на Алтынсес, но, увидев, что она с той же улыбкой в глазах смотрит на него, докончил – ни одного письма не написал.
– Я сама только одно получила.
– Только одно? С тех пор?
– Да, как уехал в июле позапрошлого года, прислал одно письмо и пропал, – Алтынсес уже не улыбалась.
– Как – пропал?
– Он, Сулейманов-агай, «без вести пропал». Куда я только не писала! Отовсюду: пропал без вести – и весь ответ. Как это – вот так взял и пропал человек?
Сулейманов прикусил губу. Быстрая тень тревоги и какого-то сомнения пробежала по лицу. Он помолчал, вздохнул:
– Эх, Малика, на войне чего только не бывает! Но ты не отчаивайся, надежды не теряй! Вот увидишь, возьмет и объявится негаданно-нежданно… Пособие хоть получаешь?
– Откуда? Сказал тут один: «Пропавшему без вести солдату веры нет», и свекровь сама хлопотать не стала и мне запретила. Как люди живут, так и мы, говорит, проживем. Да что там пособие! Хоть бы весточку, что жив!
– Да, да… – Алтынсес увидела вдруг, какое у него усталое, болезненное лицо. – Вот что, Малика, я на днях в Куштиряк заеду, поговорим, посоветуемся. А до тех пор, может, здесь что разузнаю насчет пособия. Ну, до свидания!
Алтынсес не заметила перемены в его настроении, была благодарна за слова: «Надежды не теряй. Возьмет и объявится негаданно-нежданно». Она так задумалась, что не сразу заметила стоящих рядом Кадрию и Сагиду.
– Ты как девица, которая с парнем во сне целовалась, – проснулась, а очнуться никак не можешь. Подружка, тебе говорю!
– А парень-то какой! – сказал, подойдя, Тахау. – Тебе бы так: лицом к лицу с самим секретарем райкома целых полчаса беседовать – тоже не сразу бы очнулась!
– Да ну? Неужто правда, подружка? Ты посмотри на эту тихоню, мы там с яктыкульцами сплетнями по мелочи торгуем, а она… Ну, что Сулейманов говорит? Красавица, говорит, голос серебряный, волос золотой? Почву небось прощупывает?
– Совсем спятила! – набросилась на нее Сагида. – Бессовестная! Голодной курице просо снится. Он же секретарь райкома!
– А что, у секретаря райкома души нет? Эх, обидно! Прошел давеча мимо, хоть бы слово сказал. Нет, ее искал! Ну что за подружка, всех парней у меня отбила, и этого уже успела! Ну, что он еще сказал? – снова затормошила Алтынсес Кадрия.
– Так, про посевную, про жизнь, – сказала Алтынсес.
Тахау и тут без слова не остался:
– Про посевную не знаю, но оба чуть не всплакнули.
– А тебя кто спрашивает? Ходишь, бабьи толки слушаешь. О аллах всемогущий, и этого ты создал мужчиной?
Тахау было встопорщился, но, поняв, что сейчас все внимание Кадрии перейдет на него, а этого при таком стечении народа ему вовсе не хотелось, укоризненно крякнул и пошел к мужикам. Они, кто однорукий, кто с костылем, сидели и курили неподалеку.
– Может, о Хайбулле слово зашло? – спросила Са-гида.
– Зашло… Надежды, говорит, не теряй, глядишь – и объявится. Утешал.
– Эх, кто бы меня утешил! Я, когда по налогам работала, а он уполномоченным был, несколько раз с ним сама заговаривала, нет, непонятливый какой-то.
– Кадрия! – Сагида была возмущена до глубины души. – У тебя что, и капли стыда не осталось? Всех на короткий аршин меряешь! А Сергея своего куда денешь?
Но Кадрия только посмеивалась:
– Хватит перстень во рту держать! Кривой верно говорит, не только о посевной толковали. Свидания не назначил?
– Тьфу, бесстыжая!
Алтынсес, занятая своими мыслями, продолжала:
– Вот так и сказал: «Надежды не теряй. Увидишь, вернется негаданно-нежданно». Да… как узнал, что пособие не получаем, рассердился вроде.
Кадрия вмиг посерьезнела, схватила ее за локоть:
– Слушай, подружка, он что-то знает! Потому так и допытывается. Кому же тогда и знать, если не секретарю райкома! Эх, не я была, уж я бы все вызнала!
– Постеснялась я.
– Нашла чего стесняться! Запомни мои слова: скоро что-нибудь да узнаем. Точно! Сердце чует.
– Дай-то бог! – вздохнула Сагида.
Права Кадрия, надо было и самой порасспросить. Алтынсес расстроилась чуть не до слез, потом стала успокаивать себя: сказал же, на днях заедет в Куштиряк. Вот тогда она его обо всем расспросит. Настроение снова поднялось.
И у всех троих было легко на душе. Они шли по краю раскисшей дороги и говорили о том, что скоро война кончится, вернутся домой мужчины, и измученные непосильной работой, голодом, нуждой, а более того – тоской-ожиданием, слезами, столько раз со стоном вздыхавшие женщины наконец-то вздохнут еще раз – с облегчением.
– Эх, уж я знаю, как заживу! – Сагида расстегнула телогрейку и, раскинув руки, потянулась. – Забуду обо всех заботах, ткнусь мужу под крыло и понежусь годика два. – И сказала, чего от праведной Сагиды услышать не ожидали: – Устала, забывать начала, что женщина я…
– Твой Самирхан раньше всех вернется, вот увидишь. Только в госпиталь попал, теперь, наверное, уже на фронт не пошлют.
– Ох, Кадрия, и не знаю, вспомню – от страха холодею. Шутка ли – третье ранение! И даже куда ранило, не написал. Как терпит, бедный! Бывало, палец занозит, чуть не плачет. Только бы не ополовинила его эта война!
– Не горюй, и другой половины хватит. Еще вспомнишь, что ты женщина, – засмеялась Кадрия.







