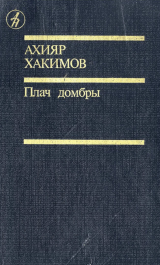
Текст книги "Плач домбры"
Автор книги: Ахияр Хакимов
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 39 (всего у книги 41 страниц)
Юламан купил его года четыре назад. Приехал как-то фотокорреспондент из «Красного плуга», снял его дома, с гармошкой в руках – «почетный механизатор в кругу семьи». После съемок немного того, согрелись, корреспондент и говорит: «Ты лучше пианино купи, я тебя за пианино сниму. А что гармошка? Посмотрят и скажут: «Выпил – вот и с гармошкой». А про пианино, брат, так не скажут». Юламан тогда хоть и промолчал, но обиделся – и за гармошку, и за себя. Однако в словах корреспондента была своя правда. Юламан понял, что пусто без пианино в доме. Нельзя, чтобы у такого почетного механизатора – и не было пианино. Той же осенью купил. По правде говоря, расчет был на дочку, но та к пианино и близко не подходит.
Галима сняла длинную вышитую салфетку, на которой голубь передавал в клюве голубке сердце, и, откинув крышку, села на стул. Играла она не очень бойко, да и пальчики маловаты, но Юламану, который, не довольствуясь одним чаем, выходил раза два на кухню и там в честь гостьи опрокинул пару стопок, хватило и этого. Он шепнул на ухо жене:
– Наша давит! – и со слезами умиления огляделся кругом.
Молодец Юламан, хорошо живет! Жена хозяйственная, сын умница, своего счастья не проглядел, и сноха не сноха будет – золото. Скота-живности полон двор, под навесом «Москвич» стоит, дом – полная чаша, и мало того, что пианино есть, на нем даже играют.
И Бибисара, то ли радуясь, то ли печалясь, уголком платка вытерла глаза.
После такого вечера автору, кажется, и делать больше нечего. Всем известно, кончились на пути героев беды и преграды, можно дальше не читать. Это лишь разлуки и ссоры в каждом случае разные, а женятся везде одинаково. Как к венцу – так и книга к концу. Отсюда и всякие писательские хитрости и уловки – потому они стараются победу героя, торжество справедливости отодвинуть подальше, на самые последние страницы. Это из-за корысти и бессердечия автора парень с девушкой, как в сказках «Тысячи и одной ночи», должны по мосту, что волоса тоньше и сабли острей, пройти над преисподней. Лишь тогда зло будет повержено, а добро восторжествует. Но ненадолго. Им предстоит сразиться в других книгах. Ибо: не будь в мире зла, не было бы и добра.
Есть в литературе соблазнительная ситуация, от которой у автора глаза голодным блеском загораются. Это когда солидный мужчина, всеми уважаемый, семейный, вдруг влюбляется в молоденькую девушку. Ах, какие возможности дает эта ситуация, каких событий можно здесь накрутить! Возьмешь такую книгу в руки – еда не еда, сон не сон, оторваться нельзя. Мужчина любит, девушка любит, страсти полыхают, а соединиться влюбленные – не могут. Весь мир против них. Наконец под воздействием общественности отец семейства, присмирев, возвращается домой, к нелюбимой, а может, и к любимой (очень уж давно это было) жене, плачет, раскаивается, исповедуется, зарекается. А девушка? Она, как волшебный сон, тает, забывается, исчезает. Впрочем, почему «исчезает»? В другую книгу переходит!.. К сожалению, не то что в Куштиряке – но и во всей Башкирии, считает друг-критик, такого случиться не может. Эх, если бы случилось, знал бы автор, с какой стороны взяться и как описать!
Ладно, по одежке протягивай ножки, по возможностям и праздник. Опишем, что есть, с нас и хватит. Порадуемся, что Самат с Галимой живы-здоровы, одолели страшные препятствия на своем пути и достигли желанной цели. И ничего больше им пока не нужно. Пусть будут счастливы!
Нельзя, однако, забывать и про Гату. Теперь, когда они с Саматом пожали друг другу руки, майдан-ристалище и вовсе опустел, ни одного серьезного соперника не осталось. Теперь Гате предстоит самая серьезная схватка – с сердцем девушки. Пожелаем удачи и Гате.
10
Кутлыбаев любит по утрами ходить на работу пешком. Дороги между Яктыкулем и Куштиряком, если хорошо шагать, и на час не будет. Встанет председатель с проблеском зари, прямо на ногах попьет чаю, скажет: «К обеду не жди, мама, где-нибудь перекушу», – и выйдет в путь.
Дождь ли льет, мороз ли трещит, буран ли такой, что глаз не разлепишь, он ежедневного распорядка не меняет, лишь бы какого-нибудь неотложного дела не случилось. Летом пешком идет, зимой иной раз на лыжах.
Скажет ему Исмагилов: «Хочешь, чтобы и мы пешком ходили? Смотрите, дескать, председатель у вас какой, бензин экономит. А другие руководители – белая кость, на полкилометра машину гоняют». Кутлыбаев смеется: «Льва ноги кормят. Председателю крепкие ноги нужны. Это же утренняя зарядка!» Его Арсланом зовут – львом, значит, – на это намекает.
На самом же деле тянет его каждое утро в дорогу красота рассветного часа, когда земля просыпается от сна. И еще – возможность подумать в одиночестве.
В ясные дни край горизонта еле заметно сереет, потом переходит в розовато-желтый цвет, и вдруг яркий, словно полыхающее пламя, свет вычерчивает черные гребни далеких гор.
Зря автор сетует на скудость природы казаякских берегов. Глазами Кутлыбаева надо смотреть на эту землю! Летним утром, только выйдешь с яктыкульской улицы, по правую руку выступают из убегающего тумана край широкого тугая, клочья мелколесья. Чуть подальше, на изгибе Казаяка, прочерчиваются белые скалы, красноватые холмы. Птицы щебечут в кустах, доносятся крики петухов – отсюда слышны оба хора – и яктыкульский, и куштирякский. И вот, подсушенный солнцем, исчезает туман, и, насколько видит глаз, до самого горизонта раскинулись желтеющие поля, ветерок разносит по широкой долине запах нивы.
У зимы своя прелесть. Оттого, видно, что все бело, мир становится еще шире, сколько ни шагай, дорогам конца, полям края не будет. Вдыхая свежий с морозцем воздух, оглядывая окрестности, Кутлыбаев думает об этой земле, 6 ее людях, эти думы переходят на каждодневные заботы, на неотложные дела. Шаги убыстряются, его охватывает нетерпение. И к тому времени, когда председатель входит в правление, оказывается, что в уме он по всему своему большому хозяйству, по всем участкам, по всем неотложным делам уже прошел, людей, с которыми нужно встретиться, поручения, которые должен дать, взял на заметку.
Привычку встречать рассвет на ногах он усвоил в армии. Служил на заставе, на южной границе Казахстана, там и научился чутко спать, все замечать и каждое дело исполнять точно, доводить до конца.
И еще, привез он оттуда тайну. Уже сколько лет прошло, как вернулся он из армии, но часто вспоминает Арслан потрясшее его тогда языческое видение, чудо, какое бывает только в сказках.
Сон это, явь? Вокруг готовые рухнуть на тебя скалы, страшные пропасти, ущелья, дикая красота природы, безмолвная песня. Тянь-Шань… Прочертится рассвет, и светлеет тусклое небо, все ясней выступают гряды гор, белые вершины отливают позолотой. Но взгляд сначала проходит по ближним зеленым склонам и потом лишь поднимается далеко, высоко, к покрытым вечными снегами вершинам. Вдруг какая-то сила отдергивает занавес красноватых облаков, и сияющий хрустальный пик словно взлетает в небо.
Когда вершина впервые сверкнула ему, Арслан застыл на месте, ни шагнуть, ни слова сказать не может. Тело горы, высокого выше, белого белей, рассыпая лучи, летит в розоватом небе. То одна ее грань вспыхнет, то другая. Как будто обступившим ее горам, которые сбежались к ней, к подолу ее приткнулись., как малым своим детям улыбается, милосердием, своим одаряет.
Одна минута прошла, пять минут? Этого Арслан яе помнит. Наконец добрая могучая вершина вспыхнула в последний раз и погасла. И, словно оберегая от чужого глаза, набежали, обложили ее тучи.
За три года службы много раз видел Арслан эту вершину – ив часы восхода, и днем, и в печальный миг затухающей вечерней зари, но так и не мог смотреть на нее спокойно. Непонятную тревогу, тайну какую-то хранит она, о чем-то рассказать хочет, предупредить.
Арслан узнал, что гора эта с трехгранной хрустальной вершиной называется Хан-Тенгри, в казахских и уйгурских аулах, приткнувшихся к ее подножию, рассказывают о ней сотни легенд, былей, притч, и в них говорится о какой-то тайне, которую уже столько веков не могут разгадать люди. Значит, не только Арслана, парня из далекой башкирской степи, – чувство это охватывало и их.
Вот и сейчас, глянет Арслан на свою приземистую Разбойничью гору и вспомнит ту холодную волшебную вершину. Семь тысяч километров между этими горами и семь лет.
Да, семь лет прошло, как вернулся Кутлыбаев из армии. Тем же летом поехал в Уфу и поступил в сельскохозяйственный институт на заочное отделение. Очень ему хотелось на дневное, но болела мать. Арслан – единственный сын, тринадцать было ему, когда умер отец.
Но потом Арслан не жалел, что пришлось и работать, и учиться. Вместо одного сразу два института закончил, считает он. Действительно, работал прицепщиком-машинистом, каждое лето был на комбайне, сначала помощником, потом и комбайнером. Когда закончил третий курс, его поставили заведующим агротехнической лабораторией, но в лаборатории не понравилось – узко там было ему, хотелось в поле. Закончив институт, он стал агрономом, затем – главным агрономом. В Куштиряке, как и везде, какая лошадь тянет, на ту больше и кладут. Молодой коммунист Кутлыбаев, энергичный, с крепким упрямым характером, был выбран председателем колхоза. Вот так и семь лет прошло. День и ночь в работе. Потому, наверное, и не женился до сих пор. Сначала девушку по сердцу не встретил, потом встретил, да…
Смотри-ка, уж совсем рассвело! К тому времени, когда Кутлыбаев войдет в правление, и солнце взойдет. Проверит председатель выполнение данных с вечера нарядов и поедет в Степановну, оттуда в Ерекле, вечером, как договорились, с директором совхоза встретится. Вот так, работа к работе, забота к заботе, и день пройдет. Солнце-то давно уже на покой уйдет, а ему еще мотаться да мотаться. Хорошо, если он к тому времени вернется, когда Яктыкуль начнет зевать, потягиваться да укладываться спать. А то и до полуночи домой не доберется. Во всем ауле только в окнах председательского дома свет не погаснет, мать будет дожидаться его. Когда он нехотя поест, мать тоже присядет к столу и, издалека заводя, спросит: «Какие новости, сынок?» Тихо, не перебивая, выслушает хозяйственные новости сына и еще спросит: «А с другой стороны?» У сына на это уже отвечать нечего, «с другой стороны» даже маленькой, коротенькой новости нет. В тамошней путанице не то что матери рассказывать – и сам не разберется.
Это все будет вечером. А пока Кутлыбаев думает о том, что уже декабрь наступает, а снегу совсем мало. Или о ремонте тракторов вспомнит. Стоит ремонт, опять запчастей нет. Или опять на Разбойничью гору взглянет, и встанет перед глазами Хан-Тенгри. Есть такие стихи: «Всю жизнь на гору поднимался, всю жизнь – стремился я к тебе». Это про него, про Арслана. Мечта его, надежда, словно сверкающая на восходе солнца вершина, то приветлива, зовет к себе, улыбается, то вдруг нахмурится, уйдет в облака. Но всегда одинаково далека.
Вчера Исмагилов, словно зная его тайну, связанную с той величественной горой, сказал с обычной своей усмешкой: «Эх, Арслан, Арслан, если гора не идет к Магомету, Магомет сам идет к горе. Будь ты джигитом, не бойся!» Пошел бы Арслан к «горе», но та и близко не подпускает.
Так, задумавшись, он и вошел в Куштиряк. Очнулся от приветствия вышедшего навстречу Зарифа Проворного:
– Здравствуй, пирсидатил!
– А… Здравствуй, Зариф-агай.
– Тебя вот поджидаю. Дело к тебе есть, браток. В прежние времена, когда я председателем был, с покойным отцом твоим мы дружно жили, друг другу всегда помогали, берегли, как говорится, защищали… Арслан – наш паренек, говорю, поймет мою нужду. Я сам, когда председателем был…
Придется, видно, Кутлыбаеву остановиться, выслушать его просьбу.
– Чем тут стоять, надо было в правление идти, – проворчал он недовольно.
Ну что ты этому Зарифу скажешь? Пятнадцать лет уже, как не председатель, а все былой гордости забыть не может. На тяжелую, дескать, работу не гожусь – все время возле правления околачивается. Старается если не в руководстве, то в активе считаться.
– Там ведь тебя застать надо, а застал – пробиться. Народу – что мух в жаркий день. Каждому председатель нужен, никто заместителем или Фасхи не довольствуется. Все в твоих руках, сам судишь, сам расправляешься. Так и надо, я и сам…
В словах Проворного, простодушных ли, с насмешкой ли, была своя кислая правда, и Кутлыбаев, поморщившись, перебил его:
– Тороплюсь, агай, выкладывай свою просьбу, – а про себя подумал: «Нет, так не годится, кое-какие дела надо закрепить за заместителем. И обязанности других определить точней».
– И не то чтобы дело… – Зариф огляделся по сторонам и понизил голос. – Пару овечек надо бы. Я слышал, какие повредились, покалечились, продаются…
– Пару овечек? А что с ними собираешься делать?
– Одну! Да-да, одну овечку! Свадебные хлопоты вот-вот начнутся. Добро пожаловать, дорогим гостем будешь, во главе стола сядешь.
– Гату, выходит, женишь? Смотри-ка, вместе ездим, и ни звука.
– Наш Гата не особенно разговорчивый. Он и нам про свадьбу нс сам сказал. Но шила в мешке не утаишь. Стой, сказал я себе, нельзя беспечным быть, коли такое дело – надо готовиться заранее. Дело ответственное, как бы перед будущим сватом не оплошать. Молчун-то широко замахивается. А невеста, и говорить нечего, самая фартовая. Коли свадьба, так пусть уж свадьба, чтобы с шумом, не отставать же от них…
– Ладно, поговорю, что актив скажет, – снова поморщившись на его скороговорку, перебил Кутлыбаев. – Вечером в правление зайди. Слышишь, в правление! На улице меня не лови. – На этом бы и разговор закончить, но он приличия ради спросил: – Ас кем породниться собрались?
– И-хи-и! Весь аул об этом говорит, только он, оказывается, ходит и ничего не знает! Так ведь дочь Фаткуллы собираемся взять, Танхылыу!
– Ых-хым! – сказал Арслан.
– Ну, Гата! День-ночь с тобой на машине ездит и ни слова не сказал, а? Мой сын, на меня похож. В груди джигита оседланный-взнузданный конь лежит, говорили древние. Из нас попусту и слова не вытянешь…
– Вот, оказывается, как… – И Кутлыбаев, не дослушав всех радостных новостей, которые сыпал перед ним Проворный, зашагал дальше. Пройдя немного, остановился, сказал: «Ых!» – шага через три снова остановился, сказал: «Хым!» – потом огляделся по сторонам и нашел себя посреди Куштиряка.
В правлении он вошел в свой кабинет, повернул ключ в двери и, хлопнув себя ладонью по лбу, расхохотался. Чего же больше было в этом смехе – веселья или растерянности? Но думать об этом уже некогда. Беспокойный день председателя начался.
Он поговорил по тридцатиклавишному телефону с заведующими, с бригадирами и собирался уже выйти в путь, как осторожно открылась дверь и показалась голова Юламана Нашадавит.
– Можно ли? – сказал Юламан и, подойдя к столу, уселся в кресло. – Жив-здоров ли?
Человек, который в другое время уже с порога зычно, с хохотком начинал требовать, спорить, доказывать, сейчас заговаривать что-то не спешил. Снял богатую меховую шапку, положил на стол, достал из кармана маленькую железную расческу и причесал рыжие усы. Видать, намеревается поговорить обстоятельно, о чем-то попросить.
– Слушаю, – с тайным беспокойством сказал Кутлыбаев: такой необычный был Юламан, не поймешь, с чем пришел.
– Вот и послушай. Если ты, хозяин, слушать не будешь, к кому же мы, простые механизаторы, со своими невзгодами пойдем? Таки допекли ведь… – Юламан через плечо ткнул большим пальцем на дверь. – Ты это… Скажи Фатхутдину, пусть из зарплаты не высчитывает. За перепаханные тогда два-три гектара весь расход на меня начислил.
– Не два-три, агай, а все четырнадцать.
– Ну вот! Уже и ты по-ихнему заговорил! Ну, где теперь голову преклонить? Не пойму…
– Тут и понимать нечего. Проверяла комиссия, а правление, опираясь на ее выводы, вынесло решение.
– Эх, живьем режешь! При нашем-то достатке, когда по двадцать пять центнеров с гектара берем, и так мелочиться! Если бы не свадебные хлопоты, я бы и не охнул… – начал было Юламан плаксивым голосом, но тут же высоко вскинул голову и пригладил усы. Поднялся, уперся кулаком в бок. Ну вот, прежний, знакомый Юламан Нашадавит; у председателя тоже с души отлегло. – Не выйдет, говоришь, а? Смотри, чтоб потом каяться не пришлось, товарищ Кутлыбаев! Сейчас пойду и парторгу то же самое скажу. Наша давит! – И он с топотом вышел. Но тут же вернулся, забрал шапку со стола и снова вышел.
В чем ему предстояло каяться, Кутлыбаев так и не понял. Но тут и гадать не о чем, обычные юламановские угрозы. Только словам «Если бы не свадебные хлопоты» – заставили председателя задуматься на минуту. Значит, и Самат женится. Что же, естественно, прошла осень, наступила зима. Пора свадеб…
Побывав везде, где собирался быть, завершив все дела, Кутлыбаев решил съездить на куштирякскую ферму. Он ссадил Гату возле правления и повернул уазик на Казаяк.
Днем на людях, в делах он не замечал, как летит время. О своих делах побеспокоиться, о том подумать, как распутать запутавшийся узел, так и недосуг. А наступит вечер, остается один – мается, не знает, куда себя девать. Вот и сегодня. Мало того что с утра Зариф Проворный и Юламан Нашадавит со свадебными хлопотами к нему заявились, приехал в Степановку – там сразу в двух домах свадьбу играют. Шум, радость, суматоха. Признаться, от такого изобилия свадеб личное самочувствие председателя несколько испортилось. Может, потому он и на ферму поехал, что успокоения искал.
На ферме шла вечерняя дойка. Зная, что девушки не любят, когда в это время заходят посторонние: коровы, мол, стесняются, – председатель, не заглядывая в коровник, пошел прямо в комнату отдыха.
Там, Кутлыбаев уселся на мягкий диван, просмотрел лежавшие на столе газеты. Уютно, тепло, долгая мелодия тянется из радиоприемника. Натрясся председатель на ухабистых дорогах, за делами не замечал усталости, а сейчас, в тепле, все тело обессилело и разомлело. И плавная музыка уводит от всех забот, к покою тянет.
И вправду, лежит он, раскинув руки, в высокой траве, взгляд в высоком голубом небе. В воздухе чуть слышно звенит мелодия курая, на краю горизонта клубятся белые облака. Все ближе и ближе подходят они, уже полнеба закрыли, но вдруг распахнулись, и, сверкнув, выступила перед ним хрустальная вершина, залила все вокруг ярким светом: каждая травинка блестит, словно выкованная из золота. Но вот уже уходит она, удаляется, и меркнут травы, Арслан хочет удержать ее, остановить…
Как распахнулась дверь, как вбежали девушки, как, шикая друг на друга, тихонько вышли, он не слышал. Когда он вздрогнул и проснулся – радио выключено, на вешалке вместо пальто белые халаты висят, а перед ним лист бумаги лежит. Кутлыбаев раскрыл сложенный вдвое лист. Глянул – и расхохотался. Крупными печатными буквами было написано на нем: «Засоня».
Будто не одно-единственное ехидное слово было на бумаге, а целый волшебный заговор – всю накипь смыло с души. Кутлыбаев вскочил и, подпрыгивая от радости, выбежал на улицу. «Он это что?» – удивится читатель. Действительно, приехал, дела своего не сделал, заснул на всеобщее обозрение – есть чему радоваться. Еще и прозвище получил: «Засоня». Он же, словно дали ему в руки краюшку теплого белого калача, намазанную густыми сливками (любимая еда автора), обрадовался, распрыгался, как мальчишка.
Председатель большого колхоза, с высшим образованием, спокойный, уравновешенный человек. Признаться, автор и сам полагал, что выдержки у Кутлыбаева должно было быть больше. Во всяком случае, такого за ним прежде не замечалось. Не иначе как влияние куштирякского Зульпикея коснулось и его. Вы только посмотрите – не видя дороги, срезая углы, несется он к правлению, а куштирякские бабы глядят ему вслед и качают головой: «И этот, кажется… соскочил».
Теперь, когда мы стали очевидцами того, как в яктыкульском парне вдруг взыграл куштирякский бес, можно поторопить дальнейшие события. Возможно, попутно и выясним, отчего Кутлыбаев вдруг запрыгал.
* * *
Посему автор считает необходимым вернуться на несколько дней назад и побывать на собрании, которое прошло на ферме.
В тот вечер, когда Гата и Самат выяснили между собой отношения, Исмагилов тоже решил, как сказал бы друг-критик, внести ясность в отношении Танхылйу. Разумеется, к такому ответственному делу он подготовился заранее. Конечно, самолюбие капризной девчонки придется пощадить, но не в ущерб колхозным интересам. Парторг справился в совхозе о челябинских коровах: оказалось, что «бастовали» они только поначалу, теперь же, когда освоились, к чужим рукам привыкли, – только доить поспевай.
Значит, условие Танхылыу можно будет выполнить. Пока девчонка еще чего-нибудь нового не выдумала, надо поспешить, вернуть ее на ферму.
По правде говоря, Танхылыу все это и самой надоело. Уже больше месяца, как она, разобидевшись, ушла с фермы. Пусто было на душе без работы, оттого, что, будто сговорившись с Зульпикеем, мутила воду, морочила людям голову. И Гата до сих пор не теряет надежды, и отец его, Зариф Проворный, показал свое проворство, уже весь аул оповестил, о свадьбе хлопочет. Ладно, еще Самат джигитом оказался, не то попрыгали бы они на горячей сковородке все трое – Бибисара, Юламан и сынок их. Но вся эта путаница, показавшаяся поначалу увлекательной игрой, ей уже приелась.
Самое неприятное, о чем и вспоминать не хочется, – ссора с подругами. Раз подумаешь – правда на ее, Танхылыу, стороне, в другой подумаешь – на их тоже немножечко… правды есть. Гляди, как дружно поднялись против нее! Будто не она, Танхылыу, два года назад привела их на ферму! Теперь освоились – сами себе голова. Ну, не обидно ли? Даже Диляфруз и та: дескать, при тех условиях, какие создали ей, Танхылыу, любая будет в передовых. Ложись и помирай! Что она, сама себе условия выпрашивала? И с этими челябинскими коровами. Сначала дали, потом – нет, дескать, неправильно дали – обратно забрали. А все безволие председателя. Мямля!..
Ни минуты бы не думала, собралась и уехала, хоть в город, хоть в совхоз. Но… сначала решимости не хватило, а теперь и подавно не хватит. В тот год, когда школу закончила, сколько отец уговаривал: уезжай в город, ругал даже: «О будущем, – говорил, – совсем не думаешь…» А теперь даже шагнуть за околицу не даст.
Танхылыу пока и сама никуда не уедет. Она еще должна показать им, что не белоручка, что и на большее способна. Тем, которые сомневаются. И самой! Иначе душа не успокоится. А еще Танхылыу поняла… поняла, что жить вдалеке от Куштиряка уже не сможет. От Куштиряка и от…
Первая половина собрания прошла как нужно. Алтынгужин с колхозным механиком запустили навозный транспортер и дали пояснения, как им пользоваться. Хитроумное это сооружение устанавливали десять дней и отладить успели только к этому вечеру. У доярок от радости макушка неба коснулась. А уж сколько благодарностей на Кутлыбаева и остальное колхозное начальство излилось!
Каждая рвалась сама запустить транспортер в работу. Запустят и смотрят в восторге – словно проточная вода, вычищая под коровами, скользит лента.
Для обсуждения второго вопроса все, кроме Алтынгужина и механика, перешли в комнату отдыха.
Танхылыу, будто поддразнить хотела, оделась как на праздник, во все самое лучшее. Поглядеть, так прямо гость издалека или представитель из района.
Может, оттого и девушки, которые только что смеялись, шумно радовались, как вошли в комнату, сразу притихли и, поджав губы, исподтишка посматривают на Танхылыу: а ты, дескать, что на ферме в таких нарядах делаешь? Диляфруз с этого и начала, не посмотрела даже, что подружка, сказала прямо в глаза:
– Вот, Танхылыу, ты целый месяц на работе не была, отдыхала, в красивых нарядах ходила, а на ферме полный порядок, и надои не упали. Но твоему возвращению мы рады. Так ведь, девушки? Только говорим заранее: прежних поблажек не жди. Что нам – то и тебе. Но с одной твоей просьбой согласны, бери челябинских коров. Ладно, попробуй, все равно их, кажется, продавать собираются.
– И пусть не важничает, не покрикивает!
– Явилась как на гулянье!
– И чтоб, коров на нас бросив, в район не бегала.
– И пусть корма, какие получше, не требует!.. – наперебой закричали девушки.
– Комсомольская организация объявляет тебе выговор. Твое счастье – пожалели, решили на общее собрание не выносить, – сказала Диляфруз.
Исмагилов следил за Тынхылыу и про себя призывал ее к терпению, сам же вступать в разговор не торопился.
Танхылыу встала, оглядела собрание.
– Наверное, и я должна что-то сказать?
В комнате установилась тишина, было слышно, как где-то жужжит запоздалая муха (эта муха часто нашего брата выручает, не знаешь, как описать тишину – она тут как тут). Видит Исмагилов, в смятении девушка, только вида не подает, и пришел ей на помощь, стараясь снять напряжение.
– Конечно, скажи, Тынхылыу! – нарочито весело сказал он. – Ты член коллектива, имеешь все права.
– Ладно, коли так… Вы тут о правах сказали, но надо, видно, и об обязанностях побеспокоиться, Исмагилов-агай… Значит, так, на работу выхожу, прощения просить не буду. Остальное работа покажет.
На этом собрание закончилось. Не успел Исмагилов выйти, как девушки окружили Танхылыу, затеребили ее, пошел шум-гам, будто целый год не виделись и наконец встретились. Где уж тут недавние подковырки, подозрительные взгляды! Все забыто.
Едва освободившись от подруг, Танхылыу поспешила домой. Чуть не бегом забежала за занавеску, поснимала с себя праздничную одежду и уткнулась лицом в подушку. В эту бессонную ночь предстояло ей передумать думы, которых никогда прежде не думала, поплакать, над чем не плакала, жизнь свою по зернышку, черное к черному, белое к белому, перебрать. (Автор, правда, сомневается, нужно ли это, будет ли так уж переживать Танхылыу. Ведь она все по-своему сделала: прогуляла больше месяца и челябинских коров получила. Но друг-критик сказал, что без ночных раздумий нельзя. В каждой книге, если в ней есть конфликт и если этот конфликт разрешается, герой, не отрицательный – отрицательному хоть кол на голове теши, – а заблудшийся, должен всю ночь думать и маяться – если это мужчина, сигарету за сигаретой курить, если женщина, рыдать, меняя платки, – и утром встать другим человеком.)
…В хорошее время, в обеспеченной семье росла Танхылыу. Единственной, долгожданной дочкой была у отца с матерью, ни в чем отказа не знала, ни упрека, ни попрека легкого не слышала. А как мать оставила этот мир, все заботы о подрастающей девочке взяла на себя тетушка Ниса, племянницу как куклу наряжала, старалась каждое желание предупредить, мыслям и чувствам наставницей быть. О Фаткулле и говорить нечего, весь смысл жизни – Танхылыу, она для него свет в окошке.
Но это не значит, что выросла девочка ленивой бездельницей. Хоть и много ее баловали, но сидеть сложа руки Танхылыу не любила, с малых лет у матери помощницей была. Когда же без матери осталась, почти весь дом лег на ее хрупкие плечики. Родительские поблажки да потачки обычно к добру не ведут, они на самих детях и вылезают боком. Вспомним хотя бы злоключения Самата, который чуть было не стал жертвой неуемной материнской доброты. Но тут все по-другому: уверенная в себе и смышленая, Танхылыу всюду старалась быть первой, училась хорошо, в общественных делах была самой активной. Правда, и упрямством, своеволием частенько изводила родителей, а учителей ставила в тупик. Скажем, вдруг сложная для педагогов ситуация возникнет, спор среди учеников вспыхнет или внезапные раздоры начнутся, то, если разобраться, один конец ниточки кЗульпикею выведет, другой – к Танхылыу. Уже с седьмого класса одноклассницы признали ее своим вожаком, а мальчишки прозвали комиссаром. И когда колхозное начальство начало уговаривать девушек идти на ферму, они все разом повернулись к Танхылыу: а ты что скажешь?
Начало своей работы на ферме Танхылыу вспоминает как сон, запутанный и увлекательный. Только она в белом халате подошла и стала перед коровами, поднялся шум, раздались аплодисменты. А через неделю корреспондент приехал, вопросы задавал: «Как получилось, что вы стали дояркой? Наверное, вы с детства мечтали стать дояркой?» Еще через неделю в район вызвали, на совещание молодых доярок. Там ее хвалили. Понимала Танхылыу, что нет еще у нее заслуг, чтобы вот так расхваливать, но все равно приятно. Слова-то какие – «звеньевая молодежного звена» и даже «молодая передовая доярка».
Полгода не проработала, выбрали ее в правление колхоза. Коров ей дали поудоистей, корма ей доставались посытней, подефицитней, надои росли. Девушки ее славе не завидовали. Танхылыу для славы создана, считали они, всегда, везде должна быть первой. Она их вожак, а когда вожак в славе, отблеск и на них падает. К тому же, придя на ферму, девушки тоже не прогадали. Круглый год при деле, значит, и заработок не прерывается. А кто их привел сюда? Танхылыу. Где бы они сейчас были, куда разъехались, если бы не она?
Да ведь не для себя одной старалась Танхылыу! Это она каждый день ходила в правление и, входя в кабинеты, в дверь не стучала, а стучала по столу. И добилась: бросили строительную бригаду на ферму, привели коровник в порядок, сделали новые кормушки, полы перестелили. Опираясь на расчеты Алтынгужина, приблизила рацион животных к положенному уровню. И комнату отдыха обставили, и стирку халатов, полотенец в районном доме быта организовали, и доярок изредка в Кара-тау стали на концерты возить – все стараниями Танхылыу.
Нелады между девушками и Танхылыу начались весной, когда вышли на яйляу. У одной из доярок, у Зайтуны, тяжело заболела мать. Как в таких случаях заведено, за ее коровами и коровами уехавшей на совещание Танхылыу присмотрели подруги. Но на вечерней дойке оказалось, что коровы Танхылыу дали на литр молока меньше, чем обычно. Поднялся скандал! Каких только слов не услышала на следующий день бедная Зайтуна! И в работе она вялая, и безответственная, и славе подруги завидует – все вывалила Танхылыу на ее поникшую голову. Ни на случившуюся с ней беду, ни на слезы, ни на раскаяние без вины – ни на что не посмотрела.
И после этого Танхылыу несколько раз напраслиной обижала подруг. Недовольство, словно огонь под мхом, тлело и тлело, а когда начали делить челябинских коров – вспыхнуло и вырвалось пламенем…
Все от зазнайства ее, бьющего через край самолюбия. Но девчата надеялись, что это у нее пройдет. Даже когда она бросила работу, верили, что скоро Танхылыу поймет свою ошибку. Да, они верили, а Танхылыу на другое рассчитывала. «Ничего, придут, поклонятся, прощения просить будут!..» – растравливала она обиду. А у девушек своя гордость. Они тоже два года на месте не сидели. Это они поначалу, коровьего фырка испугавшись, бросят ведро и убегут поплакать. Если же полведра надоят, то еще полведра слезами наплачут. Нет, выросли девушки, выучились, в работе наловчились. Придет новенькая на ферму – уже сами ее учат. Вот о чем забыла Танхылыу.







