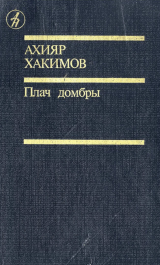
Текст книги "Плач домбры"
Автор книги: Ахияр Хакимов
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 41 страниц)
Но никаких в дороге происшествий не случилось. Хабрау переночевал в тех кочевьях, где наказал Богара, и наутро третьего дня повернул лошадь к землям Голубого Волка. Впереди по всей широкой степи виднелись большие кочевые аулы.
Только что прошла весна, и весь мир помолодел. Куда ни глянь, под сухой прошлогодней травой бегут ручьи, подсыхает, исходя паром, земля, на глазах оседают редкие островки снега. Хабрау, всем телом ощущая ласку весны, следил за птичьими стайками, с щебетом перелетавшими с места на место, за ленивым ходом облаков в высоком тусклом небе.
Посветлев лицом, он широко, всей грудью, вздохнул. Скоро он встретится со знаменитым йырау, увидеть которого мечтал уж давно, услышит его песни. Может, здесь-то он и найдет ответ своим сомнениям.
Прошлая осень была дождливой, а всю весну бесновался весенний буран акман-тукман, и Хабрау не мог никуда выехать из аула Богары. Днем – с мальчишками, учит их грамоте, а вечерами – в своих неотвязных думах. С тех пор как вернулся, он все бьется, хочет свои познания в поэтике, полученные в Самарканде, приложить к башкирским кубаирам. И ничего не получается, не может он найти такую тропку, чтобы свести их вместе.
В кубаирах ему слышится то гул бурного потока, то гром копыт несущихся табунов. Вот взять песни Йылкыбая, в них действительно, как говорил Миркасим Айдын, больше призывного клича, чем нежного зова. Они связаны с тяжкой жизнью народа, его укладом, в них чаяния страны. Нет в них, как в арабской и персидской поэзии, сетований на бренность мира, прославления вина и веселья. Йылкыбай – певец борьбы и ненависти. Оттого, может, его кубаиры и прибаутки не ложатся на бумагу. А устный стих труднее отделать, довести его до совершенства, он требует большого мастерства: хотя слова и песня сэсэна зарождаются в одиночестве, но перед слушателями каждый раз заново появляются на свет, и если не будет в их звучании силы, проникновенности, народ останется равнодушен.
Много думал об этом Хабрау. Закрывшись в юрте, целыми днями писал свои стихи по-новому, разбирал кубаиры Йылкыбая или отделывал свои. Наконец он понял, что душа его и вдохновение раздваиваются, словно шла-шла одна тропа и от развилки побежала двумя дорожками. Среди людей, в гуще народа он, подобно Йылкыбаю, будет говорить древние, идущие из старины кубаиры, а при случае и сам под удары домбры скажет новый кубаир. А наедине с собой станет, по примеру восточной поэзии, писать газели, касыды и даже большие дастаны. Не сегодня, так завтра, но они тоже найдут место в душе народа.
Два года, как Хабрау вернулся из Самарканда, он уже снова обжился на родной земле. И горести вроде бы поутихли, и к одиночеству своему привык. Душа мается, и вдохновение не дает покоя. Горе порабощенной страны, ненависть парней, взятых в Орду заложниками, горе юных цветущих девушек, угоняемых в гаремы богатых ногаев, – все в его сердце. Кажется, запоет он, и польются слова проклятия баскакам и ясачникам. Но язык словно на замке, где же ключ?
В этот раз дорога ему выпала спокойная, доехал он без всяких происшествий. Но судьба Хабрау, щедрая, на беды, скупая на добро, следовала за ним той же мерной поступью, что и его конь, не отставая ни на пядь. События, которые на всю жизнь останутся в его сердце, уже поджидали его.
Хабрау вброд пересек Сакмару, пустил коня шагом вдоль берега. Вдруг он услышал песню. Пела женщина. Чем-то встревожила его эта песня, что-то знакомое почудилось в мелодии, которую приносили порывы ветра, и, забыв, куда и зачем едет, он, словно батыр, которого заворожил курай шайтана, повернул коня в поисках того родника, откуда лилась песня. Раздвинул осторожно тальник – вот он, глазок родника! Певучая усергенская девушка, мерно водя рукой, полощет вытянувшееся по течению белье и поет, забыв обо всем на свете.
Хабрау чуть не вскрикнул от удивления – девушка пела его песню!
Песня смолкла.
– Здравствуй, красавица! – сказал джигит и спрыгнул с коня.
Девушка вздрогнула, испуганно оглянулась назад. Увидев незнакомого человека при оружии и с конем в поводу, выпустила трепещущую в струях холстину и, метнувшись от берега, застыла на месте. От страха ли, от стыда ли глаза стали круглыми, светлое лицо покраснело, как луна на восходе.
А Хабрау, удивляясь ее красоте, сказал первое, что за язык зацепилось:
– Думал, что за ранний соловей, а это девушка Голубого Волка такая певучая…
Та же, видимо, по шутливому разговору парня поняла, что никакая опасность не грозит. Одернула одежду, поправила платок.
– Я тебя не узнаю, агай, – сказала она, глядя ему прямо в глаза. – Если в наше кочевье едешь, так поезжай, с пути не сворачивай, к мужчинам ступай… Чем девушек пугать. – И подняла лежавший на берегу валек.
– Ухожу, ухожу, красавица, – засмеялся Хабрау. – Не ушел бы, да оружие твое напугало меня.
Он на коне въехал в воду, отцепил зацепившуюся за ствол ивы длинную холстину и, подавая девушке, сказал:
– Не ходи одна, еще украдет кто-нибудь.
Тонкие брови ее сердито сомкнулись над закрывающим лицо краем платка, но глаза смеялись.
Что за диво? Красота незнакомой девушки, певучий ее голос, сдержанный разговор, настороженная готовность вмиг, как чуткая косуля, сорваться с места, скрыться, а не скроется – так защитить себя… все так и стояло перед глазами. И день посветлел, и небо поднялось еще выше, и все невеселые мысли, и печаль в душе сэсэна ушли куда-то. Едет, и, как солнечный блик, бродит по лицу улыбка. А сам невольно обернется и посмотрит назад, проедет немного и опять обернется и радостным взглядом обежит ровную стену тальника. И все слушает, не послышится ли песня опять?
Нет, больше песня не слышалась, но все вошло в сердце – лицо ее, стройность, голос, взгляд в розовом свете красного тальника и светлой бегущей воды… Покачал головой Хабрау: бывают же такие красивые девушки – что крутые брови, что прямой взгляд ярких глаз, что мягкозвонкий голос, как журчание родника.
Йылкыбай встретил его радостно, как долгожданного сына, не знал, куда посадить. За легкой трапезой долго, подробно расспрашивал о делах кипчакского племени, радовался, что друзья, знакомые живы-здоровы, а тех, кто ушел в мир иной, поминал добрым словом.
Йылкыбай-йырау ростом небольшой, телом сухощав, самый обычный с виду человек. И часто поглаживает реденькую бороду, как поглаживал бы ее любой старик из кочевья Хабрау, порою и слезы навернутся на глаза. Парня даже сомнение взяло: «Может, я не к йырау, а к какому-то другому Йылкыбаю попал?»
Но тут Йылкыбай взял домбру, провел пальцами по струнам. Хабрау еще грешную свою мысль не додумал, как домбра заговорила.
И опять мелодия показалась молодому сэсэну знакомой. Так ведь… Это он, Хабрау, сочинил ее. Что же это? А может… это и не его мелодия, может, услышал когда-то, а потом вспомнил, посчитал своей и, сам того не зная, повторил мелодию йылкыбая, только чуть изменив ее? Стыд, вот стыд-то какой… И девушка пела эту песню. А он еще порадовался: вот, дескать, даже сюда дошла моя песня! Безумный!..
Лицо словно пламя лизнуло, он поник головой. А домбра звенит, домбра печалится. Но знакомую мелодию Йылкыбай ведет по-иному, больше в ней задора, больше страсти. Вся стать Йылкыбая, весь его вид, вызвавшие поначалу разочарование Хабрау, изменились до неузнаваемости. Мохнатые брови сошлись, искры мечутся в глазах, и даже плечи раздались вширь. А тело то склонится над домброй, то распрямится гордо; как быстрые птицы, летают руки, глазом не уследишь.
– Афарин, отец! – сказал он, одолев стыд, когда тот закончил играть.
– Нет, йырау, это тебе спасибо. Узнал, наверное, свою песню? Наши джигиты запомнили и к себе в кочевья привезли. Очень уж мне по душе пришлась.
– А я-то подумал…
– Я немного изменил, не обижайся…
Хабрау не знал, что и сказать, только радостно улыбнулся ему. Снова рядом сидел маленький сухонький старичок с редкой бородкой и мягкими быстрыми глазами, но Хабрау уже видел, какая в нем могучая сила.
Посидели, еще поговорили, потом старик дал ему джигита в сопровождение и сказал:
– Старики – народ многословный, утомил я тебя, ступай, сынок, прогуляйся, наше житье-бытье посмотри.
Когда Хабрау, обойдя кочевье, снова вернулся в юрту, день уже клонился к вечеру. Джигиту, который водил его по кочевью, о встрече на берегу Сакмары он и словом не обмолвился, однако, сам себе удивляясь, все время поглядывал по сторонам, не покажется ли та девушка, но нигде ее не заметил. Наперед не загадывал. Что будет, то и будет. К добру ли, к худу ли, но красивая усергенская девушка уже заронила ему в душу огненный уголек.
Возле юрты Йылкыбая в большом казане варится мясо, женщины суетятся, накрывают застолье. Сам же хозяин сидит на сложенных друг на друга кошмах в окружении четырех мужчин, беседуют о чем-то, лица у всех сумрачные.
– Иди, иди, гость, вот сюда садись. – Йылкыбай показал на место рядом с собой. Познакомил Хабрау со стариками и с главой рода Юлышем.
Джигит обошел всех, поздоровался обеими руками и сел на указанное место.
– Дела-то не складываются, сынок, званые гости гостевать отказываются.
Вопросительный взгляд Хабрау обошел всех сидящих.
– Вот глава рода расскажет, – показал хозяин на Юлыша.
– Хоть и молод ты, сэсэн, но имя твое усергенам известно, – сказал Юлыш.
– Оставь, агай! Мое сэсэнство и в своем кочевье-то…
Но Юлыш его слова пропустил мимо ушей.
– Особенно молодежь твои песни любит, считает их своими. Из почтения к имени славного Йылкыбая ты дальнюю дорогу посчитал близкой, приехал к нам, и твой приезд прибавил нам радости. Погости, пока душа не насытится, поживи с нами, посмотри усергенскую землю. А те… другие званые гости, сэсэны, как я понял, испугались. Услышав, что Иылкыбай-йырау певцов созывает, юрматинский сэсэн Акай переманил их к себе, созвал на свой айтыш. Каждому, кто придет, обещал дорогой зилян, а кто не послушается, тем пригрозил Ордой. Вот так, Хаб-рау-сэсэн. Акай тем и живет, что ногайскую посуду вылизывает, про это слышал, наверное.
Аксакалы, сидевшие до этого молча, поддержали главу рода:
– Верно сказал Юлыш-турэ, в самый раз!
– Лизоблюд Акай, оттого и голос у него жирный.
– И сэсэнов трудно винить. Когда над страной сверкает сабля, опасно с Акаем ссориться. Если ногаи заявятся, какая сэсэнам защита от меня? – сказал Иылкыбай, тяжело вздохнув.
– Так неужели, отец, оттого лишь, что не приехали сэсэны, песню свою, слова, что из сердца рвутся, в себе задавишь? – вмешался в разговор Хабрау.
– Народ ждет, – поддержал его Юлыш.
– Нет, уважаемый Юлыш, нет, сэсэн! Смысл-то моего нового кубаира – тем трусам на голову град, в печень Акаю яд. Придет день, в глаза им скажу. А сегодня будем слушать домбру и песни Хабрау-сэсэна. – Старый певец положил руку джигиту на плечо.
– Что ты, отец, как же так! – всполошился Хабрау. – Рядом с мастером, говорят, придержи руки, рядом с сэсэном придержи язык. Кто я такой, чтобы перед тобой песни распевать? У меня и рот не раскроется… – Он покраснел и хотел встать с кошмы.
Иылкыбай, нажав ему на плечо, заставил сесть на место.
– Про ту твою песню говорю. Очень уж за сердце берет. И к тому же… чтобы по воде вплавь пуститься, сначала макнуться надо, снять озноб. Сам же говоришь, нельзя песню, что из сердца рвется, в себе задавить.
После этих слов Хабрау взял в руки домбру, подсказал, что лишь попробует спеть какой-нибудь кубаир Иылкыбая, и строки, в которых он призывал к согласию и единению, пел с особенным чувством:
Имя Воин – только лесть.
Для того, кто множит месть,
Вместо ястреба гуся
Подстрелит, сочтя за честь.
Край огромный – семь племен,
Разорен и скуден он:
Набегают чужаки,
Раздирают на куски.
Разом плюнуть – море будет.
Разом встать – им горе будет.
Тем временем один за другим подходили старики, батыры из соседних становий. К концу трапезы народу возле юрты уже собралось видимо-невидимо.
Хабрау тайком поглядывал на стоявших в стороне женщин, искал с е. Удивительно, разве мало он видел красивых девушек, но почему ни одна не задела сердца? Хотя бы Карасэс – разве не из таких, чтобы полюбить без памяти? А эти усергенские черные брови, вспомнит их, и – что за наваждение? – слегка кружится голова…
Энжеташ – Жемчужинка – так звали ее. И пришла она на песенный майдан позже, потому что все заботы большой семьи, можно сказать, на одних ее плечах. Пока трех коров подоила, пока ужин приготовила…
Она совсем маленькой лишилась отца и матери, росла в доме стареющего уже дяди, не было у нее ничего своего, даже хроменького козленка, и даже хырга туе[25] ей не сыграли, нянчила детей, с малых лет была в работе, до шестнадцати жила – глаз от земли не поднимала. Нет, зла ей не чинили, голодной не ходила. Росла, как растут все другие дети. Но все равно на душе у Энжеташ была щербинка. Все взрослее становилась она, яснее и шире становилось сознание, и все глубже уходила в сердце горечь, что так и не узнала материнской ласки и некому открыть свою душу. Пела тайком песни, что слышала от девушек и молоденьких сношек, и в том находила грустной душе утешение. Говорят же, сиротки всегда певучи.
Пока Энжеташ развязалась с домашними делами, приоделась как могла и пришла к юрте Йылкыбая, празднество уже почти закончилось.
«Ты бы еще дольше копалась! Хабрау-сэсэн кубаиры нашего Йылкыбая говорил, а ты и не услышала!» – шептали подруги. А шепот их огнем пробегал по сердцу. Энжеташ протиснулась вперед. Прошла, увидела бьющего по струнам парня, и… не прикрой она вовремя рот краем рукава, вскрикнула бы от удивления. Сэсэн, которого ожидали с кипчакской земли, был тот самый джигит, от которого она, когда полоскала белье, собиралась отбиваться вальком.
Хорошо, что никто не заметил, как Энжеташ в испуге отпрянула за спины девушек. Знал бы кто, что она днем видела сэсэна и так неучтиво обошлась с ним, закричала: «Ступай своей дорогой!» – со стыда бы умер.
Стыд-то стыд, но глаза ее все на том, бьющем по струнам парне, никак отвести не может. Хабрау тоже ищет кого-то, быстрый его взгляд то и дело обегает толпу. Может, ее, Энжеташ, ищет?.. Нет… просто так смотрит… Словно луч прошел в щель меж головами, осветил ей глаза… Энжеташ зажмурилась… и пробежала дальше. Такой статный парень, красивый обликом, и к тому же сэсэн – как же, заметил он шестнадцатилетнюю сиротку…
Домбра вдруг замерла.
– Когда подъезжал к вашему аулу, встретил я возле воды девушку, белье полоскала, – словно бы сам с собой заговорил сэсэн. Чуть улыбнулся: – Удивительной красоты! Но, похоже, грозная очень. Чуть меня бельевым вальком по голове не огрела.
«Ах!» – Энжеташ двумя руками закрыла рот. Бросилась бы со всех ног прочь, черного-белого не видя, куда дурная голова понесет, но страх, что выдаст себя, удержал ее.
– Какая из вас сумела приворожить гостя нашего? Где она? – стали спрашивать в толпе, и женщины быстро-быстро зашептались, подталкивая друг друга локтями, прыская от смеха.
Очень скоро они перебрали, кто чем занимался, и выяснили, что никого сегодня, кроме Энжеташ, на реке не было. И вдруг две сношки-молодушки взяли ее – стояла зажмурившись и воздух из груди боялась выдохнуть – с двух сторон под локти.
– Вот она, йырау! Энжеташ ты видел! – И, пересмеиваясь, вывели отбивающуюся девушку на середину круга.
– Отпустите… нет!.. – Энжеташ закрыла лицо платком и, пытаясь вырваться, забилась как птица, попавшая в силки. Из глаз брызнули слезы.
Парням потеха:
– Смотри, смотри, на сэсэна валек не забоялась поднять, а сейчас испугалась!
– Прямо стригунок, который еще уздечки не знает, а?
– А мы ходим, как слепые, и красоты ее не видим!
– А увидел бы? К ней и близко не подступишься!
А Хабрау не скрывал своего восхищения.
– Да, есть с чего парням сойти с ума, – сказал он. И, пожалев Энжеташ, сказал со смехом: – Отпустите ее, отпустите! Не то опять за валек возьмется!
Энжеташ густо покраснела и, даже не отерев слез, бросилась к подругам. А те принялись ее шутя успокаивать.
– Ладно, сэсэн, пока домбра твоя не остыла, послушаем еще твою песню! – сказал один из стариков, решив, видно, положить конец этой внезапной забавной суматохе.
Но Йылкыбай, мелко рассмеявшись, сказал:
– Ай-хай, не знаю… Боюсь, теперь, как увидел сэсэн нашу красавицу, язык у пего начнет заплетаться!
Старик радовался бесхитростной шутке Хабрау, его простодушному, как и присуще молодости, озорству и тому, что народ уже успел полюбить его.
А Хабрау вдруг стал задумчив, он легонько провел по струнам и сказал старому йырау:
– Девушки наши стройны, как высокие речные камыши, голоса их – как пение птиц, как журчание родников, они – краса нашей земли, отец. Энжеташ – одна из них. Если в ее честь песню спою, не осудите?
– Песня – голос души, – сказал Йылкыбай. – И Энжеташ такая девушка, что не одной, а пяти песен стоит.
– Как же, кроме сопливой девчонки, выросшей на чужих объедках, другого человека не нашлось, чтобы песней одарить, – сердито забубнила чья-то байбисе.
– Да, да, да, будто нет, будто нет! – зачастили стоявшие возле нее две щеголихи-подпевалы.
А женщина в стареньком зиляне покачала головой:
– Смотри-ка, даже тут завистники найдутся, даже на песню рот разинут!
Но кипчакская домбра, заглушая ропот, уже начала свою песню – печальную, страстную и столь неожиданную и новую, что даже сама домбра будто удивлялась порой: что это, откуда, совсем незнакомая, но мне радостно играть ее – и жильным струнам моим, и кленовому телу!.. Готовый вспыхнуть спор тут же затих. Народ замер в молчании. Хабрау, то грустно поникнув головой, то озорно улыбаясь, все играл и играл. Напев то, словно птица в широком поднебесье, плавно идет, то вдруг в быструю, задышливую скороговорку переходит.
– Хай, ну и сыплет, ну и сыплет! – говорили люди. – Пусть руки твои тебе во благо служат! Смотри-ка, чтобы у упрямых кипчаков – да такой домбрист появился!
Хабрау, делая вид, что не видит, как Иылкыбай тем языкастым погрозил пальцем, запел:
Сакмар-река струится-вьется,
По всем излукам – камыши.
Как на тебя взглянул – влюбился,
Тоски не выгнать из души.
Потянулся сначала плавный напев. И только он, извиваясь долгими излуками, дотек до конца, голос домбры, словно ударившийся о пороги быстрый поток, споткнулся вроде, прозвенел брызгами – и побежала-запрыгала быстрая шуточная песня:
Ручей журчит, с горы струится,
Сверк-сверк – как солнце в небесах.
Красавицы идут по воду:
Звяк-звяк – подвески в волосах.
Энжеташ, закрыв от смущения лицо, не видя, куда несут ноги, побежала в степь. А сама и смеется, и плачет. Ей, которая, как верно сказала та завистливая байбисе, на чужих объедках выросла и лучину своей надежды, чуть тлеющую, разжечь не надеялась, сэсэн посвятил песню! И что ведь поет? «С первого взгляда влюбился…» Хотя, конечно, если каждое слово в песне за правду принимать… И все же радостно Энжеташ. Будто какую-то муть отогнало от глаз, и весь мир посветлел, заиграл в ярких лучах.
Всю ночь не спала Энжеташ. Все думала и думала. Чередой проходили перед глазами сегодняшние события. Встреча на берегу Сакмары, сердитый ее окрик: «Ступай своей дорогой!» – песня Хабрау. И самое тревожное, самое страшное – его слова, которые он без стыда, без смущения пропел перед всем народом: «Как на тебя взглянул – влюбился…» А вдруг это правда, не для песни только? Если же в шутку – как она теперь людям на глаза покажется? А если от сердца сказал – что же теперь будет?
Чем дольше думала, тем больше запутывались мысли, попыталась распутать, расплакалась и уснула уже только на заре.
Не успела Энжеташ накрыть стол к завтраку, пришли и позвали ее дядю к Иылкыбаю.
В большой, в восемь клиньев, юрте старого йырау сидели пять-шесть аксакалов. Вскоре подоспел из соседнего аула и глава рода Юлыш. Йылкыбай кивнул Хабрау: говори, мол. По лицу сэсэна прошел румянец. Оглядел стариков, словно удостоверился: все ли здесь. Сидят, опустив глаза в землю.
– Слово у меня такое, уважаемые аксакалы… – одолев смущение, заговорил он. – Как я слышал, у девушки вашей по имени Энжеташ, оказывается, хырга туе ни с кем не сыграно. Значит, она вольная еще птица. Коли дадите согласие, хочу послать в ваш дом сватов, в жены ее просить.
Йылкыбай заметил, что два старика уже начали надуваться, как торгующие знатным товаром купцы, и поспешил перехватить их слова.
– Видите, почтенные, правду говорят: кто ходит, тот за счастье свое зацепится, – засмеялся он. – Вот и Хаб-рау-сэсэн приехал к нам и зацепился. Выходит, нашел, чего искал.
– Эй, йырау, ты дело на шутку не сворачивай! – сказал один из тех стариков.
– И то… заносчивым кипчакам сватами быть… все время к усёргенам с враждой, – забубнил второй.
Не обращая внимания на вздохи и ерзанье Йылкыбая, старики принялись расспрашивать Хабрау, чем он живет, о семье, о родне, о скотине, чем жил до сего времени и чем думает жить дальше. Когда же вызнали все, что хотели, повернулись к Юлышу, спросили, что думает он.
Свадьба эта, коли удастся ее сыграть, хотя немного, да укрепит отношения между усергенами и кипчаками – вот что было важнее всего для Юлыша, об этом он и сказал. Но в то же время, при всем уважении к гостю-сэсэну, заметил он, надо узнать, что думает сама Энжеташ.
– А может, молодые тут сами разберутся? – сказал Йылкыбай.
Однако дядя девушки начал было противиться, замямлил о подлостях Байгильде, но Юлыш сказал твердо:
– Ну, аксакалы, если таково ваше решение, пусть сэсэн сегодня же повидается с Энжеташ. И если сойдутся молодые в сердечных своих помыслах, через две недели будем встречать сватов, – чем и закрыл дядюшке рот.
Кое-кто из стариков выразил недовольство: больно, дескать, быстро решили дело, не поторговались даже. И не слишком ли торопится сэсэн по молодости лет? Вспыхнул как вязанка хвороста, глядишь, так же быстро и отгорит. К тому же одинок, без угла, без пристанища, скитается по чужим становьям, выплатит калым и останется нищим и голым, чем жену будет кормить?
Хабрау делал вид, что не слышит их ворчания, обиды своей не выказывал. Иылкыбай незаметно сжал его локоть: терпи. И впрямь, к девушке посвататься, с новым родом породниться – греха тут нет. А если сама Энжеташ будет согласна – куда старик денется?
В тот же день Хабрау встретился с Энжеташ и поговорил с ней…
– Разве мало девушек, зачем я тебе? – сказала Энжеташ, забыв страх и смущение. – С баями роднись!
– Не встреть я тебя вчера, всю свою жизнь, Энжеташ, до самой смерти, одиноким бы прошагал. Вошла ты в мое сердце и свила гнездо. Взлететь хочу в поднебесье, на весь мир пропеть свою песню, будь моим крылом, моим кураем.
– Полно, полно, а если бы не приехал к нам?
– Сейчас не приехал, так приехал бы позже. Нас Тенгри вместе свел, Энжеташ.
– Скажи, зачем я тебе?
– Зачем жизнь нужна? Жить!
– Эх, йырау! Сиротка я, на чужих объедках выросла, в чужие глаза смотрела. Ошибусь, отдам тебе свою душу, а ты остынешь, полюбишь другую, что мне тогда?
– Ослепнет тот, кто обидит тебя. Пуще жизни буду беречь, на лунный твой лик, на стан твой тонкий, как этот камыш, буду смотреть и любоваться, и песни мои будут о тебе.
– Йырау – голос страны, говорят старики. А что они скажут, если все твои песни будут обо мне одной?
– И они вслед за мной весть о твоей красоте, о доброй твоей душе разнесут по всей стране. Отбрось страхи, Энжеташ.
– Боюсь, Хабрау, – сказала она и показала на. слабенький желтый цветочек, чуть-чуть приподнявший голову от земли: – Глянь на этот цветок. Тоже не смог подняться в тени березы.
– Твое место у меня в сердце! Откажешься от моей любви – завяну, как этот желтый цветок.
– Эх, Хабрау, Хабрау! Ну что же мне сказать? Если бы не ты – разве в душе моей поднялся этот огонь? Тенгри тебя ко мне послал, я это сразу поняла… Как только увидела.
– Вот видишь… И все же боишься.
– Как же не бояться? Появился откуда-то…
– Значит, судьба наша, Энжеташ…
– Ну, что я теперь могу сделать?! Ты хозяин моей судьбы. Дашь мне счастья на один только день – а там на руках твоих согласна умереть. – Не отерев даже бегущих слез, она уткнулась головой парню в грудь. – Шли сватов, – всхлипнула она.
– Не плачь, Энжеташ! Не плачь, сердце мое! Мы же вместе будем. – Хабрау крепко обнял ее.
– Не буду плакать… – Просветленным взглядом она посмотрела в лицо своему любимому. – Вот ведь, невесть откуда появился… Я боюсь, Хабрау, приезжай быстрее, ладно? Измучаюсь, ожидаючи… – сказала и прижалась к парню.
…Не знали двое влюбленных, какая страшная беда ожидает их впереди…
Счастливые, с радостными лицами, в надежде на скорое свидание расстались они. Когда солнце перевалило за полдень, Хабрау оседлал лошадь, попрощался с Йылкы-баем, святой души человеком, и вышел в обратный путь. В глазах не затухают счастливые искры, на лицо то и дело выплывает улыбка. И только об одном думает Хабрау – вернуться поскорей и послать сватов к Энжеташ.
Весть о том, что сэсэн ездил в страну усергенов, что влюбился там в девушку по имени Энжеташ и что, вернувшись оттуда, собирается послать сватов, очень скоро разлетелась по кочевьям сарышей и сайканов.
Однако столько добра, чтобы выплатить калым, какой запросили аксакалы Голубого Волка, у Хабрау не было. Несколько голов скота, оставшиеся от покойного отца, он отдал сестре и зятю. Единственная надежда – на помощь Таймаса-батыра, друга отца, его соратника. Если же он откажет, оставалось одно – выкрасть Энжеташ.
Но Таймас собрал аксакалов в гости, накормил-напо-ил их и разъяснил, как обстоят дела. Старики согласились внести каждый, исходя из достатка, свою долю калыма. Батыр обещал дать три лошади и десять овец. Зять же, почесав спину, снизошел до кобылицы и пяти овец, будто свою скотину отдавал.
Сватами были назначены Таймас-батыр и два джигита.
Но сидеть и ждать, когда они выйдут в путь, Хабрау пе мог. Всей душой он был там, с любимой. Еще недели не прошло, как вернулся от усергенов, а ему казалось, что уже месяцы не видел он своей Энжеташ. И он опять заторопился в кочевье Голубого Волка. Ничто не могло удержать его: ни сердитое ворчание стариков, что нельзя, дескать, вперед сватов являться в становье невесты, ни в какие обычаи это не лезет, ни полушутливые-полу-серьезные уговоры Таймаса-батыра. Вроде и предчувствия никакого не было, а что-то гнало его… Откуда было знать ему, что злые силы уже проснулись, уже снова готовы броситься и губить все доброе.
Только с калымом все уладилось, Хабрау снова вышел в путь.
Он уже ехал вдоль излучины Сакмары, той самой, где впервые увидел Энжеташ, сейчас он по размытому склону спустится к реке, пересечет вброд, а там…
Сначала он услышал шум, крики, но откуда кричат, о чем, понять не мог, – они доносились издалека, приглушенные шорохами живой степи и прибрежного тальника. Расстояние и ветер заглушали и выдували силу и смысл криков, оставляли только их тоску. Хабрау придержал лошадь за уздцы, вслушался, всмотрелся. Сквозь черноту и слабую зелень тальника пробился густо-шафранный свет, и над берегом, там, где было кочевье Йылкыбая, взмыло пламя. Встревоженный Хабрау на рысце проехал вперед и увидел, что горят две-три юрты. Он пустил коня вниз по откосу наискось, вспенив воду, по брюхо коню пропахал реку вброд…
Баранта!
В становье шел бой. Несколько барантовщиков в черных личинах, на низких, быстрых, как пламя, черно-гнедых конях с мохнатыми гривами, сбив лошадей в табун, отгоняют их к Яику, а другие бьются с вооруженными наспех, схватившими что под рукой было джигитами Голубого Волка. Остальные же с горловыми криками и оглушительным свистом крушат юрты, попадется какое добро на глаза – хватают и бросают поперек седла. Опять оно, страшное видение, которое с четырех лет мучает Хабрау, приходит в сны, бессмысленный разор и погибель.
Несколько растрепанных простоволосых женщин с криками и визгом пробежали к Сакмаре. Энжеташ с ними не было.
Хабрау, размахивая дубинкой, озираясь по сторонам – нет ли где ее? – бросился в самую гущу боя.
Джигитам Голубого Волка приходилось туго. По два-три налетчика наседают на одного. Куда ни глянь, в крови лежат и стонут изувеченные джигиты с переломанными ногами и руками. Чем все кончится, угадать было нетрудно. Но тут вдруг кто-то закричал: «Юлыш идет! Юлыш идет!» Спину Хабрау тоже прожгла тяжелая камча. Огромного роста барантовщик с выпученными глазами, размахивая дубиной, с громкими ругательствами ринулся к нему. Кровь с разбитого лба текла ему под лучину, но опустить свою дубину на Хабрау он не успел – один из усергенских джигитов ударил его лошадь колом в бок. Лошадь прянула в сторону, детина замахал руками и еле удержался в седле.
Видно, успели послать гонца в кочевье главы рода. Часть всадников Юлыша с громкими криками поскакала наперерез отгонявшим табун барантовщикам, остальные начали окружать аул. Грабители, пытаясь вырваться из западни, бросились к реке.
Хабрау, не зная, куда устремить свою лошадь, озирался по сторонам. И тут из самой гущи отступающих налетчиков донесся жалобный крик, ударил ему в уши:
– Хабрау! Хабрау! Спаси меня!
Он бросился на голос.
Джигиты Голубого Волка, тесня врагов, валили их дубинами или вырывали из седел волосяными арканами, но пять-шесть из них, побросав наворованную добычу, неслись во весь опор вдоль берега, пытаясь добраться до темневшего впереди мелколесья, скрыться из глаз.
– Хабрау, я здесь! – крикнула опять Энжеташ, колотясь в руках разбойника.
Крик ее словно подстегнул и без того распаленного коня Хабрау, прибавил ярости.
Обогнав воинов Юлыша, Хабрау, нацелившись на барантовщика, поперек седла которого билась Энжеташ, перехватил поудобнее аркан. Еще рывок – и он со свистом ссадит его из седла. До похитителя оставалось расстояние в два копья.
– Стой, вор! Стой, падаль! – крикнул он и метнул аркан.
И в этот миг истошно закричала Энжеташ. Вор, с захлестнувшимся на шее арканом, и девушка грянулись с коня на землю. Подоспели мчавшиеся сзади джигиты. – Милый… умираю… – прошептала Энжеташ и посмотрела на склонившееся лицо любимого. Но это было Последней вспышкой лучины, перед тем как погаснуть, – взгляд тут же начал быстро туманиться и темнеть.
Хабрау, не шевелясь, словно завороженный, смотрел на тусклый блик на рукояти кинжала, торчавшего из ее груди, и не знал, вытащить лезвие или оставить так.

– Энжеташ! Свет мой… Что же это?
– Эх, Хабрау… Не суждено быть нам вместе… Не плачь, сэсэн… Когда заскучаешь по мне, спой ту песню… «С первого взгляда в тебя я влюбился…»
– Нет… я не верю… Ты выживешь… Я не отдам! – Крупная дрожь трясла его, и с помутившимся рассудком он прижал ее голову к груди, погладил мягкие, шелковистые волосы.
– Спаси меня, Хабрау… спаси… – Энжеташ дернулась, выгнулась и опала. В полузакрытых глазах на светлом, еще не изменившемся лице появилось выражение удивления и боли.







