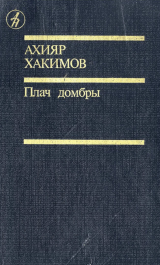
Текст книги "Плач домбры"
Автор книги: Ахияр Хакимов
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 41 страниц)
Из одиннадцати учеников скоро выделились пять-шесть – расторопней и сообразительней. Через три месяца они уже читали по складам; закусив язык, белым мелом на плоском черном камне выводили коротенькие предложения, освоили сложение и вычитание в пределах ста. Самый быстрый в счете и чтении, самый сметливый – Айсуак. Выполнит задание, еще и тугодумистому товарищу поможет, тоже молодому учителю облегчение в непривычном еще деле.
Но нелегко мальчишек, которые целыми днями носятся на воле, то возле скотины, то в играх в войну да в ба-ранту, заставить сидеть над книгой. Приходится Хабрау идти на всякие уловки. Обещает после уроков из толстой арабской книги, одной из. подаренных Нормурадом, почитать сказки – читает по-арабски и тут же переводит – или же спеть под домбру кубаиры усергенского йырау йылкыбая. А уж если начнет рассказывать о годах, проведенных в Самарканде, ребятишки слушают, весь свет позабыв.
Однажды к вечеру, уже к концу занятий, открылась дверь в юрту и вошел Ильтуган, тот мальчик, с которым Хабрау повстречался на берегу Яика. Худой, озябший, в старом чекмене – заплата на заплате, на ногах старые сарыки – пальцы торчат.
Шакирды, дети отцов состоятельных или хотя бы живущих в достатке, при виде худенького мальчика в рваной одежде стали смеяться и дразнить его. Хабрау с трудом унял их.
Когда они остались в юрте с Ильтуганом вдвоем, Хабрау посадил его поближе к очагу, подождал, когда тот отогреется, и принялся его расспрашивать. Слово за ело-во, и выяснилось, что покойные отец и мать Ильтугана были из того же аула, что и Хабрау.
Наконец, осмелев, мальчик открыл и свое заветное, с чем пришел: очень уж ему хочется научиться грамоте. Оказывается, каждый раз, как приведет какая-то нужда его в аул, затаится, бедняга, за юртой Хабрау и слушает, как он играет на домбре и на курае. «Я и сам на курае играю», – вырвалось у него. Хабрау взял с полки курай и протянул ему. И впрямь, неплохо затянул, сорванец!
Хабрау посидел, подумал немного и вышел, оставив его в юрте. Он пошел к Аргыну и рассказал ему про Ильтугана, стал просить за него: бедный сирота в голой степи в мороз и вьюгу ходит за стадом, ну детская ли работа? Хоть бы в ауле к какому делу его пристроить.
– Полно в мире нищих, – хмыкнул Аргын. – Всех начнешь жалеть, так и за тем стадом, о которого говоришь, некому будет ходить.
– Неужели славному Аргын-батыру не по силам одного-единственного сироту взять под свое крыло? Богатства не хватает? – потянул Хабрау за ниточку его самолюбия.
После такого заявления Аргын только для вида поупрямился немного, а потом покашлял с достоинством и сказал:
– Ладно, только ради тебя. У матери на посылках будет. Пусть в юрте с работниками живет.
Разумеется, Ильтуган успевал посидеть и на уроках Хабрау, и не только посидеть – к исходу зимы он уже догнал остальных шакирдов.
Все время Хабрау уходило на ребятишек, а когда, уже к вечеру, те убегали домой, остаток дня он отдавал стихам и песням. Поэтому за всю зиму он никуда не выезжал. И лишь весной, когда потеплело, вдвоем с Аргыном съездил в свой аул. Привел в порядок могилы родителей, положил рядом два плоских камня, камень серый и камень белый.
Сестра с зятем и четверо их детей живы-здоровы, бьются-перемогаются, тянут хозяйство, как и сородичи, как и соседи, как и весь мир остальной. Когда они заговорили было о его скотине, Хабрау отмахнулся, ему было не до скота: «Пусть в вашем стаде ходит, если вы не против, а выпадет нужда какая, пользуйтесь как своей». Сестра сразу поняла, что все отговоры будут впустую, и лишь удивленно покачала головой. Зять же, чтобы скрыть блеск в глазах, отвернулся в сторону. И все же не выдержал, погладил усы. Глупой щедростью шурина он был доволен.
В дороге Хабрау думал о том, как измаялись, измучились за зиму кочевья, о жалкой участи тех, кому, кроме как в старой, насквозь продуваемой кибитке, укрыться негде, о том, что от бескормицы начался падеж скота. И горечь не отпускала его. А ведь всё как всегда, как и в каждую зиму, и год, и два, и, наверное, век назад. Пожалуй, не так тяжко было бы на душе, если бы не пожил Хабрау оседлой жизнью Мавераннахра. Там и зима полегче, и корм скоту, и все запасы готовят заранее. Хотя простой люд и там живет впроголодь, но все же зимует в тепле.
Он поделился своими мыслями с Аргыном, но угрюмый, молчаливый детина лишь удивленно хохотнул:
– Женись скорее, у жены в объятиях не замерзнешь. Эх, Хабрау, нашел над чем голову ломать! Не сегодня же помрем, коли век так жили.
Нет, с этим не столкуешься. Что пи есть – то праздник, сегодня живы – и завтра не помрем, так и привык. Впрочем, он по-своему прав. Степная жизнь, она не торопится, новое принимать не спешит. Если вся степь прадедовским укладом и уставом живет, менять ничего не хочет, так Аргыну ли чего-то хотеть? Вот, извольте, у молчуна язык развязался. Хлеща воздух камчой, он начал говорить о том, что оскудевшее от падежа стадо пополнить совсем нетрудно: сходил два раза в баранту – и живи как жил. Хабрау молчал, и тогда Аргып, уже тыча сдвоенной камчой перед собой, стал учить его уму-разуму:
– Пока ты ходил к родителям на могилу, я аул ваш посмотрел. Старики говорят, мол, у Хабрау десять лошадей, голов с тридцать овец, три коровы, говорят, да еще телята. Зачем их этому востроглазому зятю отдавать? Не будь дураком, забери их себе! Женись. Сколько тебе? Двадцать один? Давно пора. Я только на три года старше тебя, а уже двое мальчишек. Видел их?
Старшему четвертый идет, уже теперь, как лошадь увидит, тянется, кричит, чтобы верхом посадили… Знаешь что? Бери нашу сноху Карасэс, моего старшего брата вдову. Такая красавица – сложной воды проглотить! Всего месяц прожила с братом.
– А старший твой брат… когда он умер?
– Не такой уж и старший. Близнецы мы. Был он жив – были Таргын и Аргын. А теперь привык считать его старшим. Уж год, как он в войсках Орды был, на какой-то Сулман-реке смерть нашел. Эх, Хабрау, у Карасэс даже походка своя, ни на чью не похожа. Посмотрит – сердце, что воск, тает. Женись, не пожалеешь.
– Коли так хвалишь, сам бы и женился.
– Нельзя мне… Хочешь знать, оба глаза на другой красавице, жду, когда вырастет. К тому же младший есть, Айсуак. Отец хочет выдать Карасэс за него.
– Так ведь Айсуаку всего десять! Вы что, извести ее хотите? Пока он вырастет, Карасэс иссохнет и пожелтеет вся! – Он в сердцах рывком закинул голову коню.
– А я о чем тебе толкую? Дашь немного скота, так, чтобы обычай уважить только, – и весь калым. Без горя, без забот женатым станешь. И раздумывать нечего!
– Что воду толочь! На родину, к отцу отправьте сноху.
– Тоже сказал слово! – Тяжелое лицо Аргына стало еще суровей. – Знаешь, сколько за нее калыма выплачено? То-то, что не знаешь! Пятьдесят лошадей, двести голов овец, десять верблюдов. Эх, Хабрау, да отец ее скорее зарежет дочку, чем вернет такой калым. Не Карасэс это – а черный камень на нашей шее…
После этого разговора Хабрау как-то по-иному стал примечать грустную красоту Карасэс. Видимо, пользуясь тем, что отец все время в отъезде, Аргын велел ей почаще бывать у Хабрау на глазах. И в юрте приберет, и пищу приготовит, и белье ему постирает – все она, Карасэс. Без шума, без звука войдет к нему в юрту, как тень сумеречная. Сделает всю работу – и нет ее. Спросит Хабрау о чем-нибудь – «да» или «нет». Голова опущена, если поднимет взгляд, лицо закрывает краем платка.
Но однажды принесла она мяса в деревянной чаше и, собравшись уходить, открыла было дверь, по опять закрыла. И, будто сама с собой, с ноткой тоски в голосе протянула:
– Льет-то ка-ак… Снег с дождем…
– Так посиди. Спешной-то работы нет? – Парень нерешительно показал ей на дальний от себя край кошмы.
– Посидишь тут… Свекровь каждый мой шаг сторожит, – сказала Карасэс и рассмеялась, но и в смехе была печальная медлительность.
– Свекровь на меня не подумает. Знает мой скромный нрав, – пошутил Хабрау.
Карасэс вскинула на него быстрый взгляд. Но лица при этом не закрыла, то ли забыла, то ли впрямь решила, что бояться или стесняться повода нет. И ответ ее ударил Хабрау обухом по голове:
– Нашел чем хвастать. Скромный он, видите ли. А я женщина, Хабрау, или не видишь? – И, выпятив высокую грудь, выгнулась к Хабрау.
У парня в руках айран выплеснулся из чашки, лицо жаром вспыхнуло.
А Карасэс – уж коли, дескать, открыла рот, так до конца скажу:
– От тоски умру. Какая радость мне на земле осталась?
И не подумаешь, что стыдливая семнадцатилетняя женщина, ходит обычно – глаз от земли не поднимет.
– Ты молодая, здоровая… – пробормотал в растерянности Хабрау.
– Тоже радости – здоровая! Какой толк от моего здоровья… Мертвая уже, только обмыть, в саван зашить и в землю зарыть осталось… Домой, к отцу-матери, вернуться не могу, вот и жду здесь, дожидаюсь, когда деверю Айсуаку пятнадцать исполнится…
На ресницах слезы, словно роса вечерняя, тяжело блестят, брови от безысходной досады круто взмыли вверх. Даже в такой темный миг красива Карасэс! Узкое тело стройно и гибко, и сама, как молодая косуля, быстра и ловка. Было с чего Аргыну, слюну оттягивая, расписывать ее.
Карасэс, собрав посуду, ушла, Хабрау долго сидел и думал о ней. Вот еще одна душа, у которой погасла звезда надежды… Еще пять-шесть лет не узнает она мужского объятия, счастья материнства. Цветущие, наливные годы зазря проходят. Да и станет женой подростку, сойдется ли сердцем с выжданным супругом, полюбит ли? И всему виной – железный обычай; калым, скот дороже человеческой судьбы.
Хабрау взял в руки домбру и запел приглушенным голосом. Песня была о юной вдове, которой и в доме покойного мужа жизни не осталось, и домой, к отцу-матери, все пути отрезаны.
А наутро, когда Хабрау проходил мимо юрты Карасэс, ему причудилась вчерашняя его песня. Остановился, прислушался. Точно, она! И напев, и слова его, Хабрау. Видно, за юртой стояла бедная женщина, подслушала, запомнила, а теперь поет, наверное, слезами обливается…
Двух дней хватило, чтобы песня разошлась по всему кочевью. Это была не первая сочиненная им песня, которая у молодежи на устах.
Аргын же полностью уверился, что сноха и впрямь приглянулась Хабрау, и как-то заговорил опять:
– Оказывается, друг, ее за тебя так просто не выдашь. Нельзя, говорят, чтобы сноха из рода мужа уходила. Однако мулла этот, Абубакир, который все время у нас околачивается, говорит, пусть, мол, отец объявит Хабрау названным сыном. Так что будешь мне братом. И готово дело, забирай Карасэс!
– А если Айсуак крик поднимет? – хотел было отшутиться Хабрау, но до Айсуака первым крик поднял сам Аргын.
– Дурак ты! Сам своей выгоды не знаешь! – В досаде несколько раз щелкнул камчой. – Скота у нас вдоволь. Не жизнь, а мед да масло.
Аргын не зря так горячился. Причину открыл отец. Однажды он вызвал Хабрау к себе на вечернюю трапезу.
– Уж, считай, месяцев шесть, как вернулся ты… А чтобы вот так вместе, вдвоем, обо всем обстоятельно, еще и не поговорили. Виноват, браток, мирское бремя – на плечах мужчины, – начал хозяин. – Худой ты все еще, мяса побольше ешь, округлишься малость, – добавил он.
– Да я уже в силах, почтенный Богара-агай. Вот подсохнут дороги, хочу к усергенам съездить, с Иылкыбаем-певцом познакомиться, – сказал Хабрау.
Что-то не понравилось Богаре – что ехать ли собирается, что Йылкыбая ли помянул. Брови дрогнули, по лицу прошла тень. Потянувшаяся было к мясу рука дернулась обратно.
– С усергенами, которые век с кипчаками грызутся, что у тебя общего? Ты – сэсэн кипчаков.
– Нет, почтенный Богара-агай, хватит силы – так певцом всех башкир хотел бы стать. Потому и ногайскому натиску противостоять не можем, что меж кипчаками и усергенами свара. Пал гуляет по нашей степи. Й мне тоже его разжигать, на единокровных усергенрв людей натравливать?
– Аб-ба! Уж больно кровь у тебя горячая, как я посмотрю, вмиг вскипел. Так просто сказал, испытать тебя хотел. Осмотрителен будь, другого у меня к тебе слова нет. – Богара пригладил поникшие усы и, откинувшись грузным телом, рассмеялся. – А все же не годится, как Иылкыбай, он ведь где ухватится, там и ломает, очень уж смел с ногаями, оттого и жизнь на волоске висит.
– А что ему, сидеть и поддакивать им? Орда за глотку держит, ясак такой, что не поднять. Ногаи-то нас на кипчаков, усергенов, бурзянов делят, одной дубиной всех равно охаживают, одну саблю над головой занесли. Почему таких спятивших турэ, вроде Байгильде, не придержишь? Все время усергенов или бурзянов укусить норовят.
Богара задумался. Долго крутил в руках чашку, то одним, то другим боком выставляя ее на свет лучины.
– Пытаюсь, да руки коротки, – вздохнул он наконец. – Мысли-то у нас с тобой одинаковые… Да, раздоры в костях у нас сидят. – Большая его рука легла на плечо Хабрау. – Где, ты думаешь, день и ночь меня носит, куда скачу? Свой-то род у меня вот здесь. – Рука, взлетевшая с плеча Хабрау, сжалась в кулак. – А вот остальные кипчаки – что овечье стадо без барана-вожака, во все стороны готовы разбрестись. Вот их всех и хочу собрать в один кулак. Тут одного моего слова мало. На твою помощь расчет держу.
– Что моя помощь могучему Богаре?
– Ты мое дело своими песнями защищай! Орду пока не трогай, язык вырвут. Сначала надо кипчакскую землю собрать и укрепить. И еще… Аргын, наверное, сказал уже… Жениться тебе надо, и скорей. И красавица есть, при виде тебя языка лишается. Будешь жить…
– Нет! – Хабрау встал с места. Не успел бы хозяин ухватить за рукав, махнул бы дверью и вышел.
– Говорю же, горяч, – хмыкнул Богара. – Никто тебя сегодня в юрте Карасэс запереть не собирается. Думай. Но если впрямь, как говоришь, за единство башкирской земли душой болеешь, хочешь в пей мира и согласия, от меня тебе отрываться нельзя. Через три дня старейшин родов, уважаемых аксакалов в гости созову. «Хабрау-сэсэн будет петь и говорить» – вот какая по всем кочевьям разослана весть. Готовься! – Это прозвучало как приказ.
– Какой там сэсэн, агай… Все мое сэсэнство – только молодежь веселить.
– Большая вода с малого ручья начинается, – сказал Богара, похлопав его по спине.
Хабрау показалось, что ладонь главы рода – во всю его спину.
Хабрау, конечно, на запреты смотреть бы не стал, если нужно куда, взял и поехал, он в своей воле. Того достаточно, как он в Самарканде у торговца-злодея под замком сидел, во всю жизнь не забудет. Что может быть дороже свободы? Ни на день бы здесь не остался, детишек жалко, с такой ведь охотой взялись за учебу! Как бросишь, как уедешь? Теперь ему захотелось на кипчакскую верхушку посмотреть, узнать, чем живут, о чем думают. К тому же в таком высоком собрании себя, свою домбру и свои песни испытать тоже заманчиво.
…Сначала, пока аксакалы пили-ели, разговор толокся вокруг предстоящей летовки, решали, как и где ее устроить, на каких пастбищах. Когда же перешли на недоплаченный ясак, поднялся крик. Богара, конечно, стоял на том, чтобы с ногаями не ссориться, хоть и нелегко будет, но все же поднатужиться и с долга, который висел на них, хоть малость, а скинуть. Байгильде поддержал его. Старики из родов победней с этим не соглашались: надо, говорили они, отправить к ногайскому эмиру послов, просить, чтобы снял часть податей или уж, на худой конец, не жал со сроками.
– Знаем, чего добиваетесь! – закричал один из стариков, переводя взгляд то на Богару, то на Байгильде. – Хотите баскакам угодить и получить ярлык на тарханство. – Он даже хотел, кажется, плюнуть, но удержался, не плюнул.
– Верно, что змея, что скорпион – одинаково жалят. В Орду в гости ходят, подарки там раздают, против нас замышляют, – подхватил другой старик.
Аргын, сидевший у порога на корточках, вскочил с места.
– Забыли, где сидите? – потемнев лицом, закричал он. – К вам с добром, а вы с колом! Вам еды кус, а вы камнем в ответ.
Первый старик:
– Вот, видели? И этот тоже! Здесь турэ сидят, каждый втрое его старше, а он на нас горло дерет.
Тут же и второй:
– Оно и есть: силен пес в своей конуре…
Хабрау сидел, потупившись от стыда. Мудрость и опора страны, бороды по пояс, а где ум, выдержка, степенность? Где уж тут с другими – меж собой поладить не могут, не совет старейшин, а собачья свалка.
Перекрывая шум, загремел твердый голос Богары:
– Подождите, не шумите. Аргын, садись… сядь, говорю, твое место пока у порога. – Еще не затихло ворчание, хозяин, сверкнув белками глаз, перешел в наступление: – Вы что, собрались криками мир исправить? Орда высоко, так меня кусаете? Эх, мужи почтенные, гости дорогие, медведя хворостиной не испугаешь. Наши раздоры и нелады – ногаям сила. Мое слово такое: немощный люд всего ясака не поднимет, возьмем половину на себя. Тем и народу угодим, совьем в его душе гнездо благодарности. А с Ордой тягаться рановато, года два-три подождать надо. Потерпим, высокий ямагат[24], недалек он, желанный день.
– Афарин! – приложил печать Байгильде. Он сидел выпятив грудь, отвага так и перла из него: вот, мол, за свата и жизнь отдаст. – Долг своего рода завтра же отправлю.
– У тебя известно: бегаешь в баранту на соседей, награбил скота, – начал было один, но Байгильде рыгнул так, что юрта качнулась, и ответил:
– И ты побегай.
Грудь и живот его выпятились еще больше. Он подождал, не посетит ли его еще отрыжка, и продолжил:
– Учти и то, почтенный, что каждый голодранец, которому ты поможешь поднять ясак, любому твоему врагу ради тебя горло перегрызет. Дайте мне два-три парня от каждого кочевья. За неделю весь скот бурзян пригоню.
– Опять свару затеваешь? Забыл усергенское угощение?
– Ничего, и он еще у меня отведает, этот Юлыш!..
Пока турэ и аксакалы то приходили к согласию, то опять поднимали крик, Хабрау под пустячным предлогом вышел из юрты. После духоты юрты на свежем ночном воздухе мысли немного прояснились. «Нет», – сказал себе Хабрау и даже мотнул головой. Нет, не будет он сидеть и петь свои песни, которые кипят в нем, из груди рвутся, в усладу этим живодерам, готовым сгрызть друг друга. Его место там, в бедных юртах, среди черни, которой нет жизни от ненасытности и сумасбродства богачей.
Шел мокрый снег, вихрился в столбы. Уже и дни потеплели, и степь уже вышла из-под снега – вдруг закрутил этот рехнувшийся, совсем не ко времени буран. Возможно, это последний снег долгой, мучительной, выстудившей весь люд до костей зимы, но и он, этот последний буран, сколько еще принесет народу мук и скоту погибели.
Не может Хабрау выйти в путь в такую тяжкую пору, придется ждать, когда установится погода и подсохнут дороги. А самое верное – доучить ребятишек до лета. И то сказать, к такому великому йырау, как Иылкыбай, не явишься с пустыми руками. Нужно закончить стихотворения, которые начал и не дописал, отделать их как следует. Песни, что теснятся в душе, отточить так, чтобы не было стыдно перед высоким судьей.
Он вошел в свою юрту, бросил на чуть дышавшие угли сухие ветки, положил сверху кизяку и при свете лучины принялся листать толстую тетрадь, привезенную из Самарканда.
Приходил посыльный, звал его обратно к застолью, но он не пошел.
Причуды своенравной погоды оказались помехой и замыслам Богары. Ехать по делам он не мог и сидел безвылазно в теплой, подстеганной ватой юрте. Гостей приезжих нет, аул живет своей размеренной жизнью. Одна-единственная радость – песни Хабрау. Только что-то в последнее время никак он с молодым сэсэном общего языка не найдет. С того вечера, как не послушался Хабрау и ушел от гостей, к турэ он заходит лишь из приличия, словно горячий суховей прошел меж ними и выжег что-то.
Но все же хитрый Богара увидел, в чем его слабость. Теперь при встречах он увлеченно расспрашивает о Самарканде, и у парня сразу развязывается язык, и уже сам не замечает, как с жаром начинает рассказывать обо всем, что видел и пережил, о порядках, установленных Тимуром в государстве, о повседневной жизни, о том, как строится его войско, о том, как живет тамошний народ, о его обычаях. Подробно расспрашивает дотошный турэ, выпытывает, уточняет, но весь вывод из услышанного – погладит усы и удивленно покачает головой. Начнет Хабрау хвалить оседлую жизнь, на пальцах перечислять ее достоинства перед кочевой, турэ тоже, как и Аргын, спорить не спорит, а лишь усмехается: «Так ведь, браток, у каждой страны свой уклад, свои обычаи». Кто знает, может, про себя за дурачка его считает.
Хабрау ломал голову, пытаясь понять его натуру, разгадать его цели. Раз посмотришь – ради единения страны жизнь отдать готов, а в другой посмотришь – все помыслы в богатстве и высоком положении. На любое новшество глаза закрыты, уши на замке. Человек жесткий, своенравный, на бедных сородичей, что живут с ним рядом, на работников никогда по-доброму не взглянет. Может, главе большого, в тысячу юрт, рода и положено быть таким крутым?
Молод еще Хабрау. Трудно ему во всех качаниях человеческой натуры разобраться, разглядеть жизнь до ее закоулков. А Богара человек вовсе не простой и бесхитростный. На языке одно, на уме другое. И к цели, о которой втайне мечтал, на которую жизнь был готов положить, он подбирался осторожно, как чуткий охотник, хорошо знающий повадки птиц и зверей.
Да, из всех дорог Богара выбрал хоть и окольную, но самую надежную. Законы степей, родовой уклад у него в крови сидят. Слов нет, города, хлеборобство, оседлая жизнь, культура – хорошие вещи, прямо на зависть, и слов нет. Одно жаль – совсем для башкирской степи не годятся. Всю жизнь, все традиции, все завещанное наследство, что из поколения в поколение идет, – взять и переиначить? Возможно ли? Нет, невозможно. Так что зря хлопочет Хабрау, зря колотится. Все помыслы Богары – в сегодняшнем дне, а не в далеких помыслах сэсэна. Впрочем, если всю кипчакскую землю собрать воедино, вот в этой своей горсти, кое-какие каноны-обычаи и можно повернуть так, как говорит сэсэн. Придет время – посмотрим.
А пока сарышский голова какой выбрал для себя путь, тем и пойдет. И замыслов своих вздорным, неустойчивым турэ раскрывать не будет. Молчи и делай. А опираться нужно на простодушных батыров, этим улыбнешься чуть пошире, они уже за тебя жизнь отдать готовы. А чернь-нищета всю жизнь на одной надежде живет. Услышит какую добрую весть – и сразу спасибо какому-нибудь турэ, за него молится. Вот и слова Богары, которые он бросил на ясачной грызне, разве не разошлись тут же – и не только среди кипчаков, но и в других племенах? Разлетелись, впятеро умножились, из пуговицы в верблюда выросли. И ведь знают люди, сколько раз так было: нынче турэ две головы скота даст, а на будущий год три головы потребует. Но народ все равно доволен. Некоторые йырау уже и песни поют о доброте и справедливости Богары. Только Хабрау молчит. А ведь глава сарышей хотел вырастить из него соратника, наперсником своим сделать. Дурит джигит, никак не образумится.
Чуткий кипчакский турэ раньше других унюхал, что жизнь забродила по-иному. После того как ордынские войска были разбиты на берегах Дона, прежние железные порядки Дома Джучи сильно пошатнулись. А старания Тохтамыша взять в жесткие тиски все эти рвущиеся из-под власти Орды в разные стороны, стремящиеся проводить свою политику народы и племена – все равно что пытаться остановить великий Итиль. Но и того не следует забывать, что раненый зверь на любое злодеяние пойдет, нальет кровью зрачки и прыгнет. Нет, всегда нужно быть как ловчая птица, настороже.
Понимает, хорошо понимает Богара, что даже подгнившее в корнях дерево само не упадет, его подтолкнуть нужно. Разве согласятся ногаи, которые уже сто лет башкирскую землю словно кость обгрызают, так просто от такой сыти отказаться? Тоже хитрые. Хотя сорок соро-ков всяческих податей и не убавляют, но теперь стараются с влиятельными башкирскими старейшинами ладить, из-за каждого пустяка, как прежде, войной не идут. Хоть с виду важничают и хорохорятся, но дела теперь ведут осторожней, осмотрительней.
Этим и должен воспользоваться Богара, повернуть к своей выгоде, разобщенные башкирские племена соединить в одно. Только зима наконец сошла, поскакал он, горя этим желанием, через всю степь, из рода в род, из кочевья в кочевье. Созвал в гости всех турэ кипчакских. родов, уважаемых старцев, славных батыров. Но мало этого, мало, мало! Кипчаки – одна лишь ветвь башкирской страны. Птица души Богары, как быстрый беркут, ищущий добычи, летит, забирая в полете и весь Урал, и яицкие, сакмарские, демские берега.
И все он делал, как принято, согласно древним обычаям, старался помириться с тамьянами и минцами, а более того – с усергенами и бурзянами, позабыть старые обиды и жить в ладу. С этими помыслами он выдавал девушек из своего рода соседям, а для своих джигитов брал у них невест. Года через три-четыре уже почти все большие турэ с берегов Сакмары, Ника и Демы стали сватами дома Богары.
7
– Вставай же, вставай, йырау!
Кто-то тронул его за плечо – словно мать коснулась. Почему же не скажет «сыночек» или «дитятко», а все:
– Проснись, сэсэн, гость к нам пожаловал.
И еще, ну разве поверишь?
– От Йылкыбая-певца тебе привет доставил. Вот и бужу, разве посмела бы…
Хабрау вздрогнул, открыл глаза. Вот кто будил его – Карасэс.
– Тебя ждет, – сказала она и быстрой своей походкой вышла из юрты.
Сладкий сон Хабрау будто рукой сняло, в легкой тоске, что обманулся сквозь сон, почудилась мать, он накинул зилян и вышел из юрты.
Гость, большой солидный мужчина лет тридцати пяти, действительно приехал из страны усергенов, из кочевья Голубого Волка. Он бросил на Хабрау недоверчивый взгляд и чуть заметно покачал головой. Однако поздоровался двумя руками и передал от славного Йылкыбая привет.
Хабрау ввел его в юрту. За айраном гость сообщил, что на будущей неделе в кочевье Голубого Волка соберутся известные сэсэны бурзян, тамьянов и минцев и что Йылкыбай будет петь свои новые кубаиры.
Очень спешит, оказывается, гонец. Переночевал в соседнем с усергенами ауле сарышей, позавтракал у них еще до света, так что теперь угощения ждать ему недосуг, завтра вечером должен быть в верховьях Демы, передать сэсэнам минских земель приглашение Йылкыбая.
Уже сидя на лошади, гонец опять с тем же недоумением покачал головой.
– Через три дня выходи в путь, сэсэн, – сказал он и поехал дальше.
Было гонцу отчего покачать головой. Парню-то всего, видно, лет двадцать, никто о нем дальше кипчакских кочевий и не слыхивал, а вот Йылкыбай, имя которого сам гонец всегда произносит с почтением, песни которого заучивает и поет народ, про этого Хабрау уже знает! Мало того что знает – гонца за ним послал. Вот и смотри на этого тонкоусого и удивляйся…
С малых лет научился Хабрау играть на домбре и на курае, что душа подскажет – на мелодию перекладывал. Чем душа нальется, то мелодией изливал. Он еще до самаркандского путешествия на вечерних играх среди молодежи, а изредка и во взрослом застолье показывал свое умение. Но о том, чтобы стать сэсэном и выйти на состязание с другими сэсэнами, мог еще только мечтать. Кочевал с отцом и матерью, с аулом вместе… Вот и он, тоже уставившись скотине в хвост, так и бродил бы за стадами следом, как подхваченное ветром перекати-поле, – то в гору, то с горы, с одного края степи на другой. Так и жизнь бы прошла. А что еще остается человеку, когда мечты его не выше бараньей холки, а кругозор не дальше своего кочевья? В это лихолетье путы косности и невежества могут разорвать лишь люди с крылатой душой, вроде Йылкыбая, но таких из тысячи тысяч – единицы…
Нет, богатства, слава, положение, честь-почести Хабрау не манят. Одна мечта, одна забота: дать хоть каплю света, хоть чуточку знаний своему народу. Вот учит он грамоте десятерых ребятишек, а надо бы тысячу. Вот если бы не в каждом становье, так хотя бы в каждом кочевье был хоть один учитель. Но, скажем, появился учитель, так еще бумага, книги нужны – опять бедному кочевнику не по достатку. Вспомнил Хабрау о стариках и вздохнул только. У этих от всяческих суеверий уже ум за разум зашел, его за юродивого считают. А турэ вроде Байгильде, те просто грозят исламом и Ордой.
Недавно Хабрау заезжал к сайканам, искал желающих, которые отправили бы своих детей учиться в кочевье Богары. Сидели человек десять в юрте старого приятеля покойного Кылыса, отца Хабрау, и мирно беседовали, как вдруг вошел Байгильде. Как понял, о чем идет речь, вскипел сайканский турэ, раскричался: все, дескать, науки – источник смуты и непослушания, ногаи прознают, так на каленую сковородку посадят; чем пустое толочь, лучше бы чернь в святом слове наставлял! И конечно, пятеро, совсем уже было согласившихся отдать своих детей в ученье, тут же отказались…
Мысли Хабрау, побродив где-то, снова возвращаются к яростным, мятежным кубаирам Йылкыбая-йырау. Но почему собственные его, Хабрау, кубаиры, сочиненные в подражание йылкыбаевским, похожи на жеребенка, еле ковыляющего на шатких ногах? Нет, перед народом их петь еще рано. Спел бы, но идут они, тянутся и вдруг напевом и словами, всем ладом и складом в кубаиры старого йырау и утянутся. Чего-то не хватает ему своего, собственного, а чего – он и сам не поймет. Страсть в душе есть, и боль жжет за землю, за свой народ, а вот слов таких, как у Йылкыбая, которые огнем пышут, у него нет. Что найдет – или не свои, или тусклые какие-то, не звенят, а побрякивают, и весь жар их в груди певца остается. Странно, как это усергенский йырау о нем услышал? Даже нарочного послал! Может, слышал кто, как кипчакский парень поет его песни, и донес ему, вот и зовет на суд и расправу. Мол, зачем мои песни на свой лад поешь? Вот стыд-то!
Так до сих пор Хабрау к нему не съездил. С одной стороны, робость удерживала: как это он вдруг возьмет и заявится к знаменитому сэсэну? С другой стороны, как-то больше стал верить Богаре и не хотел его ослушаться. Что ни говори, а ради единения страны бьется сарышский турэ. И Хабрау в его трудах поддерживает. Оттого и не мог сэсэн не посчитаться с его словами.
Но теперь, одолев сомнения и не думая, согласится Богара или нет, Хабрау начал собираться в дорогу. А Богара вдруг не только согласился, но даже хотел дать ему в спутники трех-четырех джигитов. Но Хабрау отказался: «Что я, большой турэ или славный в стране человек, чтобы с охраной ездить?» Но все же, чтобы уважить его слова, взял лук с сагайдаком и к седлу, рядом с домброй, привесил увесистую дубинку.
Сильное усергенское племя владело междуречьем Яика и Сакмары. Они, как и кипчаки, племя Хабрау, издавна стояли вдоль Урала крепким щитом против ногаев, опоры Орды.
Затихнув было на короткое время, опять вспыхнули междоусобицы. Дороги неспокойны. Потому и не хотел Богара, чтобы сэсэн ехал один, боялся, что наткнется на ордынский разъезд.







