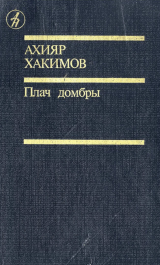
Текст книги "Плач домбры"
Автор книги: Ахияр Хакимов
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 38 (всего у книги 41 страниц)
Шагает Самат, весь в мечтах о будущих вольных днях, и нет-нет да и сунет руку в карман, оторвет какой-то бумаги кусочек. Кусочку же путь известный – прямиком в рот. Пожует, выплюнет, и опять рука сама в карман лезет. Голова далеко, а рукой Зульпикей водит.
Читатель, наверное, уже понял, чем дело кончилось? Вот именно, пока дошли до Каратау, метрика, свидетельство об окончании восьмилетки, справки, взятые в колхозе и сельсовете, были съедены.
Пусть теперь и скажет дотошный читатель, какой ношей, каким бременем легла безмерная доброта Бибисары на плечи сына. Если бы она на каждый его чих не молилась, если бы нашла средство вроде того, которое когда-то применили к левой руке автора, если бы отвадила его от привычки жевать бумагу – свалилась бы на них эта беда? Ладно еще, пожалели материнские слезы, выдали новое свидетельство.
Это сказать просто – выдали. Самое меньшее по пять раз ходила Бибисара в яктыкульскую школу и в каратауское роно. И каждый раз надо объяснять все заново. Расскажешь – не верят, а поверят – смеются. Им – смех, матери – слезы. Понятно, Самат в техникум опоздал. Дело отложили на год, а потом еще на один. Тем временем мамин баловень стал парнем, и пришла ему пора идти в армию.
Полное описание того, как Бибисара провожала сына в армию, само по себе могло бы занять целую книгу, потолще даже, чем последний роман Нугушева. Но автор решил свое путешествие в историю на этом прервать. К тому же плач матери, надрывающейся по своему ребенку, се обмороки и причитания, как говорит друг-критик: не являются типичными чертами нашей эпохи. Признаться, автор и сам слез не выносит, сразу душа раскисает.
Упомянем только, что зоркое армейское начальство заметило страсть Самата к бумаге и определило его в ротные писари. Но, к добру ли, нет ли, очень скоро вернули Самата под начало старшины. Причина уже знакомая: у всех прошедших через его руки военных документов, словно мышка изгрызла, были оторваны уголки.
Но прошел срок, вернулся Самат в родной аул. Служба в армии, пошла ему на пользу – вся грудь в значках и сержант от привычки жевать бумагу отучил. Ростом вытянулся, плечи немногим уже отцовских. В самый бы раз джигиту засучить рукава и взяться за достойную, требующую молодых сил работу хлебороба. Он и сам так думал. Однако мать думала по-другому. Когда старик, двадцать пять лет просидевший секретарем в сельсовете, вышел на пенсию, Бибисара собралась в лепешку расшибиться, но посадить на его место своего ненаглядного сына. Но расшибаться не пришлось. На этот стул конкурса не было. Молодежь в ауле предпочитает трактор, комбайн или машину – работа веселая, зарплата хорошая. И все же Самата взяли с испытательным сроком. Через две недели, убедившись, что углы у всех бумаг в целости-сохранности, утвердили в должности.
Сколько ни сопротивлялся Самат, но святой материнской доброты не смог одолеть и на этот раз, пошел в секретари. Отец, видя, как мускулы сына, которые поначалу, когда вернулся из армии, распирали рубашку, теперь дрябнут и опадают, лишь безнадежно качал головой: «Эх, если уж агрономом стать не смог, так хоть на трактор бы его посадить! На самосвал! Мужская ли работа – бумагами шуршать?»
Бибисара же была довольна: сын на солидной службе. С одной стороны – не надрывается, с ног до головы в поту, в грязи, в бензине и масле не ходит, и переживать, что побьется и покалечится, не нужно. С другой стороны – один почет чего стоит! В семи аулах механизаторов, если посчитать, сто или больше, а секретарь сельсовета – один.
Но Самат прекрасно понимал, что с такими парнями, как Гата и Алтынгужин – один мир повидал, с профессией вернулся, другой институт закончил, главный зоотехник колхоза, – ему состязаться будет трудно. Но если из-за Танхылыу, он и не собирается. Коли на то пошло, неизвестно еще, есть ли в Куштиряке девушка, что бы могла сравниться с его Галимой! Только другие парни не видят, какая она красивая. И хорошо, что не видят, Самату же спокойней. Он-то все видит: и красоту ее, и ум ее, и скромность.
А главное, Галима тоже что-то в Самате разглядела. И даже… уж не любит ли? Эх, если бы так! Зря отец с матерью взахлеб твердят: Танхылыу да Танхылыу, красивая да работящая. Галима тоже на своей работе, в медпункте, плохо не работает, ее все время хвалят. Спокойная, приветливая, одна ее улыбка, мягкая, чуть сдержанная, чего стоит. А что ростом маловата, так это разве недостаток? На то и золото, чтоб самородочком. Нет, никто больше не нужен Самату. Пошумят-пошумят отец с матерью и согласятся, счастью сына поперек не станут. Они все по старинке думают, такие вещи, как любовь, во внимание не берут. Вот и сегодня мать: «Ступай, скажи. На другую нашего согласия нет!» – будто за какой хозяйственной надобностью, отправила его к Танхылыу. А он договорился сегодня вечером встретиться с Галимой. Если же вопреки всем уговорам после клуба увяжется за Танхылыу, как ему потом перед Галимой оправдаться? Она и без того, словно чуткая косуля, на каждое его слово настораживается. «Если такую девушку обидишь, не джигит ты больше!» – сказал себе Самат и для убедительности сжал в кармане кулак. Пригрозить-то он себе пригрозил, но и дома придется ответ держать. Взял бы и отрезал: «Не видел Танхылыу и видеть не хочу!» – но матери жаль. В последние год-полтора она хоть виду и не подает, но все чаще хватается за сердце…
Танцы в клубе в этот вечер были «под Бахтина». Из-за музыки ли, из-за того ли, что девушки-доярки не пришли, а может, еще по какой причине веселились вяло, молодежь, как обычно, не бесновалась. Самат тоже в круг не пошел, сел в сторонке, взглядом поискал Галиму. Ее не было. Он направился к парням, но кто-то дернул за рукав. Оказывается, Гата.
– Ых-хым! Чего не пляшешь?.. Слово к тебе есть. Выйдем?
Самату было все равно, можно и выйти. Чем сидеть и кукситься, лучше воздухом подышать. На улице хоть людям твоей унылой физиономии не видно.
Еще с крыльца не сошли, Гата спросил:
– Ты костюм какой размер носишь?
Самат удивился:
– А тебе зачем? Костюм, что ли, продаешь?
– Надо, вот и спрашиваю.
– Хм. Пятидесятый, рост третий.
– И я так думал. Пятидесятый. На размер меньше… – пробормотал Гата, потом сжал Самата за локоть: —Ых-хым! Это… А чего же ты тогда к Танхылыу пристаешь?
Еще больше удивился Самат. Странные повадки Гаты известны, но чтобы настолько…
– А при чем костюм, при чем Танхылыу?
– Значит, при чем!.. Давай-ка, Самат, выясним отношения. По-дружески говорю: ты мне поперек дороги не становись!
Видали? Вот как поставил вопрос Гата. Человек, который в другое время и двух слов связать не мог, больше на междометиях выезжал, – вон как заговорил! О любовь! Сила твоя безмерна! Трусливого храбрым делаешь, слабого – сильным, заику – златоустом. Все ты!
А Самат, наоборот, похоже, все слова растерял.
– На дорогу?.. Какую?.. – промямлил он.
– Ты не придуривайся! – И Гата упер культяпный палец ему в грудь: – Ты, ты… ходишь, на Танхылыу рассчитываешь…
И тут, словно соловьиный щебет, пробившийся сквозь шум леса, раздался мягкий голос:
– Самат-агай?
– Галима! – вскрикнул Самат и, оттолкнув Гату Матроса, шагнул к девушке, поднял ее и покружил.
И двое влюбленных, говоря какие-то бессвязные слова, тихо посмеиваясь, пошли темным переулком. Гата же посмотрел им вслед и, вновь утратив незатянувшееся свое красноречие, сказал:
– Тьфу, абитуриент! – и почесал затылок.
Автору тоже ничего не остается, как повторить жест Гаты, ибо стоит он, как витязь возле камня, и не знает, как быть. Следом за Саматом и Галимой пойти или рядом с Гатой остаться? Пошел бы следом за влюбленными – глава-то как-никак о Сыртлановых, – но стесняется, боится им помешать; Вернулся бы к своему так долго ходившему без присмотра герою, да жаль нарушать плавное течение повествования. Беда, беда…
Подумал, подумал автор и решил сразу за двумя зайцами погнаться. Хотя, конечно, друг-критик случая не упустит, опять начнет пилить.
Гата дочесал затылок и расхохотался. Взлетел на высокое крыльцо, из десяти ступенек и двух не коснувшись, распахнул дверь и ворвался в клуб.
– Ставь быструю пластинку! – сказал он мальчишке возле аппарата.
И только мальчик поставил пластинку, как подремывавшие возле стены парни вскинули головы и начали дергаться. Через каких-нибудь десять оборотов пластинки клуб уже весь дрожал.
Оттого грохот поднялся так быстро, что, во-первых, ко всем перешел задор Гаты, во-вторых, новая пластинка, которую Алтынгужин привез на днях из Уфы, оказалась не похожей на прежние пластинки композитора Бахтина. Мелодия вроде и его, но по шуму больше на магнитофон Гаты похожа. Значит, и Бахтин на месте не сидит, за старое не цепляется, а подчиняется запросам времени.
В эту минуту Гата от радости готов был обнять всю вселенную. Если не вселенную, так всю собравшуюся в клубе молодежь. Вот он, закинув назад голову, размахивая руками, то с одной девушкой кружится, то с другой. Даже то, что музыка не из его магнитофона, а ничем не хуже, не задевает его. В этот час от мучительного чувства ревности Гата был свободен. Одно жаль, не видит любимая его радости. Ни Танхылыу, ни девушек-доярок, ни Алтынгужина, распорядителя сегодняшнего вечера, в клубе не было. Как слышал Гата, на ферме какое-то собрание и все там.
Уже час пляшет Гата. Наверное, Самат с Галимой вдоволь наговорились, слова, какие хотели сказать друг другу, уже все высказали. Впрочем, разве такие слова кончаются? (Видать, автор уже заговариваться начал.) Если даже божьим промыслом две ночи кряду, без дня, придутся, все равно влюбленным времени не хватит, они даже не заметят ничего. Тепло ли, холодно ли, пусть хоть дождь льет, хоть камни с неба сыплются – им все нипочем. И Самат с Галимой на мороз бы не смотрели, так скоро не расстались, по мать Галимы строго-настрого наказала дочери долго не ходить.
Самат не хотел отпускать ее домой, просил, даже обидеться попробовал – не уговорил. Но уже возле ворот, то ли вину свою хоть как-то искупить хотела, то ли просто чувств своих не сдержала, Галима чмок! – и поцеловала его. Когда Самат пришел в себя, уже стукнула калитка и он стоял один.
Самат, чтоб сохранить тепло ее дыхания, прикрыл ладонью щеку – там, где она поцеловала, и пошел, куда несли ноги. Пройдет немного и, забыв, что он человек при должности, представитель местной власти, подпрыгнет, как мальчишка, пройдет немного и опять подпрыгнет. При этом руки со щеки не отпускает. И так распрыгался, что налетел на Гату.
– Ых-хым! – сказал Гата. – Когда выпить успел… Постой-ка, Самат. Ты… это… дай пять!
– А? Что? – спросил Самат. Сам он уже стоял, но душа еще прыгала.
– Дай, говорю, руку. На дружбу!
– На, – сказал Самат нерешительно. Чтобы протянуть руку, ему пришлось убрать ее со щеки. Но только убрал, как сразу вспомнил, что он – Сыртланов, а Гата – Урманбаев.
Гата, видно, тоже подумал об этом.
– Это… плюнь. Нам делить нечего. И среди Сыртлановых, оказывается, хорошие парни есть.
Действительно. И какое им, молодым, дело до той из старины тянущейся распри? Им не в прошлом, им сегодня жить.
Кто знает, может, с этого рукопожатия двух парней когда-нибудь между двумя родами, двумя лагерями установится мир и согласие? Ведь и сближение целых стран начинается с того, что встречаются два представителя, присматриваются друг к другу, потом находят общий язык и говорят: «Дай пять».
9
Как это?.. В тихом омуте черти водятся? Наверное, это сказано про Самата. Мягкий, покладистый с виду парень вдруг уперся, как упрямая лошадь, и ни с места. Идти, куда мать с отцом заворачивают, не хочет никак.
После встречи с Гатой Самат три вечера подряд провожал Галиму. Бибисара, ждавшая от сына совсем другого, узнав об этом, схватилась за сердце, полежала с полчаса, а потом, показав на стул, посадила собравшегося куда-то Самата возле себя.
– Это правда?
Самат понял, о чем опа спрашивает, и опустил голову.
– Разве я тебя Хатире в зятья растила? Вот какая мне награда за все мои заботы, за все мои выплаканные слезы, за то, что мухе на тебя сесть не давала!
– Мама, я только Галиму люблю и больше никого. Вот увидишь, все будет хорошо. Зря только расстраиваешься.
– Зря, говорит! Эх, детка, детка, так как же я эту Хатиру сватьей называть буду? – запричитала сквозь слезы Бибисара. – И что, дом у них состоятельный, нашему равный? Мало того, и вся родня-порода – сплошь эти самые Урманбаевы. Твой отец их и за людей не считает, на ножи с ними готов. Всем складом-характером чужая эта твоя коротышка.
Самат очутился меж двух огней. И слезы матери дороги, и Галиму жаль. Но дальше отступать уже было некуда.
– Конечно, Танхылыу – девушка не простая, на виду. Но ты же джигит, коли уж потянулся – тянись за яблочком, что повыше висит, – пробовала она сыграть на самолюбии сына. Когда же и это не помогло, перешла к житейским доводам: – Сам подумай, две ваши зарплаты сложить – только-только на еду хватит. Как жить-то думаете?
– Будет день, будет пища, руки у нас покамест не отсохли. Работать будем, скотину будем держать. И зарплата у нас не маленькая, зря говоришь. – Самат нерешительно встал со стула.
Но Бибисара посадила его обратно. Если Самат будет так упрямиться, гнула она свое, то и отец заупрямится и большой, веселой, на весь Куштиряк свадьбы не будет, он Галиму и на порог не пустит, и помощи никакой они не получат, узнают, каково без родительской-то помощи и благословения.
– Эх, сынок, чужой греха не отпустит, говорят. Будет трудно, к кому пойдешь? Ты ведь не дитя малое. Еще не поздно, поговори с Танхылыу. Она твоего слова ждет. А дойдут эти слухи до нее, будешь локти кусать…
– Хватит, мама! – оборвал ее Самат, злясь, что под напором материнских слов опять слабнет его воля. – Неужели в такую, как сама говоришь, красивую пору будут два здоровых человека голодные и раздетые ходить? Мне вашего добра не нужно.
– Не нужно, говоришь! Для кого же я стараюсь?
– Если для меня, то зря стараешься. И так за вас стыдно! Разве нельзя просто, по-человечески жить? – Самат резко встал, прошелся до окна и обратно. Видать, и в его бумажных жилах вскипела куштирякская кровь.
– Пожалеешь, ай-хай, пожалеешь!.. – снова начала Бибисара, но Самат не слушал ее причитаний, повернулся и (небывалый случай), ступая твердо, увесисто, вышел из дому.
Вот так, уважаемый читатель. Герои, ступая твердо, увесисто, уходят куда хотят и делают что хотят. А отдуваться будет автор. Придется ему, помня наставления друга-критика, раскрыть, так сказать, внутренние пружины событий, объяснить, что к чему.
Откуда, к примеру, вдруг у Бибисары такая спесь? Почему Галиму, а больше Галимы – ее мать, Хатиру, даже знать не хочет? Оттого ли, что Хатира одна живет, без мужа, и такого хозяйства, как Юламан с Бибисарой, не нажила? Нет, насчет добра да приданого пусть Юламан думает, а у Бибисары свой счет.
Придется, видимо, опять обратиться к истории.
Вместе играли когда-то, вместе росли Бибисара с Ха-тирой, четыре года в куштирякской школе на одной парте сидели, потом три года, за руки взявшись, ходили в яктыкульскую семилетку. Казалось, меж двух закадычных подруг и ветерок не проскользнет. Думы – одни, мечты – пополам, даже одевались похоже. Кто знает, может, эта детская дружба до сих пор бы не остыла, но там, где не проскользнул ветер, пролезла и разъединила их любовь.
Бибисара с Хатирой на колхозную работу начали ходить, уже почти в девушек вытянулись, уже взгляды парней начали останавливаться на них, да и сами уже тайком да мельком поглядывали на них. Как раз тогда началось и восхождение Юламана наверх. Известно, молодому передовому трактористу не только начальство, но и девушки внимания больше уделяют. И Хатира с Бибисарой на него все чаще поглядывают, не на работе, так на вечерних играх шуткой ли, задиристым ли словом в него пустят. Поначалу Юламан подружек вроде и не замечал, взгляды и шутки пролетали мимо. Но в один вечер вдруг подхватил он Хатиру под руку и пошел провожать.
О долгих ночных слезах Бибисары, о мстительных планах, какие против Юламана, а того больше – против подружки строила, мы говорить не будем. И без того ясно. Есть ли чувство злее ревности! Слезы, рыдания, коварные оговоры, яд в бокале, удар кинжалом из-за угла и поздние раскаяния – все от нее. Впрочем, у Бибисары, кроме слез да всхлипов, ничего другого под рукой не было. Но и слез своих она людям не выдала. Сердце на огне ревности воском истаяло, но подружке ни слова не обронила. А Юламан, похоже, нашел, кого искал. Как вечер в клубе, он Хатиру провожает. Прослышали, что и в Каратау вместе ездили. А когда однажды вечером он прошел мимо дома Хатиры и пропел: «Чем сжигать в тоске-печали, лучше брось меня в огонь», – больше Бибисара не вынесла, зажмурилась и, как отчаянный человек бросается в кипящую пучину, бросилась в схватку.
В те годы и тракторы, и трактористы были в подчинении МТС. Их МТС находилась в шести-семи километрах от Куштиряка, в ауле Тимерсе. Трактористы всю зиму живут там, ремонтируют тракторы, готовятся к весеннему севу. И Юламан неделями там безвылазно, изредка только наведывался домой. Правда, как Хатира приглянулась, он то и дело в аул торопился. Ради одного вечера – семь километров сюда, семь обратно. Промедлит Бибисара еще немного – и придется ей на подружкиной свадьбе плясать да, от ревности притопывая, горькие слезы глотать.
Начала Бибисара с того, что первый раз в жизни выщипала брови, припудрила лицо и приоделась, принарядилась по тогдашним возможностям. Потом от матери тайком увязала в платок четверть гуся, фунтовый катышек масла, хлеба полкаравая, пару суровой ниткой прошитых кожаных рукавиц, пару белых шерстяных перчаток и в дымящееся от мороза утро пошла в МТС. Проводником ей был, разумеется, Зульпикей.
Увидев Юламана, Бибисара подошла к нему и заводить речь издалека, говорить намеками не стала, по-куштирякскому обычаю резанула напрямик:
– К тебе пришла. Скажешь «уйди» – повернусь и уйду.
Юламан особенно не удивился. Посмотрел, как она, продев руку в узелок, дует на красные озябшие пальцы, сжал ее две руки в горсти, начал отогревать. Сходил отпросился и повел Бибисару к себе на квартиру. Хозяйка, не в пример другим бабам, допытываться, голову ломать и, как говорится, из пустого невесть что выискивать не стала. Дело-то обычное. Помогла накрыть стол, нашла повод и ушла…
Так поженились Юламан с Бибисарой. Через год и Хатира замуж вышла. Каждая своей семьей зажили. Но дружба их с тех пор – в мелкие, конечно, кусочки. Как-то Хатира, которая нашла свое счастье и на подружку теперь, как поначалу, уже не сердилась, сделала было шаг к примирению, так Бибисара и близко ее не подпустила.
И тоже дело знакомое: позавидует кому-то человек, сделает зло, потом обиженный-то у него и в злыднях ходит. Уж куда бы справедливей было, если бы Хатира на Бибисару зло затаила. Нет, Хатира же, видите ли, и виновата. Даже четыре года назад, когда, похоронив умершего от инфаркта мужа, Хатира сидела в черном горе, Бибисара, сославшись на собственную болезнь, не пошла к ней, горя ей не облегчила.
И вот теперь эти два дома должны войти в свойство. Коли не одолеет сына Бибисара, то хочет не хочет, а должна будет Хатиру как сватью во главе стола сажать, да и к ней в дом захаживать. А там и оглянуться не успеешь, как одному ребенку с двух сторон двумя бабушками станут!
Как подумает Бибисара об этом, работа с рук валится, кусок в горло не идет. Сначала мужа, который позже обычного вернулся и, как нарочно, слегка навеселе, в пух разнесла, потом немного отдышалась и отправилась к Танхылыу. Повидалась с ней, рассказала, как сама выходила замуж. Намек ясен: коли, дескать, Самата любишь – бери уздечку в свои руки, вот как я.
Но Танхылыу в этот раз не обнадежила. Да и сама, с тех пор как вышла на работу, смотрит невесело, будто потеряла или ждет чего-то. Мало того, еще и уму-разуму учит: «Пустые хлопоты, енге. Уже весь аул знает, что Самат с Галимой любят друг друга. Возьмите и сыграйте свадьбу. Лучше Галимы снохи не найдешь». – «А ты как же? Не жалко любимого другой отдать? Я вот, когда…» Танхылыу, видать, все забыла – и вздохи, и уверения свои, и мечты о том, как бы стать невесткой Бибисары, отмахнулась досадливо: «Милый-то мой – другой». Вот она, нынешняя молодежь, просто удивление! Сегодня одного любит, завтра уже другого…
Юламан же, так и не уломав сына, понял наконец, что тут «наша не давит» и в таком щекотливом деле угол не срежешь. Решил взяться за дело с другой стороны – пошел к Галиме.
В теплом, чисто убранном медпункте Галима сидела одна. При виде Юламана она встала и, потупив взор, сказала:
– Добро пожаловать, Юламан-агай! Приболел, никак?
Посмотрел Юламан на нее и, забыв все приготовленные слова, все раздражение, что изжогой изводило его в последние дни, опустился на стул.
Галима, веретеном снуя возле него, о чем-то расспрашивала, а Юламан, то ли слышал, что она говорит, то ли нет, только кивал: «Да, да…»
Наконец он встал, нахлобучил шапку, подумал о чем-то, усмехнулся и, подмигнув ей, сказал:
– Бибисара валидол просила.
Выйдя на улицу, он постоял, вспоминая, как маленькая Галима быстро сновала по комнате, покачал головой и, прошептав: «Ишь веретенышко!» – вдруг расхохотался. И впрямь смешно: пошел человек, полный решимости, наша, дескать, давит, Галиму отругать, Самата от нее отвадить, а сам, как теленок, тут же размяк.
Подошла топотушка Галима к нему, а Юламан – сон ли это, явь ли – вспомнил годы своей молодости, и встала перед глазами Хатира. Если не считать короткой прически и белого халата – та самая Хатира, к которой когда-то так неравнодушен был Юламан. Она тоже, бывало, посмотрит полным до краев взглядом и поправит туго, до треска, заплетенные косы. Эх, жизнь, жизнь! Где вы, встречи, ночные дороги между Куштиряком и МТС, чувства-страдания, только вчера ведь были! Не встань тогда Бибисара так решительно меж ними, кто знает, возможно… Впрочем, что теперь-то об этом думать? Минувшему – исполать! Но словно яркий луч вдруг осветил его заскорузлое, огрубевшее в тяжбах с людьми, с неурядицами, с самим собой сознание. Нет, это было не сожаление. С Бибисарой он не оплошал, хорошо живут. И сам еще в силе, от железа, как говорится, отщипнет, и со счетов его, как некоторые думают, еще не скинули. А все душа неспокойна, скребется в ней какое-то непривычное недовольство. Сам он с собой не согласен, с делами своими, с поступками…
Весь день пролежал он, вытянувшись на диване. Подходила жена, спрашивала, беспокоясь: «Уж не заболел ли ты? Чая горячего попил бы», – ничего не отвечал. Даже к ужину не встал. Когда же Бибисара, покормив детей, сходила в хлев, задала скотине сена и, еще ежась от холода, присела к нему на краешек дивана, он только глянул и тут же отвернулся.
– Отец, говорю, послушай, что с тобой? Если ничего не болит, время ли сейчас разлеживаться? Самат твой совсем с привязи сорвался. Словно отбившаяся от рук скотина, и дорогу домой забыл. Ворота у Хатиры подпирает… – начала было жена, как Юламан, чуть не столкнув ее, вскочил с дивана и сел.
– Что ты к нему пристала? Если другую не хочет – шабаш! Пусть на Галиме женится. А ты не встревай!
От беспричинного крика, от слов мужа, обратных тем, что он говорил еще утром, Бибисара растерялась. Округлив в испуге глаза, она зажала рот, попятилась назад.
Юламан и сам уже понял, что чересчур хватил, и вскинутую, как говорится, дубинку мягко опустил на землю.
– Садись-ка, – сказал он, показав рядом с собой. – Ты не обижайся. Не по себе как-то…
– Обязательно кричать надо, – проворчала Бибисара, самим ворчанием давая понять, что согласна не ссориться. – Только словам твоим удивилась…
После разговора с Танхылыу надежды ее тоже поостыли. «На Танхылыу свет клином не сошелся. Если уже сейчас так воображает, потом от нее и подавно добра не жди. Пусть Самат, кого. сам хочет, приведет. Но только не дочку Хатиры!» – решила она.
И муж:
– Брось, женушка, не морочь парню голову. Танхылыу, видать, свой расчет держит, высоко глядит. Тут хоть режь – не глянулись мы им. Отец тоже, сколько раз я ходил, – взгляда приветливого не уделил.
– И то верно. Уж чего в ауле больше всего, так это девушек на выданье. Наш Самат такой – любую может выбрать.
– Уже выбрал, нас не спрашивал.
– Дочка Хатиры и в ворота не войдет! Рады бы вы с этой кикиморой за одним столом сидеть: «Пей, сват» да «Ешь, сватья»!
Мелет ведь, и язык не притомится! Как Юламан ни старался быть спокойным – сорвался:
– Нажми на тормоз! – взревел он и добавил уже потише – Чем тебе навредила Хатира? Живет себе мирно, работает рук не покладая, дети ухожены, дом под присмотром. Хозяйство не хуже, чем у тех, кто с мужьями.
– Сейчас словом коснуться не даешь, потом на руках ее будешь носить, – испуганно сказала Бибисара. – Может, ты и согласие уже дал?
– Никто на твое согласие или несогласие и не посмотрит, теперь молодежь сама решает. Ты ведь тоже ничьего согласия не спрашивала, – усмехнулся он. – А начнем упираться, над нами же будут смеяться. Вот о чем подумай, чем Хатиру обсуждать, которая давным-давно была да прошла.
– А зачем ее хвалишь? Мог бы и хоть одно худое слово про нее сказать, для жениного удовольствия.
– Да где такая жена, чтоб с моей сравниться могла! Иначе жил бы я с ней двадцать пять лет? – сказал Юламан и обнял жену за плечи.
– Хатиру этой рукой обнимал, теперь ко мне тянется! – оттолкнув его, проворчала Бибисара.
Разумеется, сказала не потому, что знала что-то. Да и причины для негодования особой нет. Дурной славы за Хатирой отродясь не было, и Юламан не озоровал, с пути не сбивался. Но того жена забыть не может, как муж, пока не остепенился, по Хатире маялся.
– Эх, дура, – рассмеялся Юламан, а Бибисара, надувшись, пересела на стул возле двери. Рассмеяться-то он рассмеялся, но случай один вспомнил.
Было это на пятый или шестой год, как они поженились. Нет, на седьмой, в то лето, когда бык Самата боднул.
Из долгожданного нового урожая колхозникам выдали на трудодни. Юламан вместе с Сагитом, мужем Хатиры, запрягли на двоих одну лошадь и поехали на мельницу. Прибыли они сразу после полудня, но прикинул Са-гит, увидел, что очередь дойдет только к ночи, и решил ехать домой, а вместо себя прислать Хатиру. Он работал на комбайне, должен был выйти в ночную смену.
Мужчины, известно, в очереди ждать не любят, сразу какое-нибудь развлечение ищут, чтобы время убить. Ну, а какое развлечение самое лучшее – тоже известно. Юламан и еще три мужика принялись уговаривать мельника. Порядком поторговавшись, старик достал им то, что они просили, за двойную цену.
Короче, когда, смолов хлеб, уже ночью вышли в обратный путь, Юламан был изрядно навеселе.
Августовский зной спал, однако ночь теплая, и мягкий ветерок подует порой. Бессчетные звезды в ясном небе перемигиваются, лунный серп льет слабый загадочный свет. И охватывает человека ночная печаль. И слов никаких не надо, о твоих чувствах сама природа за тебя беззвучно расскажет. Вот и путники молчат, то ли красотой ночи заворожены, то ли просто задумались. Телега, кренясь то вправо, то влево, подпрыгивая на мягких ухабах луговой дороги, укачивает их.
Каждый раз, как завалится телега, Хатира, качнувшись, касается Юламана. Раз задела, два задела, три… Юламан, уставясь лошади в хвост, начал было клевать носом, но тут насторожился. Тихо натянув вожжи, перевел трюхавшую кобылу на шаг. Телега закачалась плавней, заваливалась реже, но Хатира, будто того и ждала, еще больше прильнула к Юламану.
Ознобом, жаром омыло всего, забилось сердце. Юламан для проверки отсел на вершок. Нет, ладное, тонкое тело Хатиры все к нему клонится. Ясно… Не плошай, лев-мужчина! «Эх, Хатира!» – прошептал Юламан и обнял ее.
Хатира сначала причмокнула губами, вздохнула, потом встрепенулась, еще сонное ее тело выпрямилось, отвердело.
– Бесстыжий!.. – И плотный увесистый кулак въехал в скулу, у Юламана из глаз искры посыпались.
– Сама ведь… Убудет тебя, позолота с тебя сотрется… – забормотал Юламан и, зажав лицо ладонью, спрыгнул с телеги. Сорвал какой-то холодный листок, приложил к глазу. Весь хмель вылетел.
Хатира же плетью огрела лошадь, крикнула:
– Но-al Хау-але-ле! – и покатила к аулу, до которого оставалось уже совсем немного.
Когда Юламан доплелся до дома, запряженная лошадь стояла, привязанная к воротам, в телеге лежали два его мешка. Юламан одной рукой сгрузил мешки, распряг лошадь, а второй рукой держал на глазу последний оставшийся после веселья медный пятак. Потом и сырой глиной мазал. Но пользы от этих лекарств не вышло.
Утром за чаем Бибисара, заметив у мужа синяк под глазом, разохалась:
– Ох! Никак на мельнице с кем-то подрался, образина!
Юламан усмехнулся только:
– Было маленько.
Оттого и рассмеялся Юламан, когда Бибисара сказала: «Хатиру этой рукой обнимал, теперь ко мне тянется», – что вспомнил тот случай, который произошел много лет назад по дороге с мельницы.
– Эх, дура, – повторил он. – Верно говорят: волос у бабы долог, ум короток.
– Не знаю, чьим умом жизнь идет, – ерзнула на стуле Бибисара, но, не углубляясь в теорию, вернулась к практическим вопросам: – Лежит, зубы скалит. Если такой умный, встань и скажи: что будем делать?
– Что будем делатъ? Свадьбу сыграем, женушка! Наша давит! По правде говоря, хорошую невесту отхватил Самат, днем с огнем ищи, лучше не найдешь. Чуткий нюх оказался у пария! Всем хороша, грамотная, характер мягкий, и видом – что картинка!
– В девчонке ли дело! – опять заупрямилась Бибисара.
– Сказала! А в ком же?
– Возьмешь ее снохой, а что же выиграешь? Забыл, какие на Танхылыу надежды возлагал?
– Вот еще печаль! Ничего, Юламан сегодня же ноги протянуть не собирается. Тракториста вроде меня тоже поискать надо. Наша давит! Потом не забудь, у Хатиры братишка – кто? Заведующий райсобесом, самый нужный начальник!
Борьба на этом не закончилась. Споры, крики, слезы еще на несколько дней протянулись. Наконец на семейный майдан выступили основные силы. То есть Самат привел Галиму показать родителям.
Разумеется, Юламан с Бибисарой ее не в первый раз увидели, Галима у них на глазах выросла. Но на то и называются смотрины, чтобы смотрели.
Бибисара, хоть еще и не сдалась окончательно, неприветливость свою спрятала в карман. Как-никак девушка в первый раз пришла к ним в дом. Переоделась хозяйка в хорошее платье, накрыла стол к чаю. Сама накрывает, а мимоходом нет-нет да на молодых посмотрит. А у тех, хоть и стараются не показать, от радости лица горят. Глянет Бибисара на девушку и вздохнет тихонько. Ведь вся из себя – вылитая мать в молодости! Забывшись, Бибисара чуть ее подружкой не назвала, еле удержалась. Чаепитие, говоря дипломатическим языком, «прошло в теплой, дружеской атмосфере». Потом, когда перешли в другую комнату и посмотрели семейный альбом с фотографиями, Галима подошла к сверкающему как зеркало пианино.







