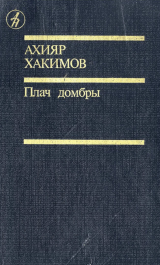
Текст книги "Плач домбры"
Автор книги: Ахияр Хакимов
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 31 (всего у книги 41 страниц)
После осенних дождей стояла сухая и ясная погода, природа ждала блаженного зимнего покоя. Однажды к вечеру Гата Матрос, поставив машину в гараж, пешком возвращался домой, как вдруг со стороны фермы с оглушительным треском вынесся мотоцикл. Гата еле успел отскочить в сторону. Только и заметил, что за рулем был Алтынгужин, позади сидела Танхылыу. Гата как стоял, так и застыл на месте. Головой помотал, проморгался – уж не мерещится ли? – на след мотоцикла посмотрел, затем себя всего оглядел. Наконец, очнувшись, сказал со злостью:
– Тьфу, абитуриент! – и ткнул кулаком в ладонь.
Кого он так обидно обозвал – Алтынгужина или себя самого, – осталось неизвестным. По догадке автора, и к пронырливости зоотехника, и к ротозейству Гаты наклейка эта подходила одинаково.
Все нутро парня занялось огнем. Выходит, письмо-то было написано не зря… А Танхылцу-то! Нет, ты только посмотри! Уже шелковым алтынгужинским языком улестилась! Эх, ты, простота куштирякская, того не знаешь, какие муки ожидают тебя впереди! И ведь кого на кого променяла! Нет, не бывать этому! Сегодня же повидаться с Танхылыу и все объяснить, раскрыть ей глаза!
Весь вечер, не находя себе места, носился взад-вперед Гата, каких только отчаянных планов не строил. Но в дело из них не годился ни один. Стоп, надо поглубже задуматься. Не заноситься. Надо еще раз доказать свое превосходство над зоотехником. Как можно скорей, иначе…
Наутро председатель с парторгом сели в уазик, приказали Гате отдыхать, а сами укатили в район. Гата пришел домой, натянул поверх бархатного пиджака кожаную куртку, сдвинул набекрень фуражку с медной капустой и выкатил сверкающий под осенним солнцем мотоцикл на улицу. На вопрос матери, куда это он собрался, только рукой махнул. Всем своим видом он напоминал собравшегося на опасную травлю охотника.
Только стремени коснулся, мотоцикл яростно затарахтел. Разгоняя гусиные выводки, Гата дал круг по главной улице и, оставляя позади клубы перьев и пуха, устремился к ферме. Понятно, дороги не выбирал, через выгон напрямик помчался.
Ты посмотри, как вовремя подоспел! Доброе дело добром и начинается. Только Гата подъехал к воротам фермы, как оттуда, словно яблочко по блюдечку, выкатилась Танхылыу. Видно, уже закончила утреннюю дойку.
– Как дела, Гата-агай? С чем пожаловал? – И улыбается, да еще приветливо так.
Выше мы уже говорили, что такие никчемные чувства, как страх, растерянность, Гате неизвестны. Он куштиряковец, значит, из тех, которые где ухватят, там и ломают. К тому же и педагогической каши из котелка Шамилова в свое время поел. Но тут глянул на девушку – стоит она, улыбается, от солнца щурится, – да так и обмяк.
– А… так просто… погода больно хорошая… председатель в район уехал… – что на язык подвернулось, то и пробормотал он.
– Ладно, прощай тогда, – сказала Танхылыу и, помахивая зажатым в руке белым халатом, зашагала к аулу. Махнет еще раза два халатом, словно птица, бьющая крылом, взлетит и скроется из глаз!
В это время со стороны аула донесся треск мотоцикла. Вспомнив, зачем приехал, Гата ругнул себя: «Эх, абитуриент! Эх, разиня!» – и подбавил газу своему подрагивающему от нетерпения рысаку.
– Давай садись! – сказал он, нагнав Танхылыу.
– Вот спасибо, вчера в клубе пятки натерла, до сих пор болят, – сказала она и, загадочно улыбнувшись, села на стоящий поперек дороги мотоцикл.
Сердце у Гаты пуще «Ижа» ярится, руки дрожат. «Стой!» – сказал себе джигит, пытаясь взнуздать расходившиеся чувства. Танхылыу, все с той же улыбкой, уселась поудобней и аккуратно натянула на себя накидку от коляски. Мотоцикл, словно ретивый конь, рванулся вперед. Они уже подъезжали к околице, когда навстречу им выехал Алтынгужин. При виде их он остановил мотоцикл. Гата с надменным видом, подобно древним римским легионерам, подняв правую руку на уровень плеча, приветствовал его, усмехнулся из-под усов и прибавил газу.
– Останови! – крикнула Танхылыу, легонько шлепнув его по куртке. – Поворачивай! – Но видя, что Гата поворачивать и не думает, принялась дубасить его кулаком по спине.
Поняв наконец, чего от него требуют, Гата повернул обратно. Короткую, всего-то на минутку, радость, чувство гордости и превосходства мигом сдуло. Увидев, что Алтынгужин не один, что сзади него сидит какой-то бородач, он немного успокоился. Но все же обида на Танхылыу, словно горячий огонек, упала на сердце. «Смотри, как дерется! – подумал он. – Увидела зоотехника, так меня уже и знать не хочет!»
– Как дела, друг Гата? Не обессудь, отвези Танхылыу обратно на ферму. У этого товарища к дояркам дело есть, – сказал Алтынгужин. – Потом, если не к спеху, обратно отвезешь.
Эх, Гата, Гата Матрос! Вот чьи приказания осталось тебе исполнять! А Танхылыу молчит, сидит посмеивается. На вопросительный взгляд Гаты кивнула только, и бровями показала на ферму.
– Подождать, что ли? – спросил Гата, когда она сошла с коляски.
– Еще спрашивает! Разве ты не за мной приезжал?
– Я… Это…
Танхылыу погрозила покрасневшему Гате пальцем и зашагала к воротам.
Прошло ли, нет ли полчаса – из ворот с шумом и смехом высыпали доярки. Танхылыу спокойно, по-хозяйски подошла и села в коляску.
– Спасибо, нашел время, подождал, – сказала она. – Для нашей районной газеты фотографировались. Бородач-то – корреспондент, я его сразу узнала.
Хоть она и приветливо говорила, настроение у Гаты уже пропало. Где уж там, как было задумано, вдвоем раза два из конца в конец по аулу прокатиться! Молча подвез к воротам Фаткуллы Кудрявого и стал ждать, когда Танхылыу вылезет из коляски. Та тоже – будто на такси приехала, не поговорила даже, головкой кивнула, ручкой махнула и пошла домой.
Только собрался Гата повернуть ручку газа, как из-за ворот послышались оханья-аханья и, полусогнутый, держась за поясницу, вышел отец Танхылыу – Фаткулла Кудрявый.
– Как поживаешь, Гата-сынок, здоров ли? – прокряхтел он. – Коли не очень торопишься, потерпи еще чуток. Обычай известен: чего у себя нет, у людей займешь… Просьба у меня к тебе есть.
Гата навострил уши. Он заглушил мотор и уставился Фаткулле Кудрявому в рот. Просьба у почтенного старика оказалась такая: сестра его, которая в Каратау в магазине работает, передала через людей: так, мол, и так, что просил, все приготовила, приезжай немедля, забирай. Только у самого Фаткуллы поясница стронулась, не то что в Каратау ехать – до ворот еле доплелся.
– Ых-хым! Мне – что! Враз туда и обратно, – не задумываясь, сказал Гата.
– Хай, сын своего отца! Спасибо, браток. На, коли так, деньги приготовлены. Ровно двести рублей. Только тут загвоздка есть… – старик перешел на шепот, – чтоб Танхылыу не узнала.
Что там купили, почему от Танхылыу в секрете, Гата спрашивать не стал, взвизгнули колеса по гальке – и он уже в пути. Между Куштиряком и Каратау – двенадцать километров. Как раз к обеду и вернется.
Эх, человек ты, человечек! Немного же нужно, чтобы поднялось у тебя настроение и душа расправила крылья. Вот ведь как все складно получилось! Гата от радости затянул самую задорную из магнитофонных мелодий. Захочет бог дать – сам на дорогу вынесет. Просьбу отца выполнил, значит, и к дочери подход будет легче найти. Усмехнувшись из-под усов, Гата представил, как кое-кто останется с носом, и от нетерпения издал клич:
– Эхе-хе-ей!
Клич-то он издал – дело нехитрое. Но, получив у продавщицы нужные товары, Гата встревоженно щелкнул языком. Чтобы понять причину этой внезапной тревоги, придется и нам заглянуть в большую картонную коробку, бережно уложенную в коляску мотоцикла.
Впрочем, не мешает взглянуть сначала на саму продавщицу. Что ни говори – сестра Фаткуллы Кудрявого, тетка Танхылыу. А следовательно? Вот именно. Коли дела на лад пойдут, и Гате – будущая тетушка. Такими серьезными вещами, как родство и свойство, пренебрегать нельзя. В Куштиряке этого не любят.
Хотя полное имя у продавщицы Гильмениса, все ее зовут просто Нисой. Уже лет пятнадцать как она уехала из Куштиряка. Вышла замуж в Каратау, потом отчего-то развелась и живет теперь одна, но, как слышно, хозяйствует не хуже, чем другая замужняя. Тут удивляться нечему, давно известно: куштиряковец нигде не пропадет. И Ниса не пропала, хоть образования всего пять или шесть классов.
Вот она сморщила маленький, как у брата, носик, сощурила глаза, таинственно погрозила Гате пальцем и громко рассмеялась. И не скажешь, что этой добротной кругленькой женщине уже под сорок, ужимки словно у сношки-молодушки. Насмеявшись вдоволь, она понизила голос:
– Ты, голубчик Гата, брату все это передай, когда Танхылыу дома не будет. Хорошо, если и в Куштиряке ничего не узнают. Ты уж не выдай, ладно? – И она положила в коробку дорогой мужской костюм, белое подвенечное платье и белые туфли на высоком каблуке.
Что за наваждение? Размер у Фаткуллы сорок восьмой, ростом, хоть на цыпочки встанет, выше второго не вышел. Этот же костюм пятьдесят второго размера, да еще четвертый рост. Значит, не ему обнова. Кому тогда? Это – первая загадка. Во-вторых, ни о какой свадьбе ни словечка, ни намека даже не слышно. Кого же Фаткулла Кудрявый собирается выдавать замуж? Разумеется, Танхылыу. Значит… Значит, покуда Гата Матрос искал брода, кто-то уже мост навел. Кто же этот проворный джигит? Алтынгужин? Но почему и отец Танхылыу, и тетка держат все в секрете, даже от нее самой? Странно…
Читатель, наверное, уже цонял, что в обратный путь Гата вышел с пасмурной душой, и в груди его не магнитофонные песни звучали, а тянулись родимые старинные куштирякские напевы. И день потускнел, и дорога плоха, и мотоцикл, до этого исправно гудевший, вдруг зачихал, закашлял, словно простуженный, – словом, сор на мусор, тьфу! А тут еще ребятня, возвращавшаяся из яктыкульской школы, травя душу, закричала:
– Дядя Гата Матрос, посади! Гата Матрос, дяденька, прокати! – и припустила следом.
«Нет, так не годится, – твердо сказал себе Гата, – так дело не пойдет. Если не сегодня, так завтра же надо встретиться с Танхылыу и поставить вопрос ребром». Это твердое решение дало силы Гате, и он не стал ронять своего достоинства и расспрашивать Фаткуллу о тайном смысле привезенных из Каратау подарков. «Терпение! – старался обуздать свои разгоряченные чувства джигит. – Сначала подуй…»
Вот и автор, видя, как все осложнилось, решил, что в таком деле срезать углы неуместно, и повторил вслед за своим героем: «Сначала подуй, потом пей». И слова, готовые сорваться с кончика пера на бумагу, со вздохом стряхнул обратно в чернильницу. Разумеется, читатель выкажет недовольство и потребует: «Ты же куштиряковец – режь напрямую!» Действительно, о какой свадьбе печется Фаткулла Кудрявый?
А баня? Как решилась ее судьба? О ком печали Танхылыу? А Алтынгужин? Почему такой смирный ходит, коготков даже не покажет? И т. д. и т. п. Все вопросы неотложные, и все ждут немедленного ответа. Но автор хорошо усвоил уроки своего друга-критика и тоже считает, что ответы здесь нужно искать глубже, заходить издалека.
Нет нужды объяснять уважаемому читателю, что жизнь – дело сложное, и все в ней рядом ходит, все перемешано – горе с радостью, правда с ложью, смех со слезами, мед с желчью. Возьмем для примера судьбу занимающего в нашем повествовании достойное место уважаемого Фаткуллы Кудрявого. Тут тоже всего намешано. Но если столь почтенный, мягкий, покладистый человек вцепился в старую баньку, и не столько в баньку, сколько в две сажени земли, и оттого уже столько лет разговаривает с односельчанами через плечо, значит, тут дело не в сквалыжничестве и не в дурном характере. Тут надо искать причину поважней. Это, пожалуй, поймут даже те из моих сокарандашников, которые написали одну повесть и три рассказа, тем себе и славу снискали. Итак, стараясь отделить истину от выдумки, расскажем о том, какое место Фаткулла Кудрявый занимает в истории Куштиряка.
Прямо скажем, прозвище Кудрявый, данное Фаткулле, – наследие проклятого прошлого. Всем известно, прежде Куштиряк страдал от голода, нищеты, невежества и всяких повальных болезней. Особенно мучились дети. (Конечно, Фаткулла родился на второй год революции, но ведь народ не сразу по-новому жить начал. Борьба-то за светлое будущее еще только разгоралась.) Маленькому Фаткулле и года не было, когда он заболел чесоткой. Противную эту болезнь запустили. Она расползалась по телу все больше и больше. Так понемногу добралась и до головы. И заговаривали ее, и кропили – пользы никакой. К семи годам голова мальчика превратилась в мокрый струп.
Отец Фаткуллы, – человек удалой, в семнадцатом году барские усадьбы разорял, – выгнал из дома старушку, знаменитую знахарку, и повез сына к врачу в Каратау. И двух месяцев не прошло, Фаткулла выздоровел… и стал Кудрявым. Блестящая, как зеркало, плешь осталась на всю жизнь.
Просто так над увечьем, над физическим недугом Куштиряк смеяться бы не стал и прозвища такого не придумал. Но какой-то плут пустил, говорят, выдумку, и на правду-то непохожую, но ей поверили.
Никто якобы Фаткуллу врачу не показывал, все было иначе. Когда мальчики вконец задразнили его паршой и не стали брать в игру – заразишь, дескать, – заплакал бедный ребенок и пошел к ветеринару.
– Агай, – подавив стыд, сказал якобы Фаткулла, – неужто нет лекарства этой башке?
Задумался ветеринар. И тут все мысли замутил ему Зульпикей.
– Есть, – сказал ветеринар, додумав свою думу. – Смажь сию башку куриным дерьмом. Только смотри, парень, три дня, три ночи тюбетейку не снимай. И все как рукой снимет. Струп засохнет, отпадет, и на его месте черные кудри вырастут.
Верно, как рукой сняло – и струп, и остатки редкими кустиками торчавших волос. И открылась миру лысина, свет которой не меркнет уже полвека. Как тут человека назвать? Или Кудрявым, или Дерьмовой башкой, больше никак. Подумал Куштиряк и решил, что Кудрявый – милосерднее.
Какая из двух версий истинная, какая ложная – автору неведомо. Доподлинно известно одно: покойной своей жене Фаткулла кур держать не разрешал, а налог по яйцам платил тем, что покупал на рынке.
Данных, касающихся тополя, ни в одной из этих версий еще нет. Тут надо обратиться уже к юности Фаткул-лы, к его военным годам. Дадим слово ему самому. Что-нибудь да выяснится.
– …Вот так, автор-браток, – продолжил рассказ Фаткулла Кудрявый с того места, откуда ему было удобней. – Хоть ты сызмалу в чужие края подался, но нравы-обычаи Куштиряка знаешь. И хорошее знаешь, и плохое. Сколько бы Яктыкуль ни цеплялся к нам, Куштиряк – он есть Куштиряк. Началась война, из ста семидесяти дворов аула сто человек сразу ушли на фронт. А до майских дней сорок пятого года к ним еще пятьдесят джигитов, которые вошли в солдатский возраст, прибавилось. Сколько всего получается? Сто пятьдесят? Из них восемьдесят два там и головы сложили, из вернувшихся половина – инвалиды…
«Эх, Куштиряк, Куштиряк! – вздохнул про себя и автор, печаль и восхищение смешались в этом вздохе. – И нужду, и голод, и непосильные страдания – все ты видел, все вытерпел. И все одолел, живешь, вперед шагаешь…»
– Что ж, и я не остался в стороне, – потянул хозяин нить беседы дальше. – Когда началась война, один из братьев в армии на действительной службе был, так прямо в огонь и шагнул, второго в сорок втором забрали. Оба не вернулись… Сам я при отце с матерью единственным кормильцем оставался до сорок третьего. Но пришел день, настал мой час…
– Да-а, похоже, досталось тебе…
Эта ненавязчивая реплика автора добавила рассказчику вдохновения.
– Было, брат, все было, – сказал он, жадно затянувшись своей махоркой. – Показал нам тогда фашист, чего прежде не видали… Летом сорок третьего под Харьковом вот сюда осколок ударил, – задрав рубашку, показал на правом боку шрам с ладонь величиной. – Ну, парень, скажу я тебе, маленький овраг, а перейти не можем. Днем немец головы поднять не дает, ночью немного продвинемся, так он на рассвете обратно нас отжимает. Как говорится, нищему и ветер супротив – то печет нещадно, то дождь льет, до костей пробирает. Гладкая, как вот эта (тут автор невольно бросил взгляд на его голову) ладонь, степь. Ты не думай, я снайпером был. – И он, прищурив глазки, сморщил свою унаследованную от дедов и прадедов пуговку и, довольный, разгладил усы. – Одна только загвоздка – где укрыться, чтобы пострелять? Говорю же, голая степь. Тогда лейтенант посылает меня к огромному тополю. В ясный день все немецкие мины и снаряды там падают, гроза начнется – все молнии по тополю бьют прямой наводкой. Потому что тополь этот и для фашистов, и для молний единственный ориентир, будь он неладен!..
– Видать, не из самых умных командиров был тот лейтенант, коли понапрасну солдат в пекло гонял, – вставил слово автор. Дескать, какова она, война, тоже понимает.
– Так-то оно так, но и его винить трудно, полмесяца, как на фронте, неопытный… Не скрою, братишка, я молнии с малых лет боюсь. Почему, спросишь, так скажу: в двадцать шестом году, в тополь («Тополь!» – вздрогнул автор), что возле нашего дома стоял, ударила молния, огонь на крышу перекинулся. Дотла мы в тот год погорели… Большая эта глупость – возле дома большие деревья сажать.
«Так-так-так-та-ак!» – сказал про себя автор. Вот оно! Говорил же, Фаткулла Кудрявый из-за чепухи скандала не поднимет, с миром тяжбу не заведет. Не такой он человек, чтобы достоинство свое ронять. Но прерывать рассказ нельзя. Сделал автор зарубку насчет этого важного исторического довода и, выражая неподдельный интерес к фронтовым похождениям хозяина, сказал:
– А дальше, агай, а дальше?
– А что дальше? Стоит тополь, ни перед немецкой, ни перед небесной артиллерией не гнется. В один день немец особенно взбесился. Тут гроза гремит, ливень льет, а он из пушек лупит по нашим позициям. С грохотом снаряды рвутся, с треском молнии разрываются – ураган, судный день! Вдруг – то ли от снаряда, то ли от молнии – огромная ветка переломилась и полетела вниз. Еле увернулся. И тут шагах в пятнадцати так грохнуло, что выросла копна огня. То ли молния, то ли снаряд. Подняло меня, бросило головой об тополь, и все… темно и пусто. Голову-то каска сберегла, есть, выходит, счастье. Но вот три ребра осколок переломал – что твой спичечный коробок, только хрустнули. Значит, снаряд это был. Ну, брат, и помучила рана! Пять месяцев провалялся в госпитале, еле выкарабкался. Но знать себя дает поныне. Чуть занепогодится, кашель душит…
Увлекательный рассказ Фаткуллы Кудрявого придется здесь прервать. Это не значит, что больше ему слова не дадут. Наоборот. Теперь автор сам будет кружить возле него, как пчела вокруг цветочка.
Из предыдущих событий читатель, верно, сделал вывод, что Фаткулла Кудрявый – человек весьма трудолюбивый. Но тут всего понемногу – и черного есть, и белого. Потому что он человек, то есть живая душа, или, как говорит друг-критик, субъект, индивидуум. А индивидуум же можно сравнить только с воробьиным яйцом – оба пестрые.
Но и читателя за то, что он поспешил с выводом, винить не приходится. Тут будет справедливей, если мы более увесистый конец палки опустим на тех ученых-литературоведов, которые выводят каноны литературы, основываясь на тех выдающихся книгах отдельных наших писателей, в которых судьбы человеческие – прямы, как путь летящей стрелы, а герои же – одни светлые, как молоко, и чистые, как вода, а другие – черны и плохо пахнут, ибо вываляны в дегте и в том, чем Фаткулла Кудрявый в детстве мазал голову. По этим канонам у положительного героя не должно быть и малого недостатка, а уж если у отрицательного героя хорошую черточку, маленькую-маленькую, бледненькую-бледненькую, заметят – беги, спасайся! Эта черточка для наших ученых мужей – словно красная тряпка для Капрала. Но автор – человек покладистый, в бой с ученостью не лезет, душевное согласие для него прежде всего. «Афарин, успехов в работе!» – говорит он, а историческое исследование вашего покорного слуги расшатывать основы вашей науки и не тщится. Цель у него скромная: к славе Куштиряка еще немного славы прибавить, только и всего.
Да, рассказ Фаткуллы придется прервать и взять нить повествования снова в свои руки. На Фаткуллу надежды нет, по извечной своей скромности самые важные о себе сведения он может опустить.
По понятной читателю причине Фаткулла в молодости был особенно стеснительным, а уж девушек, которым только дай над чем-нибудь посмеяться, боялся даже больше, чем молнии, – оттого и проходил до тридцати пяти холостым. Но жизнь свое берет! И на тридцать шестом году жизни полюбилась ему овдовевшая совсем юной, а теперь уже не юная, одинокая солдатка.
Хоть и плакала Фатима-енге[68], слезы на сажень расплескивала: «О господи, не вернулся мой суженый, – знать, выпало мне с тыквой этой кудрявой дни свои доживать!» – против сердца пошла, но потом привыкла. Пригрелись муж с женой друг к другу, думами делиться начали, хорошо зажили. Хоть и порядком ждать заставило, родилось и дитя. Стареющие родители с Танхылыу пылинки сдували. Злоязычные соседки посмеивались, что они под дочкин кубыз друг друга стараются переплясать. Теперь же, когда благоверная его оставила сей мир, дела у Фаткуллы будто бы совсем плохи. Как старику, которому под шестьдесят, общий язык найти с двадцатилетней девушкой? А характер у Танхылыу – ай-хай! Она даже колхозное начальство под свой норов подогнала…
Кто сказал, тот и прав. Людскую молву ситом не просеешь. Хочется им говорить, ну и пусть говорят, а мы свое продолжим.
В один, как говорится, прекрасный день (на самом деле ночью) по всей Нижней улице словно гром прогрохотал. Выглянул народ, что за поздняя гроза, но гром больше не повторился. Только услышали рев отъезжающих машин. Утром смотрят, в конце улицы бревна свалены – звонкая, желтая, как медовые соты, лиственница. Кто строится? Чьи молодые решили отделиться, своим домом зажить? Машин и след простыл, спросить не у кого, хозяин молчит, не объявляется. Головы ломать не стали. Чей бы ни был, дело хорошее, жить да радоваться. Тем временем и плотники прибыли. Работа закипела, за неделю встал сруб. Вот тут-то Куштиряк присел от удивления и хлопнул себя по бедрам: «Здорово живешь?!»
Автор тоже вынужден повторить это восклицание, выражающее крайнюю степень удивления. Новый, словно намазанный топленым маслом, сверкающий под осенним солнышком сруб оказался не чей-нибудь, а передовой доярки Танхылыу. И дом-то – чуть не с колхозный клуб, крыша не двухскатная, а шатровая, в четыре ската, окна еще шире городских вытаращились.
Пошли по аулу пересуды! «Что за невидаль, вся семья – отец и дочка, дом у них – на всю жизнь хватит. Не собирается же Танхылыу одна отделяться, это не в обычае. Да, брат, здорово живешь! Отродясь такого не было». Так рассуждали мужчины. Лишний раз выказали свою консервативность. Женщины – народ более решительный, то, что «отродясь такого не было», или, как говорит мой друг-критик, отсутствие прецедента их не смутило. У них на каждый случай мерка новая. Это лишь с мужчинами – из сил выбьешься, пока побелевшие пальцы расцепишь, чтобы старый аршин вырвать из рук. «Подумаешь, отродясь не было! – чуть не взвизгнули самые передовые из наших кумушек. – Не было, так будет! Танхылыу – передовая доярка, в колхозе на виду. Вот и щелкнет кое-кого из тонкошеих парней по носу!» Другие не удержались и тут же съязвили: «Боится, что без жениха останется, с ее-то характером! А так прямо в новый дом за ручку введет. Тут и на нрав ее глаза закроешь». А третьи прямиком на скорую свадьбу истолковали. Первым в список женихов внесли Алтынгужина, потом Самата, следом еще трех-четырех парней. Но Гата Матрос почему-то в этот список не попал.
А Танхылыу? А отец ее, Фаткулла Кудрявый? Они-то здесь, в ауле, под боком живут. Чем из пустого в порожнее переливать, пойти бы и спросить! Но Фаткулла, если кто-нибудь начнет издалека подъезжать, посмотрит исподлобья и отрежет: «Что, других забот у тебя нет?» Сам же вечерами упорно углубляет траншею возле бани и укрепляет заграждения. А к Танхылыу и близко не подступись! Только фыркнет разве, а то и вовсе промолчит, будто перстень во рту прячет. И чем больше она молчит и фыркает, тем больше входят в азарт куштирякские женщины. И чем туже затягивается загадочный узелок, тем сильнее они впиваются в него зубами.
А дом растет себе. Вот уже и крышу покрыли. И оконные проемы досками заколотили. Остальные дела, выходит, оставили до весны.
Однажды вечером во дворе Фаткуллы Кудрявого со скрипом открылась калитка и перед хозяином, который закладывал скотине сено, предстал Шамилов. «Опять, видно, тополем забредил», – подумал Фаткулла Кудрявый. Хоть гость не ко времени – хозяин лицом не просветлел, но, закончив с делами, пригласил его в дом.
Танхылыу еще не вернулась с фермы. Можно было поговорить с глазу на глаз.
Сели. Хозяин молчал. По куштирякскому обычаю ждал, чтобы гость заговорил первым. Шамилов оглядел стены, прокашлялся негромко, достал из кармана пачку папирос и положил на стол. Видя, что он никак не решится, Фаткулла был вынужден взять уздечку в свои руки.
– Как со здоровьем, как настроение, товарищ Шамилов? – сломал он неловкую тишину.
– Диалектика! – ответил Шамилов, озабоченно разведя руками. Настроение было неважное, только что в правлении услышал кое-что весьма неприятное по своему адресу.
– А?
– Жизнь, говорю, сложная, Фаткулла-агай. И доброе, и недоброе – чуть не в обнимку ходят… – И вдруг сразу, опять же по-куштирякски, резанул напрямик: – Я говорю, теперь и спору конец, а?
– Какому спору?
– Новый дом же возводите. Значит…
– Это дом Танхылыу, товарищ Шамилов.
– Вот тебе на! Не будет же незамужняя девушка от родителя отделяться! Чему люди не поверят, того людям и не рассказывай, завещали нам древние. Не чувствуется, чтоб замуж собралась…
– В таких делах молодежь сама решает, наших советов не слушает, – сказал хозяин и, почуяв, что, кажется, заехал дальше положенного, свернул разговор на другую колею. – Давай хоть по чашке чая выпьем, что ли… Танхылыу с минуты на минуту ждал, не идет что-то. Корова там захворала, с ней, наверное, осталась… – И он зашагал на кухню. Но хихиканье Шамилова остановило его на половине пути.
– Ну и хитер же ты, агай! – отсмеявшись, сказал учитель. – 'У тебя топор просят, а ты лопату суешь. Так и будете, отец с дочкой, в два дома жить, в две трубы дымить?
– Эх, товарищ Шамилов, товарищ Шамилов! Грамотный же ты человек! А в политике даже с наше, с крестьянское, не разбираешься. Суетишься, хлопочешь, все без толку. Сколько лет голову морочишь. Возьми и посади тополь – вон, любой пустырь твой. Если совсем уж невмочь. А по-моему, нужды в нем – истертый грош.
Шамилов встал с места, скрипя блестящими сапогами, прошелся по комнате. Обида густым румянцем выступила на лице.
– Кто в политике разбирается, а кто нет – тут проверяющие и без тебя найдутся, – сказал он. Еще раз прошелся до порога и обратно. Подавив обиду, он взял хозяина за рукав, пригнулся к нему и, оглядевшись по сторонам, зашептал: – За кого выходит Танхылыу? Почему от народа скрываете?
Фаткулла Кудрявый чуть усмехнулся и, высвободив локоть, ушел на кухню за самоваром.
Учитель, с трудом сдержав раздражение, подошел к большому зеркалу, висевшему в углу. Изможденное лицо с поседевшими висками, с морщинистым лбом глянуло на него.
– Эх!.. – вздохнул Шамилов.
Время неумолимо, жизнь проходит… жалко и обидно.
С печальной миной он было уже повернул обратно, но тут его взгляд упал на стоявший под зеркалом маленький столик. Древесный жучок бессчетными мелкими дырочками испестрил его весь. И Шамилов снова вздохнул:
– Эх!
С самоваром в руках вошел Фаткулла.
– Попусту голову не ломай, – продолжил он разговор. – Про Танхылыу говорю. За кого бы ни вышла, тебя приглашением на свадьбу не обойдет. Ты же первый ее учитель.
А Шамилов как-то сразу остыл к своим высоким мечтам. Он-то с чего так усердствует? Неужто, кроме дочки Фаткуллы и этого несбыточного тополя, нет у него других забот? Эта старая плешивая лиса, по всему видать, не поддастся. Ведь только глянуть на него, на сморщенный носик, на хитрющие глазки, на усмешечку эту – сразу видать, сколько в нем лукавства и вероломства. Все, как мелом на доске, написано. Еще притворяется, прихворнул, дескать.
– Наверное, испортится погода. («Как ведь ахает, как поясницу трет – будто все взаправду», – думал про себя Шамилов.) В груди колет, левую ногу свело, так и ноет. («Ишь насупился, как на кровного врага смотрит».) Пей, чего не пьешь? («Рычит, будто последний кусок изо рта вырывают».)
Шамилов вскочил, потоптался на месте и потянулся к дверной ручке.
– Не обессудь, Фаткулла-агай. Некогда мне чаи распивать, – сказал он и вышел. Как ни крепился, не смог удержаться, дверью хлопнул громче положенного.
Видали? Если за ученым человеком, который самые запутанные научные клубки привык распутывать, так хлопнула дверь, что же другим-то остается?
Шамилов не столько на хитрые хозяйские увертки обиделся, сколько на то старое зеркало, которое отняло у него последнюю решимость. «Твоя правда, Асылбике! – думал он, вспоминая то, о чем на каждом шагу твердила ему жена. – Что есть, тому и радуйся, живи спокойно. Уж куда лучше! Нет, Куштиряк добра не понимает!»
Но только вышел на улицу и холодный ветер ударил ему в лицо, он вздрогнул и остановился. «Эх, Шамилов, Шамилов, уж если ты перед такой малой преградой спасовал, что же от других-то ждать!» – со стыдом подумал он. Нет, еще рано сдаваться, рано складывать оружие. Весь аул с нетерпением ждет его победы, торжества истины и справедливости. Мало ли трудностей одолел Шамилов на своем веку! А тут? При виде древесного жучка, крохотной дырки, просверленной им, опустились руки бойца.
И он в приливе новой отваги вскинул голову. Чтобы вечер не пропал даром, решил сейчас же, хоть уже и поздно, поговорить с самой Танхылыу. Он уже завернул в проулок, к дороге на ферму, как послышался треск мотоцикла и сноп света ослепил глаза. Учитель невольно вскинул руку.
Мотоцикл остановился. Это был Гата Матрос.
– Ну, брат, идут дела? – спросил учитель.
– Одни идут, другие стоят, – хмуро ответил Гата.
– Есть у меня к тебе одно дело. Может, говорю, отведешь домой своего… этого… – кивнул он на мотоцикл, – и ко мне заглянешь?
Гате было не до чужих бед. И без того душа горела, будто живых углей наглотался. Поехал на ферму за Танхылыу, но вернуться пришлось порожняком. Капризная девчонка надула губы и завернула его обратно: «Сегодня мы все вместе домой пойдем, аргамаку своему отдых дай».
– Устал, агай, – притворно вздохнул Гата, – весь день за баранкой. Председатель сказал, что с рассветом в Ерекле поедем. Хоть бы немножко вздремнуть…







