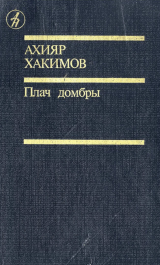
Текст книги "Плач домбры"
Автор книги: Ахияр Хакимов
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 41 страниц)
– Да, Хабрау-друг, счастье не открыло ему своего лика. Болезнь-то болезнью… Душа у него подломилась, рухнули золотые опоры. Тонко чувствовал, и сердце у него было чистое. А за каждым его шагом следили соглядатаи. Тяжело переживал, что уже не может творить. Стал пить… И, проклиная жестокую судьбу, во всем широком мире не найдя душе приюта, наложил на себя руки. Повесился…
Голова Хабрау дернулась, как от удара. Стиснув зубы, он смотрел, как почти уже затухший костер перед ним на глазах наполняется алым жаром. И лишь когда померкло снова, он смог сказать хоть что-то.
Грустная беседа – тихие слова и горестное молчание – двух сердечных, случайно встретившихся друзей, уже на всю жизнь распрощавшихся когда-то, длилась, пока желтый рассвет не осветил небо на восходе.
Хабрау сетовал на то, что и надежды, которые измученная башкирская земля связывала с царем Тимуром, вот-вот рухнут.
Нормурад рассказывал о том, какая шла в Мавераннахре борьба за власть между городскими богатеями и верхушкой кочевых племен и как он сам из-за этих распрей распрощался с мечтами юности. Оказывается, если хочешь, чтобы имя твое было в чести, добро в сохранности, а семья в благополучии, будь всегда у великого эмира на глазах, ходи с ним во все его походы. Тогда и свою долю военной добычи получишь, и как государственный служащий, заслужив доверие, можешь войти в самое ближайшее окружение владыки. И с тех пор как больной, состарившийся его отец ушел с воинской службы на покой, пришлось на службу к эмиру идти Нормураду. Потому что их род из городских, а возле Тимура набирает силу кочевая знать.
Посольскую миссию Юлыша и Хабрау Нормурад одобрил, хотя и дал понять, что на эмира больших надежд возлагать не следует. Однако будет лучше, если башкиры выставят войско против Тохтамыша, это им зачтется. В этом с сардаром он был согласен.
– Видишь, и Зухра[38] взошла. Добрая примета. Пусть она будет предвестницей исполнения ваших надежд!
Случайная эта встреча оставила в сердце сэсэна глубокую печаль. И две струи в этой печали. Одна – о гибели Миркасима, о разбитых надеждах юности Нормурада. Другая – по уходящей жизни: время течет, время безостановочно, благие цели так же далеки, как та утренняя звезда.
Но черная тягучая тоска, которая пригнула головы послов, – о многострадальной родине. Повелитель Вселенной не захотел, чтобы Богара стал ханом. Значит, образование независимого государства на башкирской земле считает шагом, противоречащим политике Мавераннахра. Если, вопреки его воле, все же поднять Богару на белой кошме, свирепый владыка нашлет полчища на страну, и без того измученную, разграбит дочиста…
В смятении, с тревогой в душе вернулись Юлыш и Хабрау из ставки Тимура. Выслушав их речи, Богара тоже поначалу растерялся. Весть о том, что Айсуак оставлен заложником, отдалась острой болью в сердце. Но от замысла своего, который обдумывал долгими бессонными ночами, отказаться он уже не мог. Все, что лелеял в мыслях, скрывая даже от самых близких людей, давно стало явью для него. Великое государство башкир, ханская власть – вот они, совсем рядом! Протяни руки – и все твое. Потому и обиду на Тимура, и боль за сына он спрятал глубоко в себе.
– Хорошо, дальше будет видно, – резким голосом сказал бей. – Пока вас не было, численность войска дошла до пятнадцати тысяч и все еще растет. Обдумаем. – Он помолчал, собираясь с мыслями. – А теперь пора начать боевые учения. Юлыш, брат мой, нет тебе отдыха, с завтрашнего дня все дела войска бери в свои руки…
15
Широкая, раскинувшаяся меж Сакмарой и Яиком степь нежится в лучах нежаркого солнца. Только начало лета. Трава еще не вытоптана. Еще не долетело сюда горячее дыхание Дешти-Кипчака. И не скоро выгорит степь и станет бурой, как шкура гнедой кобылицы. А пока раскинь стада на этом приволье, и пусть пасутся они, щиплют молодую травку всласть.
Но кругом, сколько видит глаз, ни юрты, ни косяка лошадей или стада коров. Колышется на легком ветру трава. Ручейки и лужи, оставшиеся от вешних вод, посверкивают, как зеркальца. И ни единой живой души, только протянется порою в небе птичья стая, пробежит, чуть шелестя густой травой, на свой маленький промысел суслик.
На гребне высокого холма стоит всадник и недоуменно смотрит по сторонам. Удивительно, земли кара-кипчаков, исконные их кочевья, пусты, как в первый день творения. Всадник, ладонью затенив глаза от прямых лучей солнца, выворачиваясь в седле, прошел глазами весь окоем. Взгляд его обшаривает все холмы и низовья, хоть бы какая-нибудь черная точка, хоть шалашик или кибитка, хоть бы дымок, хоть бы признак чего-то живого – ничего.
Всадник, плечистый парень лет двадцати, развязал кожаный шлем на голове, потер запотевшие лоб и шею, расстегнув рубашку, подставил грудь ветру. Еще раз удивленно огляделся по сторонам и, завернув лошадь, на рысце затрусил к северу, в сторону Сакмары.
Когда впереди показался невысокий дубняк, джигит проверил саблю на поясе, повесил камчу на луку седла и ослабил повод. Случись что, мощный, с длинным туловищем каурый жеребец, не дожидаясь понукания или рывка повода, сам возьмет направление и по толчку пятки в ребро поймет, чего хочет всадник. Каурый – боевой конь, волю хозяина чует сразу – идти тихо, осторожным шагом или же пуститься во весь опор.
Но их, всадника и коня, тревога на сей раз была напрасной. Редкий дубняк площадью в три-четыре юрты был виден насквозь. А кругом открытая степь. Всадник, легко вздохнув, чуть улыбнулся, но из осторожности все же объехал дубняк и лишь потом соскочил на землю. И ему, и лошади был нужен отдых.
Степной человек, у которого вся жизнь проходит в седле, прежде всего позаботится о лошади. Вот и джигит, распустив подпруги, снял седло, вынул удила и конец поводьев обмотал вокруг деревца. Оставалось две-три горсти ячменя, он все высыпал каурому. Лишь когда раздался громкий хруст размалываемых зерен, занялся своей трапезой. Вся его еда – черствая лепешка в ладошку величиной и твердый как камень комок курута[39]. Да еще в кожаном мешке теплой воды два глотка. Но даже этой скудной пищи не доел, сон смежил глаза, и он прислонился к дереву.
Он не спал двое суток.
Его звали Ильтуган, был он из рода сарыш, из племени кара-кипчаков, в счет жизни Хабрау-сэсэна был отправлен в Орду. Служил он в трехтысячном сторожевом отряде под рукой Кутлыяра-мирзы, в сотне, где службу тянули самую тяжелую и неблагодарную.
В том отряде еще было человек двадцать башкирских парней из разных племен, но их раскидали по нескольким десяткам этой же сотни. Воины-земляки встречались редко, десятники не спускали с них глаз, даже поговорить на своем языке не давали: мол, где разговор – там и заговор, знаем этих башкирских собак, всегда сзади куснуть норовят.
Но когда Ильтуган услышал, что вот-вот начнется война, сумел встретиться с земляками и четверых из них, более смелых, уговорил бежать. Вскоре темной ночью пятеро джигитов вышли в путь. Но на берегу Яика они натолкнулись на сторожевой пост ногаев и были вынуждены скрестить с ними сабли. В короткой, но жестокой сече один из беглецов был зарублен, остальные, держась за гривы лошадей, переплыли Яик. Сильное течение разбросало их; возможно, кого-то вместе с конем утянула быстрая стремнина. Ильтуган долго рыскал по берегу, но никого не нашел и, одинокий, поскакал в родные степи.
Каждому своей жизни жалко, но Ильтуган бежал не затем, чтобы спасти свою жизнь. Конечно, в войсках Орды на башкир смотрят как на чужаков и даже за малую провинность жестоко истязают. Служба им достается самая тяжелая, шлют их гонцами с самыми опасными поручениями, и в проливной дождь, и в лютую стужу, и в палящий зной несут они сторожевую службу. Сотники же с десятниками не только потворствуют, но даже подзуживают воинов из других ордынских племен измываться над башкирами. А начнется война, их опять поставят в самое гиблое место.
Но сильнее этих обид побег Ильтугана поторопил подслушанный им разговор.
Случилось это вскоре после того, как пошли слухи, что идет Хромой Тимур. Ильтуган узнал, что ногайский эмир повелел Богаре-бею собрать войско в пять тысяч человек. Столько же потребовал и от минцев. Потом, присоединив к ним еще черемисов, все это чужекровное ногаям войско во главе с Богарой, башкирским беем, бросить прямо в пасть дракона. Только войско Богары вступит в бой, ногайский тумен снимется и быстрым ходом пойдет на Итиль, к Тохтамышу-хану. Конечно, башкиры и черемисы Хромому только на зубок, но на день-два они его задержат. Войска Богары будут уничтожены, но ногайский тумен нагнать уже будет нельзя.
Этот подлый замысел Ильтуган подслушал, когда стоял на карауле возле юрты Кутлыяра. Тот, созвав на совет тысячников, объяснил им, каким путем будет отступать ногайский тумен к Итилю, какие сотни пойдут на левом и какие на правом крыле и куда будут уходить кочевья. Но он, должно быть, упустил из виду, что среди часовых, стоявших вокруг белой юрты, двое были из башкирских земель, или же настолько был уверен в железном порядке, который установил в тумене, что не придал этому значения. А навостривший уши Ильтуган слышал весь разговор в юрте от начала до конца. И тысячники, и другие военачальники шумно одобрили военную хитрость против своего же союзника. «Так и надо этим истякам! – говорили они с хохотком. – Бараны упрямые, все на сторону смотрят, вот и увидят, чего в жизни не видели!»
Еще на совете говорили, что за Богарой нужен глаз да глаз, особенно перед сражением, решили для этого, будто бы для подмоги, приставить к нему сотню, набранную из одних только свирепых монгольских киреев.
Ильтуган уже давно собирался бежать. Случайно открытая им тайна подстегнула его. Он должен упредить погибель башкирского войска, добраться до Богары и открыть ему подлый замысел ногайского эмира. Он и спутникам своим открыл тайну: мол, хоть один доберется.
…Долго спал Ильтуган, но, и проснувшись, не сразу открыл глаза. Только вспомнив, с каким делом он едет, вскочил на ноги. День уже клонился к вечеру, над степью разливался фиолетово-красный свет заката. Кругом стояла та же тишина. Но тревога охватила Ильтугана. Что-то изменилось вокруг. Он приложил ухо к земле: верстах в пятнадцати отсюда шло то ли большое войско, то ли стадо. Так, значит, кипчаки начали откочевывать куда-то? Ильтуган отвязал пасущегося на длинном поводе коня, оседлал его и знакомой с детства степью помчался к Сакмарскому броду.
Только он, раздвигая высокие камыши, вышел на другой берег, послышалось: «Стой!» Из тальника выехали трое верховых. Башкиры. Все трое при оружии. Один, видимо старший, велел Ильтугану сойти с коня. Завернув назад, связали ему руки и, не слушая его объяснений, повели с собой.
Они вышли к реденькому березняку.
– Вот, Аргын-агай, вонючего ордынца поймали. А говорит, что сарыш. – Значит, хоть что-то из его слов услышали. – Лазутчик, должно быть. – Они подтолкнули Ильтугана в спину.
– Ты кто такой? Почему, как пес, ходишь один? – спросил Аргын и сгреб Ильтугана за ворот.
– Эх, Аргын-батыр! Неужто не узнал меня? Я же у матери твоей, Татлыбике-байбисе, в работниках вырос. Три года тому назад ты меня сам из сарышского кочевья в ордынское войско отправил. Ильтуган я…
– Ну и что? – Аргын уже узнал парня.
– Вести у меня для самого Богары-бея. Только ему одному сказать могу. Быстрее веди к нему.
– Выкладывай мне. Сам ему передам.
– Нет, Аргын-агай! Такая весть – головой поплатиться можно. Бей от меня самого должен услышать. Не для того я из Орды бежал, чтобы мои слова ветром во всей степи разнесло, – решительно сказал Ильтуган.
– Ах ты рвань! – крикнул Аргын, замахиваясь камчой. – Под носом еще не просохло, чтобы с беем разговаривать! Наверное, подлость кому-нибудь задумал, затем из Орды тебя и послали!
Один из воинов быстро шагнул и встал меж ними.
– Подожди, Аргын-батыр! Может, весть его и впрямь важная. Похоже, упрется и ничего не скажет, хоть ты голову ему сними. Прикажи, я сам отведу его к бею.
Это был лесной разбойник Айсура, который, послушавшись совета Хабрау, пришел в кипчакское войско.
Аргын подумал немного и сказал:
– Далеко ведь. Когда вы туда пешком дойдете?
– Зачем пешком? Привяжем его к седлу, а жеребца возьмем под уздцы.
– Будь по-твоему, Айсура, тебе доверяюсь, – сказал Аргын, одолев сомнения. – Но упустишь – ответишь головой. Если же выяснится, что его подослала Орда, жизнь его в твоих руках. Лошадь и оружие перейдут к тебе.
Айсура и еще один парень повели Ильтугана к бею.
Богара и Юлыш целый день объезжали войска, смотрели, где и как устроился каждый отряд, проверяли, как обстоят дела с оружием и продовольствием, в каком состоянии лошади. Позвали тысячников и сотников к вечеру на военный совет.
Ильтугана с завязанными руками поставили перед двумя турэ.
– Вот, слово, говорит, у меня есть, сказать, говорит, могу только бею, – сказал Айсура.
Стоявший поодаль Таймас-батыр, как только увидел Ильтугана, вскрикнул:
– Так это же свой джигит, наш, бей-агай, из твоего аула! Ну-ка, развяжите ему руки! Что, бедолага, сбежал? Как только духу у тебя хватило! Я еще тогда сказал: этот долго в иогаях терпеть не будет.
– И кто же он такой? – Богара оглядел Ильтугана из-под нависших бровей. – Что у тебя за слово, джигит?
– В позапрошлом году летом был отправлен в войска Орды. В обмен на жизнь Хабрау-сэсэна, – сказал Таймас-батыр.
– Ну, разматывай свою весточку, – сказал Юлыш.
Ильтуган кивнул на Айсуру. Когда тот отошел в сторону, подробно рассказал, как обстоят дела в ногайском тумене и что он слышал на совете у Кутлыяра.
Юлыш подозвал Айсуру и приказал вернуть Ильтугану коня и оружие и хорошенько накормить его.
– Ну, бей-агай, и после этого еще будем туда-сюда качаться?
Богара, в гневе закусив щеку, заходил взад-вперед, руку, сжимавшую камчу, упер в бок, чтоб не дрожала, резкие морщины легли на лицо.
– Все! Хватит! – сказал он и пригрозил кому-то камчой. – Сотню киреев придется тебе встретить, Юлыш-батыр, позаботься. Сотника допросим, огнем будем пытать, коли понадобится. А потом… прикажешь всех до единого положить под сабли. – И окликнул уходившего с Ильтуганом Айсуру: – Скачи к Аргыну, передай: из Орды сотня идет. Пусть ее без задержки сюда проводит.
– Среди киреев много усергенских свойственников, бей-агай, их девушек брали, своих выдавали, – сказал Юлыш. – Большая оплошность будет, если перебьем их. Свои же шум поднимут.
– А ты сделай так, чтобы и кончика наружу не вышло. Если вернутся в свой тумен, все до срока откроется. Ничего иного не остается, Юлыш-батыр.
– Почему не остается? Оружие и коней отберем – и, как сами ногаи говорят, все четыре стороны им – кибла[40]. Куда ни пойдут, твое милосердие будут славить. В Орду-то им хода нет, ногайский обычай знаешь: кто без коня и оружия вернулся – того ждет смерть.
Хотя настойчивость Юлыша бею и не понравилась, он буркнул:
– Пусть… делай как знаешь. По мне, так…
Один за другим на гарцующих конях начали подъезжать тысячники и сотники.
Когда зашло солнце и пали сумерки, возле ярко полыхающего костра начался совет.
Богара сообщил, что объединенное башкирское войско из ханского повиновения выходит и драться с войсками хромого царя не будет.
– От минцев весть пришла: их войска стоят в верховьях Демы, они с нами!.. Не позже чем завтра видные аксакалы кипчаков, усергенов, тунгауров соберутся на большой совет… Так что решайтесь. Кому только своя голова дорога, пусть сейчас же уйдет восвояси. Потом, когда в огонь войдем, будет поздно! – Богара в ожидании ответа оглядел своих военачальников.
Турэ молчали, даже между собой не переглянулись – смотрели на Богару. Уже по пути сюда они чувствовали, что решительный час близок. Но чтобы вдруг, вот сейчас, в эти светлые теплые сумерки, под этим тонким молодым месяцем… Миг – и сошло оцепенение, они вскочили, сабли вылетели из ножен.
– Тысячу лет живи, Богара-бей!
– Мы подумали – ты сказал!
– Бросай клич, бей-агай! Поднимай башкир!
Бей махнул рукой, чтобы сели.
– Не торопитесь. Впопыхах и айраном подавиться можно. Пусть еще совет пройдет, послушаем, что старики скажут, – остудил он своих соратников. – Войско переходит к боевой готовности. Без приказа из лагеря ни на шаг. Лошадям и ночью пастись под седлом. Оружие у каждого должно быть полностью наготове. Учения – от темна до темна.
Всю ночь бей не сомкнул глаз. Весть, которую* принес джигит по имени Ильтуган, покончила со всеми сомнениями. Конечно, войска свои против Хромого он и без того не поднял бы. Другое мучает: что дальше? Хорошо, если в предстоящей войне Железный царь сломает Орде шею. Но если Тохтамыш возьмет верх или пойдет на мир с великим эмиром – тогда дни Богары сочтены. Пусть поднимутся все башкирские кочевья и даже придут черемисы – спасибо аллаху, коли наберется войска до двадцати тысяч.
Еще забота: Тимур не признал Богару ханом, не захотел, чтобы росла мощь башкир и они создали свое государство. А тут еще из-за пропавшего дервиша взяли заложником Айсуака. Не верит хромой разбойник башкирам, хочет привязать их к хвосту своей лошади. Тоже, видать, как и Тохтамыш, собирается из них соки тянуть.
А ведь чтобы добыть вольность, другого случая не будет. Такой – во всю жизнь только раз… Доходят мысли Богары до этой точки – и, как вода, что, наткнувшись на скалу, дальше пробиться не может, крутятся на месте.
И Зумрат, лежащая рядом, кажется, тоже не спит. То на один бок повернется, то на другой. Разве откроешь ей свою тайну? Как побывал в гостях ее брат, закрылась, как цветок перед закатом. Спросит Богара о чем-нибудь – «да» или «нет», отвечала бы и того короче, если бы можно было. Что-то тревожит молодую жену. Молчит все, ходит бледная, рассеянная. Правда, о великих и опасных замыслах мужа, похоже, не подозревает. Но поди разберись, что у нее на уме. С шайбанским племенем всегда надо быть настороже.
Перед рассветом один из часовых тихим голосом вызвал Богару из юрты. От лазутчиков пришло срочное донесение: Байгильде остановил откочевку в горы трех своих аулов, сам же с войском в четыреста человек отделился от сайканов и остался ждать ногаев.
Богара хотя и задохнулся от ярости, но в душе измене свата не удивился. «Ну, если при случае не сверну тебе шею!..» – процедил он сквозь зубы. Однако решил весть держать пока в тайне.
Только под утро уснул Богара. И приснилось ему, будто почтенные мужи семи колен подняли его на белой кошме и провозгласили ханом башкирской земли.
А Зумрат никак не могла уснуть. Ворочалась с боку на бок, все думала, думала… Было молодой бике над чем ломать голову.
На другой день, как вернулись гонцы из тамьянской стороны, она встретилась с Толкебаем.
Было так. Зумрат с двумя девушками из прислуги пошла на берег Сакмары. Долго бродила, не находя успокоения душе, все думала, молчала. Потом захотелось ей побыть одной и отослала девушек в аул. Расстелила на горячем от солнца камне отороченный горностаем зилян, села и тихим голосом запела грустную песню своих родных кочевий. В это время послышался топот копыт, фырканье лошади. Мимо ехал Толкебай.
«Уф, как ты меня напугал! – Зумрат вздрогнула. – И не услышишь, как подкрадешься».
Парень покраснел, опустил глаза. Дернув лошадь за уздцы, хотел было проехать, но бике приказала: «Постой! Ты ведь хочешь что-то сказать мне. Говори!» Толкебай остановился, покраснел еще больше, промямлил что-то. «Ты почему все время следишь за мной, бей велел?» – строго спросила Зумрат. «Нет, это я сам, бике… Не слежу я… зачем следить… я коня привел напоить», – вконец растерялся парень. С Зумрат вся грусть сошла – то ли вид парня позабавил ее, то ли хотела скрыть собственное волнение, – взяла коня под уздцы. «Ладно, ладно, не ври! По пятам за мной ходишь… Не бойся, никому не скажу». Она плечом прижала ногу Толкебая. «Отпусти поводья, бике. Еще увидит кто…» – «Фу, какой все же трус! Послушай меня… Как стемнеет, приходи сюда, в тальник. Разговор у меня к тебе…» И только отпустила повод, парень огрел лошадь камчой.
В ту ночь, кроме немощных стариков да четырех-пяти часовых, мужчин в кочевье не было. Все джигиты, какие могли держать в руках оружие, давно ушли в войско, а Богара, забрав сотню личной охраны, поехал встречать отряды усергенов и тунгауров.
Вернувшемуся издалека Толкебаю дали сутки отдыха. Зумрат на это и рассчитывала. Весь день себе места не находила молодая бике, душой маялась. Туда пойдет, сюда заглянет, никак вечера не могла дождаться.
Первая в Орде красавица, изнеженная, избалованная дочь ногайского эмира, а теперь молодая жена славного и сильного башкирского бея напрочь забыла о своем высоком положении. В голове пусто, тело томится, жаждет любви и ласки. Что будет потом, она и не думает. Представит застенчивую улыбку рослого, сильного Толкебая, и по всем суставам огонь проходит. В своем воображении она бедного, неимущего воина превращает в долгожданного царевича, осыпает серебром и золотом. Потом вдруг вспомнит о лежащей меж ними бездне и начнет себя стыдить: «Ох, Зумрат, Зумрат! Кем соблазнилась? Безродным парнем, который ради черствого куска тянет службу! Такой ли был в твоих мечтах? Неужели этому нищему отдашь свою неутоленную любовь, горячую ласку?» Душа противится, а тело тянется к Толкебаю. Черной своей судьбе назло, продавшим ее на чужую землю отцу с братом и замкнутому, с холодными объятиями мужу назло должна она броситься в эту бездну, хоть один раз ублажить свое молодое тело. А там будь что будет…
Кажется, и Толкебай хоть немного, но освободился от страха и стыда. Подумал, наверное: чему быть, того не миновать, и, как в омут головой, в назначенный срок явился на берег…
А сейчас, прислушиваясь к бормотанию спящего Богары, тихому его постаныванию, Зумрат думала о Толке-бае и того больше о том, в какое положение попала сама. Сначала, когда она обняла его, джигит вконец растерялся, попытался вырваться, но потом обнял так, что у молодой бике косточки захрустели…
После той ночи, после тех неистовых, до слез, до изнеможения, ласк Зумрат больше не видела Толкебая. Наутро джигит уехал в войско. Теперь от одного воспоминания о тайном грехе у молодой бике закипала кровь, тело все еще жило тем блаженством. Но строгий наказ брата Кутлыяра то и дело царапал душу, темной тучей ложился на ее сладостные мечтания. Мулла-соглядатай не заставит долго ждать. А что есть у Зумрат, что подозрительного приметила, что вызнала, чтобы донести Кутлыяру?
Хотя кое-что и настораживало. В ту ночь, в тальнике, из отрывочных слов Толкебая поняла, что Богара собирает войско втрое, вчетверо больше, чем затребовала Орда. С чего вдруг так расщедрились башкирские кочевья? В другое время легче кость вырвать у собаки из пасти, чем у них лишнего человека в ордынское войско. Еще Толкебай говорил: «Коли дела пойдут как надо, можешь и ханшей стать». На что намекал? Даже представить смешно, что он, Толкебай, станет ханом и отберет Зумрат у ее старого мужа.
А тут еще бродивший где-то Хабрау-сэсэн вернулся в кочевье Богары и опять в своих песнях высмеивает хана Тохтамыша, осыпает проклятиями Орду, ее порядки и повадки. Почему сейчас, когда все вместе готовятся идти против Хромого Тимура, никто не уймет его?
Похоже, проглядела Зумрат что-то. Пока она выслеживала лису-Толкебая, вожделение свое ублажала, старый волк Богара времени не терял даром, в башкирских степях идет какое-то тайное брожение. А что она расскажет мулле? О неясных своих подозрениях?
Росла Зумрат, эмирская дочь, в неге и роскоши, по взмаху ресниц, по легкому кивку исполнялись все ее желания. Однако с ранних лет получила она кое-какое образование и, от природы умная и сметливая, умела оценивать житейские и государственные дела, большие и малые события, низать их, как зерна четок, на одну нить. Правда, эти дела все больше крутились вокруг того, кто на ком женился, да кто с кем породнился, и какая от этого политическая выгода родне жениха, и какая – родне невесты. Но если учесть, сколь много внимания уделялось таким вещам в Орде, а точнее – при ногайском дворе, то нельзя сказать, что Зумрат жила в стороне от всего, что творилось в мире.
Коли выдали замуж ее за Богару, значит, ногаям нужен мир с башкирами, Орде нужна опора. А если Богара выйдет из-под руки Орды и решится создать собственное ханство, тогда – война. Дом ногаев не захочет потерять башкирские земли и пошлет войска. Но постой, постой, когда муж – хан, кто же тогда жена? Выходит, вместе с мужем на такую немыслимую высоту взлетит и она? Дочь эмира, она станет ханшей! Не зря, выходит, болтал Толкебай: «Станешь женой хана…» Вот что имел он в виду! Говорил то, о чем, видно, давно уже в народе толкуют.
Когда такие ожидаются события, разве останется Зумрат в стороне от трудов мужа? А Толкебай?.. Что Толкебай? Ему – свое место. При случае будут встречаться. Запахнет горелым – способ избавиться от него найдется быстро…
16
Зумрат встала пораньше, разбудила одну из служанок, и они принялись готовить утреннюю трапезу. Взбудораженная своей догадкой, Зумрат отбросила все беспокойные мысли, терзавшие ее в последние дни. Да, птица счастья готова сесть на ее юрту. Каждый миг, на каждом шагу должна она оказывать мужу уважение, знать, что у него на сердце, предупреждать каждое его желание. Всегда находиться рядом, всегда быть помощницей в его делах. Надо будет – сядет на коня, возьмет саблю в руки и вместе с Богарой – хоть в огонь, хоть в воду. Не лучиной, едва мерцающей в темноте, а сверкающей молнией должна она жить! И не в жалком кочевье главенствовать, а над тысячами тысяч владычествовать. А придет смертный час – чтобы ни в чем не каяться, ни о чем не жалеть. Когда муж поднимается на завоевание ханского трона, такая ли она жена, чтобы быть при нем соглядатаем!
Богара с некоторым удивлением следил за женой. Сегодня она не сидела надувшись, как обычно, нет, сама накрыла, сама позвала к застолью. С улыбкой сама разливает чай, подкладывает мужу лучшие куски. Насупленные брови бея поневоле опустились, он обнял ее за талию и приласкал.
Они сидели, мирно ворковали, когда, неслышно ступая, вошла одна из служанок и низко поклонилась.
– Ну, чего молчишь, словно перстень во рту прячешь? Говори, коли зашла! – нахмурилась Зумрат. Она была недовольна, что помешали сладкому чаепитию.
– Это… енге, джигиты это… какого-то чужака около Яика поймали. Говорит мулла, он… тебя спрашивает… – сбивчиво забормотала девушка.
– Не выше бея небось. Пусть подождет! – отрезала Зумрат. Она замерла на миг, быстро о чем-то подумала, потом прильнула к мужу и прошептала ему прямо в ухо: – Послушай, отец…
Богара стремительно повернулся к ней:
– Отец, говоришь? Неужто… это?
– А что, ночуй почаще в моей юрте, может, и случится… – Она тихонько засмеялась. По лицу пробежал румянец. Но не от смущения – вспомнила Толкебая.
– Если новость твоя окажется правдой, тебе от меня шелковый зилян на выдре и золотые сережки с яхонтом, – сказал Богара.
– Уж и не знаю… Дней через десять – пятнадцать выяснится, правда или нет. Послушай-ка меня… Тот мулла, пожалуй, от ногаев лазутчик. Должно быть, хочет у меня что-нибудь выведать.
– И что же?
– Ах, аллах, еще спрашивает! Говорю, лазутчик, наверное. Сделаем так. Я его сюда позову, а ты постой за юртой и послушай.
Еще больше удивился бей.
– Откуда ты знаешь, что он лазутчик? – покачал он головой. – На служителя веры напраслины не возводишь ли?
– Сам посуди, кто в такое лихое время выйдет в дорогу без веской причины? Правда ли, напраслина ли, выяснить нетрудно, – сказала Зумрат и хлопнула в ладоши. Показалась та самая служанка. – Пусть хазрет войдет!
В юрту вошел человек средних лет в стареньком зиляне, зеленой чалме. Проходить не стал, присел около дверей и прочитал молитву.
– Я человек занятый, мулла, сам знаешь, с бея тоже службу спрашивают. Вот бике от моего имени тебе почет окажет, не обессудь, – сказал Богара и поднялся с места. Уловка жены разбудила его любопытство.
Только бей вышел, мулла достал монету, она словно сама выкатилась у него из-за пазухи, прокатилась по ладони и легла на край скатерти. Зумрат показала свою.
Мулла выпил кумыса, поел наспех и сказал:
– Через два дня твой почтенный отец снимется вместе с войском. Место на Яике, у брода, где стоял наш тумен, должны занять башкиры. Они готовы?
– Готовы, почтенный мулла, готовы. И недели не пройдет, сядут на коней, – уверенно ответила Зумрат.
– Похвально, – Кивнул мулла, поглаживая бороду. – Однако Богара, оказывается, набирает войска больше, чем мы велели. Нет ли в этом умысла какого?
– Богара-бей – верный сура хана и ногаев. Все повеления брата моего Кутлыяра он выполняет неукоснительно. Передай, пусть не тревожится, – все так же твердо сказала Зумрат, – А что больше воинов – так это Орде лишь на пользу.
– Хорошо… Еще один вопрос. Сюда была послана сотня киреев. Но донесения от сотника твой брат, почтенный Кутлыяр-мирза, никакого не получил. Почему? Может, эти, – он кивнул прямо туда, где, как казалось Зумрат, за стеной юрты стоял Богара, – неладное что-то замыслили и перерезали отряд?
– Пусть ветром унесет твои слова! – От растерянности она даже подскочила на месте, и в этой горячности была своя убедительность. – Та сотня с башкирами на военных учениях. Наверное, у сотника не было возможности. – Зумрат говорила первое, что приходило на ум. О прибытии отряда киреев она слышала лишь краем уха, о том же, что их обезоружили и забрали лошадей, не знала вовсе.
– Ладно, схожу сам разузнаю.
– Ты туда не пройдешь, почтенный, чужих к войску не пускают. Богара – умный сардар, ничуть не хуже знаменитых эмиров Орды. Порядок установил крепкий. О киреях я узнаю сама, – твердо сказала Зумрат.
– Когда узнаешь? Я ведь, бике, через два дня перед мирзой Кутлыяром должен стоять.
– Не беда, сегодня к вечеру получишь нужные сведения. В обратный путь через караулы сама проведу. – Зумрат и сама подивилась той властности, которая вдруг зазвучала в ее голосе, словно говорил человек, управляющийся с большими государственными делами. – Так что ничего худого от Богары не ждите. Человек мудрый и осмотрительный, хоть сейчас его ханом сажай…
– Ханом сажать? Ай-хай, бике, не вздумай самого бея в этом уверить! Кутлыяр-мирза того и опасается!
– Аллах не внушил, так я внушать не буду. Я говорю: мог бы, по силам. Но не такой он человек, чтобы отвернуться от великой Орды. Сказала же так, чтобы ты понял: Богара – умный, осмотрительный турэ.
Мулла посидел молча, перебирая четки, потом заговорил снова:
– Последний вопрос. Говорят, у этих аулы в горы уходят. Как сама быть думаешь? Кутлыяр-мирза велел передать: найди какой-нибудь повод и возвращайся к отцу. Мы на время уходим в глубь Дешти-Кипчака. Башкирские войска останутся за нами, на пути Хромого Тимура. Он-то никого не пощадит, всех подчистую уничтожит.







