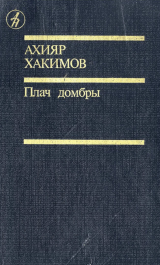
Текст книги "Плач домбры"
Автор книги: Ахияр Хакимов
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 41 страниц)
– Души у тебя нет, сват! Откуда оскуделым сайка-нам набрать полторы тысячи? – Байгильде швырнул кость, которую обгладывал, на скатерть. – Я же без рук останусь, если отдам тебе триста джигитов!
– Ай-хай-хай, обнищал же ты, сват, вконец обнищал! – усмехнулся Богара, и усмешка его вышла радостней, чем он хотел выказать. Очень уж Богара был доволен, что задел больное место Байгильде. Но тут же погасил улыбку и сказал жестко: —Я, что ли, назначил войсковой ясак? Как закончили перепись, приехали баскак и даруга и определили: с тебя триста воинов, со всех сайканов две тысячи! Отчего ты тогда не петушился? Смотри, дойдут эти слова до Орды – потащат на конском хвосте как смутьяна!
Байгильде, красный, с дергающимися глазами, попытался укусить с другого бока.
– Перед ханом хочешь выслужиться? – брызжа слюной, закричал он. – Сделали тебя беем – и рад стараться, они еще в ладони не хлопнут, ты уже в пляс! Вот до чего довел страну! Если отправим столько войска – с чем останемся? Будем как беззубая собака!
«Хай, злодей! Перед ханом я выслуживаюсь, а? Ловко! А он, значит, за страну болеет, вот бесстыжий!» – и разозлился и восхитился хитростью свата Богара.
– И правда, бей-агай, почему не сказал: нет, дескать, у нас такого войска! Почему хоть малость с ногаями не поторговался? – подняв глаза, угрюмо спросил Юлыш.
– Вот и хваленый твой друг Юлыш против тебя, а не против меня! – Байгильде, воспрянув, надменно огляделся по сторонам.
Но никто больше не подхватил его слова. Чего-то ждали. В юрте стояла тяжелая тишина. Только Таймас-батыр сказал негромко:
– Вот тебе на!
Бей был доволен вспыхнувшим спором. Сейчас, в запале, они многое выскажут, что у них на уме. «Вот бы показать вам серебряное кольцо, – как бы тогда заговорили?» – подумал он. Что теперь гадать, что маяться, все решено – голубь улетел, и назад пути нет. Опять заговорил Байгильде. Даже не скажешь, что тот самый человек, который минуту назад был готов лопнуть от ярости. С широкой угодливой улыбкой на лоснящемся лице он сказал:
– Ай-хай, хитер же ты, сват! Сидишь и нас испытываешь, будто и знать нас не знаешь, в первый раз сегодня увидел, а?
– Ты не петляй, говори прямо! – Острый взгляд Богары впился ему в лоб.
– И скажу, сват, скажу… Тот, кого ты назвал дервишем… которого кормил, поил, да еще еды на дорогу дал, далеко не ушел. Мои джигиты подкараулили его и привели ко мне. Вытянули разок по спине камчой, сразу все сказал.
– Ну и что? Он-то здесь при чем?
– При том. Лазутчик он! От Хромого Тимура. Я его в колодки забил. Завтра ответ будет держать. – Байгильде, довольный, погладил реденькую бородку. – На твой суд отдам. Скажешь зарезать – зарежу, скажешь повесить – вздерну.
Почтенные мужи загудели, как пчелиный рой. Богара поднял руку, попытался успокоить их, но гул в застолье не утихал. Каждый торопился высказать свое. Бей сидел и слушал. Турэ кричали на Байгильде, что, схватив дервиша, он поступил глупо и опрометчиво: коли весть об этом дойдет до Тимура, страшно подумать, чем она может обернуться, если же отпустить его на волю и ногаи прознают об этом, тоже ничего хорошего не жди.
– Хорошо, хорошо… завтра же отправлю его к свату Кутлыяру, и вся недолга, – сказал Байгильде, думая тем остановить спор.
Богара стиснул в руке ханский ярлык, печати раскрошились в побелевшем кулаке. Отдать дервиша Кутлыяру было хуже всего. Забьют в колодки, начнут пытать огнем, тот все и выложит – и кто он такой, и о чем они с беем толковали.
– Ладно, высокий ямагат, не будем из-за какого-то оборванца в сторону уходить, – сказал бей, стараясь не выдать своего беспокойства. – Давайте ешьте, пейте… Ох-ха-ха, кумыс-то, оказывается, кончился! Эх, работнички, работнички, даже сна своего побороть не могут… – С этими словами он вышел из юрты. – Дармоеды! Лодыри! Бездельники! – послышался его сердитый голос.
Богара нашел способ развязать тот узел, вернее, разрубить и теперь спешил сделать задуманное, покуда еще оставалось время. Он быстро прошел в караульную юрту, поднял, встряхнул дремавшего там Аргына и в нескольких словах сказал, что ему делать. Аргын сразу подтянулся, лицо стало жестким. Нет, здесь Аргын не подведет, в таких делах он сообразительный. Не слушая его ворчания, повеселевший Богара поспешил к гостям. Вслед за ним один из охранников-джигитов внес кадку с кумысом.
Аргын был обижен, что его не позвали на совет старейшин, даже во сне он чувствовал эту обиду. И хотя на приказ отца заворчал: «Они опрокинут, а Аргын поднимай…» – однако столь важным поручением был доволен.
Гостям же было не до кумыса. Эх, как прост был мир, и как теперь запутан мир, а тут еще тайны какие-то, странные события, грозящие бедами и напастями! Вот что давит на плечи почтенных мужей, вот что их пугает. Что там кумыс, что мясо?..
– Вот так, уважаемые турэ и батыры. Как я уже сказал, царю Тимуру до нас, а нам до царя Тимура дела нет. И дни и пища наши здесь… Войскам, которых требует хан, надлежит в течение десяти дней съехаться на пересечении дорог, у подножия Сарыкташа. Сотники и десятские – как прежде, снаряжение – полное походное: еда-провизия, юрты, казаны… Юлыш-турэ, тебя назначаю своим помощником. С зарей уйдут гонцы к тамьянам и бурзянам. Пока они доскачут…
– А почему Юлыш? – сумел вставить слово Байгильде.
– Потому что зовут его Юлыш![33] – усмехнулся Богара, видя согласие остальных.
– Тьфу, коли так! – Байгильде вспыхнул, резво, как мальчишка, вскочил и, не сказав ни «спасибо», ни «до свидания», бросился к двери.
За порог еще не шагнул, пронзительно свистнул. Сай-канская охрана узнала зов своего турэ, кто же еще здесь будет свистеть, как вор? Было слышно, как тут же, стуча копытами, примчались и стали кони. Оставшиеся в юрте еще не успели понять, что к чему, а топот копыт, удаляясь, исчез в предутренней тишине.
– Пусть поскачет, остынет малость, – сказал Богара. Хоть про себя встревожился: Байгильде, по его расчетам, уезжал в свое кочевье рановато, как бы там они с Аргыном не столкнулись. – Молодым батырам можно в соседней юрте прикорнуть малость… К турэ же у меня есть разговор.
Вот тогда он и выложил тайную весть, полученную от лазутчика Хромого Тимура.
– Чуял я, таил ты про себя что-то, бей. Афарин! – сказал Аккужа-батыр. – Так куда же думаешь повернуть войска?
– Как куда? Против ногаев! – вскинулся Юлыш.
Богара жестом велел ему помолчать.
– Увидим, – сказал он, сдерживая охватившее его нетерпение. – А пока понемногу, чтобы не бросалось в глаза, заворачивайте кочевья к горам. Дозорные, что по Яику, пусть ночами жгут костры и ведут себя так, словно ничего не изменилось. Старайтесь, чтобы ногаи не заметили, что аулы поднялись с места и ушли.
– Коли дела так пойдут, того войска, о котором ты говоришь, окажется маловато, – высказал сомнение Балапан.
– Как пойдут дела, узаман[34], пока еще не ясно. Все что ни делаем – пока только из предосторожности… Основные войска, как уже сказал, встанут у подножия Сарыкташа. Остальные же мужчины, кто может взять в руки оружие, пусть охраняют кочевья. Во главе их тоже надлежит поставить сотников и десятских. Связь будем держать через гонцов. А теперь поклянемся: до конца, до последнего стоять вместе и никто на сторону смотреть не будет!
Богара вынул из-за пояса короткий кинжал, вытянул перед собой. На лезвие со звоном легли кинжалы остальных старейшин.
– Клянусь! – сказал Юлыш, сверкнув глазами.
– Клянемся, клянемся! – сказали усергенские и тунгаурские старейшины.
Когда на востоке начало расходиться алое пламя зари, гости вышли в путь. Только они отъехали, как с пятью своими джигитами вернулся Аргын. Кони их были в белой пене.
– Сделал, отец, – сказал он тихим голосом.
– Ну, сынок, всех тебе благ! – Богара похлопал его по спине. – Следов не оставили?
– Нет. Возле ямы, где сидел этот дервиш, стоял охранник. Тоже заткнули рот и прихватили с собой. Дескать, стакнулись они и удрали вместе…
У бея похолодела спина, он схватил сына за плечо:
– Где они?
Лицо Аргына расплылось в злой хвастливой улыбке. «Кых», – провел он ребром ладони по шее.
– Известно где… Камень на шею и – в Сакмарский омут.
– Что-о?! – Богара не смог удержать крика ужаса.
Что же за изверг он, единая его кровь? Мало того что учинил такое зверство, еще хвастается, за доблесть почитает. Отцовский-то приказ был освободить дервиша и отпустить своей дорогой, а не убивать. А коли всплывет вся эта история, кто ответит?
– Брось, отец… На тебе прямо лица нет. Нашел о чем. Не этот бы охранник, сделал бы все, как ты сказал. Ну, а так… – Аргын развел перед собой ладонями, дескать, все чисто-гладко, концы в воду, и никаких следов.
Да, что случилось, то случилось, и ничего теперь не сделаешь. Лошадь споткнулась – так не дорогу же винить. Если дервиш и спасся бы, то неизвестно еще, что из этого вышло. Может, оттого что Байгильде его схватил и избил, на всех кипчаков навлек бы беду. Главное, чтобы тайна не раскрылась. Богара кивнул на стоявших в стороне джигитов: как, не выдадут?
– Трое из наших – хоть ремни из спины режь, ни звука не услышишь. А у тех двоих и лошади, и оружие, и прокорм – все от нас. Куда они денутся? Ну а если неладное почуем… – Аргын погладил кинжал на поясе.
– Довольно! – Богара поспешил оборвать разговор. – Сейчас же одного из них пошли гонцом к тамьянам, другого к бурзянам. К каждому приставь по верному джигиту, коней для подмены выбери хороших, из своего табуна. Пусть немного поспят и придут ко мне.
– Что совет решил? Куда пойдем? К хану? Или на хана?
Пришлось Богаре, хотел он того или не хотел, открыть краешек правды. Дела предстоят нешуточные, и без такого головореза, как сынок, не обойтись. Этот в огонь и в воду готов, даже отцова приказа ждать не будет.
– Ступай, снаряди гонцов в дорогу, – сказал Богара.
Выбросив из памяти ночное происшествие, он постарался представить, как теперь развернутся грозные события. Нужно спешно созвать десятников и сотских, объяснить, что предстоит делать каждому. Самое же главное – не откладывая, разослать гонцов…
12
И теперь Богара ждет гонцов, которых отправил в путь на рассвете той бессонной ночи. С какими вестями вернутся они? Поймут ли тамьянские и бурзянские турэ, что кроется за его иносказаниями? Поднимутся ли на его клич?
С того ночного совета уже неделя кончается. По донесениям, что прибывают от разных родов, сбор войск, можно сказать, заканчивается. Дня через три тронутся в сторону Сарыкташа. Стада откочевывают. Только для виду вдоль Яика бродит немного скота да стоят старые юрты. Ногаям замазать глаза хватит. Всего, что происходит в башкирских землях, им знать не обязательно.
Однако ногаев, в плутовстве и коварстве поднаторевших весьма, так просто вокруг пальца не обведешь. Услышав, что кочевья Богары отходят к северу, прибыл сват Кутлыяр, родной брат Зумрат. Подозрений никаких вроде бы не выказал, убедился, что сбор войск идет скорый. В доме зятя угощали от души, все «сват» да «сват», не знали, куда и посадить, так что уехал довольный. Однако попробуй поверь ордынцу. Еще неизвестно, о чем он говорил с сестрой. Не зря, наверное, шушукались наедине.
В день совета молодой жены дома не было. Бей нашел удобный повод и спровадил ее в гости в соседний аул. Однако ручаться, что у Зумрат нет в становье своих доносчиков, нельзя, такая – у змеи когти острижет. И сама во все дела бея, в его управление башкирскими землями суется. Этой только кончик зацепить, весь клубок размотает, до самых тайных твоих помыслов доберется.
Зумрат придвинула к нему мясо и подлила в чашку кумыса. Хочет что-то сказать, совсем уже соберется, но отведет взгляд и вздохнет тяжело. Боязно. Не в духе муженек, взгляд мрачный, брови насуплены. Хоть бы спросил о чем-нибудь. Вот тогда уж, как строчковая нитка, слово к слову, без зазора, все и выложила.
Наконец Богара обратил на нее внимание.
– Ты что, будто на горячей сковородке, – поморщился он, – заду своему места не найдешь?
Зумрат метнула на мужа быстрый взгляд, надула губы – видишь, обижена.
– Можно бы и не рычать так…
– Где свербит? Говори уж…
– И скажу! Как ночь – «лебедушка моя», «души моей половина», а днем, хоть на глаз тебе наступи, – не видишь своей лебедушки! – Зумрат, играя плечами, выпятив грудь, стала ластиться к мужу. – Слухи разные ходят. Боюсь. Что еще увидим? И это… Ты что, на ордынские войска не надеешься? Зачем аулы откочевывают и стада тоже погнали?
– На кого же еще надеяться, если не на Орду? А что откочевываем, так это из осторожности. Вот нахлынут сюда два войска и затеют побоище в наших местах. Тогда что? Говорят, Хромой Тимур совсем недалеко отсюда.
– Да и брат мой говорит… Наши ногаи к востоку, в глубь Дешти-Кипчака уходят, оказывается. – Зумрат пристально посмотрела на мужа. – А что, если и нам туда же, за ними следом?
«Вот ведь змея, то справа зайдет, то слева», – подумал Богара и поморщился. Втянула-таки его в этот опасный разговор. Но вопрос молодой жены без ответа оставлять было нельзя. Сглотнув желчь, ответил:
– Разве по одному только моему слову стада, аулы, тысячи людей пойдут в чужие земли? К тому же ногаи твои – могучие, богатые, и стада их несчетные, следом за ними идти – только пыль глотать, ни травы, ни воды за ними не останется. Ты бы голову попусту не ломала, это заботы мужские, велела бы лучше зарезать овечку, созвала девушек да сношек-молодушек, домбриста пригласила и погуляли бы, повеселились.
– Вот еще… – сказала Зумрат, но по рассеянной ее улыбке было видно, как она довольна еще одним свидетельством ногайского величия. Выгнув стан, раскачивая бедрами, пошла к своей юрте. Было слышно, как она громким голосохм отдает приказы работникам и женщинам-стряпухам. Выходит, совет мужа все же приняла, думает устроить пир.
Но молодая жена давно уже что-то чуяла, какую-то угрозу, и ходила, будто по горячим углям ступала. Было отчего встревожиться: в день совета старейшин спешно, по пустячному поводу вытолкали в гости; почти неделю уже то оттуда, то отсюда, загнав лошадей до черного пота, до белой пены, прибывают гонцы, разговоры с беем ведут шепотом, Аргын же, как только увидит Зумрат, сразу ощетинивается, ведет себя грубо, непочтительно. Когда же сказала: «Соскучилась, домой хочу съездить, отца с матерью повидать», Богара отрезал: «Дура, не домой, а в гости! Твой дом здесь», – и не отпустил. Пояснил при этом: «Время лихое, и дорога дальняя, а лишней жены у меня нет». Только ли этого опасается муженек? Кто приходит, кто уходит – охрана за всеми следит, ни с кого глаз не спускает. Измены боится бей. Разве боялся бы, если у самого в мыслях разброда не было?
Зумрат, как и Богара, тоже ждет уехавших к бурзянам и тамьянам гонцов. Хотя, конечно, не всех, одного ждет, того, которого зовут Толкебай, к тамьянам его послали.
Зумрат еще подростком, бывало, не спала ночами, все думала о своем будущем муже. Могучий, красивый батыр – вот каким она представляла его себе. Не всякий же может высватать невесту от корней самого хана Шайбана! Конечно же выдадут ее за богатого мирзу или даже за углана[35], и будет она самой красивой, самой желанной из всех его жен, другие жены будут склоняться перед ней.
Все это втолковывала ей сноха – старшая жена брата Кутлыяра, считала своим долгом подготовить подрастающую золовку к будущей семейной жизни. О тайных сторонах отношений между мужем и женой она рассказывала со сластью и в удовольствие. Свой-то муж разве только по заблудке переночует иной раз в ее юрте – есть еще три жены помоложе. Вот и оставалось старшей байбисе с тоскливо-бесстыдной улыбкой предаваться воспоминаниям. Делая вид, что не замечает, как ехидно перемигиваются ее молодые наперсницы и жены мужниных братьев, давала она уроки любовной грамоты Зумрат. «Не красней, не красней! – говорила она, находя особое удовольствие в том, как вспыхивала Зумрат и от стыда закрывала лицо руками. – Лучше все знать наперед. Мужчины – что псы, с привязи сорвавшиеся. Не ублажишь их, так они на сторону смотрят».
Впрочем, и другие снохи день-деньской слоняются, изнывая от безделья, и только соберутся – заводят все тот же упоительный разговор о любви. И хотя каждая рассказывает только то, что конечно же слышала от других, но Зумрат видит их насквозь: просто того в себе каждая удержать не может, что сама изведала, или тайные свои мечты разматывает, по чему изнывает долгими одинокими ночами. Лица огнем горят, неутоленная страсть маслом блестит в глазах. Старшая жена в досаде и ревности, но и млея от такой беседы, порою обрывает их: «Перестаньте, еще услышит кто-нибудь. Прыгаете, как сытые кобылицы!»
Эти разговоры, однако, не могли замутить светлых мечтаний Зумрат. Восхищаясь божественной любовью царевичей и царевен, о которой читала в дастанах, она ждала свою большую любовь, назначенную судьбой, и не знала, не ведала, что сладкий яд, который нацедили ей в кровь снохи, забродит после. А пока она жила ожиданием счастливой жизни, которая была впереди, и торопила дни.
И наторопила… Судьба решилась скоро и враз. Зумрат продали куда-то на задворки Орды, стареющему бею чужого народа. Отец ее, эмир ногайский, а более того – старший брат Кутлыяр, не видя ее слез, не слыша стенаний, то руганью, то уговорами сломили ее сопротивление. Нужно, говорили они, нужно – ради благополучия дома, ради того, чтобы намертво, сыромятным ремнем, привязать к Орде беспокойные башкирские племена. Плакала-плакала Зумрат и выплакала со слезами все силы, всю ярость…
Конечно, поначалу молодая байбисе забот державной политики, о которых твердили отец и брат, и в голове не держала. Богара хоть и не царевич из дастана, однако же оказался человеком на удивление богатым. Не знает, куда и посадить, пылинки с нее сдувает, яства ли невиданные, одежды ли богатые, украшения ли из злата и серебра, ценою в целые табуны каждое, – ничего не жалеет для молодой жены Богара. Захочет Зумрат наведаться в отцовский дом, бей в свиту ей дает самых красивых девушек, а в охрану – до полусотни всадников при полном вооружении. Сбруи лошадей, оружие охраны на солнце сверкают, у девушек в накосницах монеты звенят, разноцветные ленты в гривах коней на ветру полощутся. Ну прямо ханской дочери гостевой караван!
Так что Зумрат вроде бы утешилась быстро. Только рот откроет – и что хотела, уже перед ней. Но понимает молодая жена: чужая она в доме своего мужа. Глазами не видит, так спиной чует. Старшая наперсница Татлыбике сама первой не заговорит, скользит мимо. Словно юной наперсницы и вовсе нет, скоро уж и тень ее будет обходить. Девушки, приставленные в услужение к Зумрат, только с виду приветливы и послушны. Чуть пожестче с ними – огрызаются. А эмирская дочка сызмала привыкла в отчем доме держать всех в страхе. Уж она бы подняла голос, установила в доме свои порядки. Глянет на байбисе, стоящую, скрестив руки на груди, неподвижно, словно каменный истукан, встретится с ее острым взглядом – и немеет язык. Взгляд ее выдержать еще может, а вот слова сказать сил уже нет.
Кто скажет про Татлыбике, что троих родила, что сорок ей уже: стан гибкий, в сочных губах, в больших карих глазах еще гуляет отсвет молодости. Разве умная, властная байбисе, у которой все кочевье на ладошке пляшет, снизойдет до молоденькой, еще и девятнадцати-то нет, соперницы? Где уж…
А ведь эти капризы Зумрат совсем не от глупости. День и ночь у нее душа горит, оттого что мечты юности растаяли как отрадный сон, оттого что жизнь ее вместо желанных мраморных дворцов пройдет вот в этой войлочной юрте, оттого что всем она чужая и всеми обиженная. Никак не привыкнет она к здешним нравам и обычаям. Душа тоскует, ищет чего-то, от смутных мятежных мыслей голову ломит, если бы не страх перед отцом и, того более, перед братом…
Страх, страх… Хоть и живет за широкой спиной мужа, но кажется ей порой, что шагает она по самому краю бездны. И не в Татлыбике дело. Что байбисе? Как говорит брат Кутлыяр: «Сколько бы корова ни брыкалась, оглобли ей не сломать».
Страх ее, самый ужас – Аргын.
Коли встретятся ненароком за юртами с глазу на глаз, выдавит он на широком лице шутливую усмешку и ощупает ее взглядом с головы до ног. И без того узкие глаза сжимаются в щелочки, широкие конские ноздри дрожат. Вот-вот рванется к ней, сграбастает ручищами и подомнет под себя, огромным своим лошадиным телом упадет на молодую женщину. Вспыхнет Зумрат от стыда и страха, помертвелые ноги пронесут мимо.
Только недавно узнала Зумрат, почему Аргын так бесстыже ведет себя с ней. Оказывается, ногаи поначалу, когда надумали войти в свойство с башкирами, хотели выдать Зумрат не за самого Богару, а за его старшего сына. Свою жену, толстую, широколицую дочь Байгильде, которую сосватали ему против его воли, Аргын терпеть не может. Давно уже полюбилась ему красивая дочь ногайского эмира, еще до отцовской женитьбы на ней, да и Кутлыяр подзадоривал, сулил отдать свою сестру за него. Но дела вдруг круто повернулись, и Зумрат выдали за Богару. Однако не остыли в Аргыне давние желания. Упаси аллах, не осилит он своей обиды и злости, польстится на молодуху и сотворит глупость. А там известно: за грех черного пса белая собака расплатится. Весь срам ляжет на Зумрат. Татлыбике, которая и так ее видеть не может, если и не отправит ее с позором домой, то уж мужа-то от нее наверняка отвадит.
Когда ее провожали в кочевье жениха, Зумрат отцовских слов даже в толк взять не могла: как это она будет помогать сближению Орды и башкир? Непонятны были слова отца и брата. Как же так – сильный нуждается в дружбе слабого? Орда – хозяин этого мира, дикие башкиры – Орды подневольники, Орде – повелевать, им – платить ясак и слушаться. Вот что знала она с малых лет, вот что вошло ей в кровь.
Не ведала молодая изнеженная девушка, что времена изменились и власть Орды давно уже пошатнулась. Очень скоро Зумрат поняла, что эти башкиры издавна противились власти ханов и смотрели на сторону.
Недавно мимоездом заглянул Хабрау-сэсэн. Какие же злые он поет песни! Каким гневом горят его глаза, какие проклятия Орде шлет его домбра! Молодые джигиты, слушая его кубаиры, готовы вскочить с места, рвануть сабли из ножен.
Сама пригласила, сама ввела сэсэна в белую юрту Зумрат, на белую кошму посадила. Нельзя было гневаться ей. Терпела. Сидела, опустив глаза, боясь и дышать. Потом, по обычаю, сама накинула на плечи сэсэна вышитый зилян. Вспомнила она тогда наказы брата Кутлыяра. Вспомнить-то вспомнила, но взяло душу сомнение: нет, не исправить, не приручить этот народ, только заслышат слово «Орда» – и рука уже саблю ищет. Сэсэн, будто услышав мысли Зумрат, мягко сказал ей: «Не обижайся на песню, бике. Слова из песни не вырвешь, заплаты не положишь. К тому же… ты ведь теперь наша, своя…» А зилян не взял. Ничем, дескать, он такого подарка не заслужил.
И то правда: коли ты любимая жена башкирского бея – значит, заботами его земли и живи. Сказано: муж – голова, жена – шея. И ногайская родня зря фыркала: дикий, мол, народ, темный. Не дикий и не темный, встречаются среди них и ученые люди, и много разных умельцев. Есть ковали, что отменно выковывают сабли и кинжалы, наконечники стрел и копий; шорники, что мастерят сбрую, седла; резчики из дерева, что вырезают посуду, делают оснастки юрт; кожемяки, что выделывают кожи. А женщины ткут паласы, валяют войлок, на диво красиво шьют и вышивают. И обычаи, коли сравнить с ногайскими, не такие уж суровые.
С одной стороны, она, дочь из рода Шайбана, жена турэ, вроде бы смотрит на всех вокруг свысока, с презрением, тешит свою гордыню, с другой – вглядывается, вдумывается, незаметно для себя самой старается усвоить обычаи и законы нового своего дома. Конечно, в делах управления Богара с ней советоваться и не думает. Посмотришь, так даже к словам Татлыбике вряд ли прислушивается. А в последнее время, с тех пор как поползли слухи про Хромого Тимура, молодую жену вовсе забыл, ни ласки, ни внимания. Затаился муж, скрывает что-то, ушел в какие-то непонятные и опасные замыслы.
Видно, и Кутлыяр в тревоге, боится, как бы башкиры не отшатнулись от Орды, а хуже того – не переметнулись на сторону Хромца. Не эти бы страхи, разве стал он в такую пору, когда мир вот-вот огнем займется, когда весь ногайский дом, весь улус укладывается в дальнюю дорогу, разъезжать по гостям? Впрочем, похоже, с беем они договорились. Сомкнутые брови мирзы разошлись, угрюмое лицо разгладилось, уехал с виду довольный. Однако сестре наказал – и не раз, и не два – следить за каждым шагом Богары. Положил ей на ладонь серебряную, редкого чекана монетку и сказал: «Через неделю приедет мулла якобы тебя проведать, покажет точно такую же монету. Все, что увидишь, услышишь, расскажешь этому мулле. Он уже передаст мне». Сестра вскинула на него испуганный взгляд.
Так вот в чем видели ее помощь своим государственным делам отец и брат! Наконец-то поняла Зумрат: они выдали ее замуж за башкирского бея, чтобы сделать ее при нем соглядатаем! Соглядатаем! Какой срам! Какой стыд и позор! Она должна притворно улыбаться мужу и не любимой женой входить в его объятия, а вползать, как черная змея. Выпытывать его мысли, червем копаться в его душе, из жеста, из слова, из сонного бормотания должна она вызнать секреты, которых ожидает Кутлыяр! Эх вы, если уж на такое унижение обрекли, так хоть выдали бы не за старика с холодными объятиями, а за молодого, горячего парня. По сравнению с Богарой даже грубый увалень Аргын, от которого вечно разит лошадиным потом, лучше. Душе омерзение, так хоть бы тело насладилось.
К давно уже копившимся обидам подбавились и эти грешные мысли, и Зумрат почувствовала себя птицей в клетке. Хоть бы понесла, что ли. Будь у нее ребенок, теплый крошечный комочек, утешилась бы, в ласках к нему исцелила тоску из сердца. Нет, и это счастье заблудилось где-то. Или сама пустобрюхая, или у мужа силы все вышли. Знахарке-старушке показывалась молодая бике, отвары из трав пила, но никакой пользы не нашла. Правду, видать, говорил брат Кутлыяр, что у бея корень мужества высох. Неужто за три-то года молодая, здоровая женщина не затяжелела?
С тех пор как брат побывал в кочевье, нет Зумрат покоя. Сядет вышивать, воткнет иголку и задумается, вспоминает девичью пору, когда она жила, как птица вольная, без горя и забот, и от тоски этой или запоет тихонечко, или безмолвно, беззвучно заплачет. Некому ее утешить. Выйдет погулять с девушками в поле, взгляд ее пробежит по широкой, лежащей в мареве степи и устремится туда, в родную сторону.
В последние дни, как поняла она, что отдали ее в угоду проискам Орды, бродят в душе молодой бике суматошные мечтания. Вот она, никому не сказавшись, тайком от мужа уезжает домой к родителям… или нет… ее крадет молодой джигит, не царевич даже, самый простой кара-кипчак, и они убегают в неведомые дальние страны. Но понимает Зумрат, да и как не понимать: пустые это мечты. Не рабыня она и не убогая жена бедняка, чтобы скрыться бесследно. Еще за окоем не уйдут они, как пустится следом погоня и поймает их.
В золотые, невидимые глазу цепи закована юная бике. Бывают отважные мужчины, выламывают они железные решетки и бегут из темных зинданов. Слышала Зумрат о батырах, что, переплыв широкие моря, одолев отвесные скалы, уходящие к облакам, достигают желанной цели. У женщины судьба иная: хочешь не хочешь, таскай эти цепи всю жизнь, а если невмоготу – головой в омут.
В последние дни Зумрат все чаще вспоминает Толке-бая. Ей удалось выведать, что поскакал он с ханским ярлыком к тамьянам, однако наверняка кроме ярлыка он повез еще какое-то секретное послание от Богары. Только затем она и ждет Толкебая – тайну выведать. Других мыслей нет. На то она и ищейка, чтобы вынюхивать. До приезда муллы, о котором говорил брат, она должна вызнать всю подноготную этой подозрительной возни.
Саму себя пытается обмануть молодая бике. От самой себя увильнуть хочет, в собственное сердце боится заглянуть: что там, один лишь интерес, зачем ездил гонец к тамьянам, или же теплые чувства к самому Тол-кебаю? Ну что может быть общего у нищего парня, вся жизнь которого проходит на службе у бея, и девушки из великого рода хана Шайбана? Смех, да и только. Но почему же тогда его стеснительная улыбка и статная фигура то и дело встают перед ее глазами?
С тех пор как начали собираться войска, Богара часто возвращается лишь под утро, иной раз даже остается ночевать в дальнем кочевье. Тогда у Зумрат сна ни в одном глазу. Ворочается ночь напролет – то на один бок, то на другой.
Сидя в передней большой, стеганной изнутри шелком юрты, девушки-служанки слушают вздохи молодой хозяйки и, не смея ни прилечь, ни хотя бы перешептаться, с тоской думают о том, что утром надо будет ублажать капризную бике, как малого ребенка, гадают, какие еще мучения падут на их бедные головы.
Но странное дело, в последние дни, когда утром в четыре руки умывают байбисе теплой водой, в шесть рук расчесывают и заплетают ей косы, в восемь рук одевают и наряжают, Зумрат не дергается, не привередничает, как прежде. Какое платье принесут, то и наденет, какое блюдо подадут, то и поест. Но, видно, не до еды бике. Поклюет малость и плеснет рукой: уберите. Не мучает, не изводит, и на том спасибо.
День уже клонился к вечеру, когда прибыли гонцы, посланные к тамьянам. Богара увел их в сторону от аула и велел рассказать обо всем, что видели и слышали, не упуская ничего. Выслушав привезенные Толкебаем и его спутником вести, Богара задумался. Что ж, ответом тамьянов, хотя в пляс, конечно, не пустишься, можно быть довольным. Тамьяны обещали, что от них прибудет войско в двести человек. Старейшины рода сказали: «Если же слова бея, что у него под языком, окажутся правдой, за нами дело не станет. А пока посмотрим…»
– Если, говорят, придется подняться против Орды, ничего не пожалеем, ни добра своего, ни жизни своей, бей-агай. Они тоже, как и мы, готовы седлать коней! – сказал под конец Толкебай.
– Попридержи язык! Слишком много знаешь! – Богара замахнулся зажатой в руке камчой.
«Эх, выдадут они секрет раньше срока, – подумал он. – Может, и этих двоих потихоньку… того?» Но вспомнил, что случилось с тем дервишем, и тут же отпала охота. Никому другому, кроме Аргына, такое дело не поручишь. Представил его тогдашнюю свирепую ухмылку – глаза сощурены, зубы оскалены, – и мурашки пробежали по спине бея. Но гнев его перекинулся на гонцов.
– Забудьте! – рявкнул он. – Что видели, что слышали – все забудьте! Хоть слово кому сболтнете – языки ваши с корнем вырву! – Потом, уже потише, добавил: – А так… я доволен. Службу исполнили хорошо. Утром приходите в юрту байбисе. Такая служба без награды оставаться не должна.







