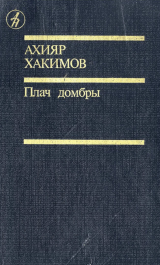
Текст книги "Плач домбры"
Автор книги: Ахияр Хакимов
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 36 (всего у книги 41 страниц)
Надо сказать, что дожил до этих своих лет Гата, а ни одного еще писателя не видел. Интересно, какие они из себя? Удивительно – сам человек, а сам писатель!
Автора, который, как говорится, из куштирякского корня произошел, вырос здесь и каждый год приезжает домой, Гата в счет не берет. По его понятиям, у писателя и внешность, и манеры, и речь должны быть другими. А этот? Все время меж нас крутится, ничем от нас не отличается, даже волосы по-куштирякски – помелом. Произведения его и в «Хэнэке»[70] не печатаются, и в школе их не проходят. А что в его книгах? Герои – обычные люди, события – которые уже были в Куштиряке, даже выдумать ничего сам не может. Нет, автор – он и есть автор, еще не писатель.
Так думал Гата. И чем дальше, тем большим становился его интерес к гостям. На время забыв даже о Танхылыу, он ускорил шаги.
Время у него, как у работника, облеченного ответственностью и полномочиями, рассчитано по минутам, подчинено жесткому председательскому графику. Самому немного подумать, для себя что-то сделать – некогда. Да ему и не хочется. От него что требуется? Быть исполнительным, что поручили – довести до конца. Скажет Кутлыбаев: «Иди в огонь!» – Гата шагнет в огонь, ни минуты раздумывать не станет.
Усердие, послушание ему прививали с детства. Это было первым требованием сначала отца с матерью, потом учителей. Один раз только качнулся он в сторону, уехал из аула, но чем это кончилось, читателю уже известно. Теперь начатое семьей и школой продолжает Кутлыбаев. Никогда голоса не повысит, а шофер все равно ему в рот смотрит.
Это свое качество Гата не замечает, и тем, что больше чужим умом живет, чем своим, не угнетается. И на Танхылыу за то, что вертит им как хочет, зла не держит. Если Шамилов или Фаткулла Кудрявый что прикажут – пожалуйста, конь, как говорится, у Гаты оседлан. Потому кроме любопытства к писателям его в аул торопило и усердие. По укоренившейся привычке он и поручение Алтынгужина принял без долгого сопротивления.
На автобусной стоянке неподалеку от правления куча детворы с криком и визгом играла в снежки. Два парня вешали над входом в клуб красный ситец с надписью: «Любимым писателям – горячий привет!»
– Эй, Матрос, иди-ка сюда, лестницу переставим! – крикнул один из парней, но Гата лишь носом шмыгнул и отвернулся.
Ничего удивительного. Отвернулся – значит, и послушанию Гаты есть предел. Да и кто он, этот парень, рядом с ним?
Вот уж и солнце за Разбойничью гору зашло, пали сумерки, народ потянулся в клуб, и в конце улицы показался автобус.
Сначала с тяжелыми узлами, с заплечными мешками вышли с десяток женщин, потом в дверях показались два молодых человека с портфелями в руках. Собравшийся на стоянке народ шумно захлопал в ладоши.
Гата с сомнением оглядел одетых весьма обычно гостей, но больше никто из автобуса не вышел, и тогда он бросился вперед. Перед этим он уже прошелся взглядом по собравшимся здесь односельчанам: более уважаемого, более достойного, чем он, тут не было. Выходит, гости и впрямь на нем. Раздвинув толпу, Гата встал перед ними.
– Добро пожаловать! – сказал он и пожал им руки. Потом показал кулак бесцеремонной детворе: – Ну-ка брысь! Медведя, что ли, увидели?
Один из гостей громко рассмеялся.
– Прямо в точку попал, матрос! – И кивнул на своего хмурого товарища. – Поэт Аюхан[71] – будьте знакомы.
– И вы в точку попали, – фыркнула одна из женщин, – он у нас и есть Матрос!
Толпа рассмеялась. Но Гата нахмурил брови, и смех тут же затих.
– А недостойный ваш слуга, – гость с улыбкой приложил руку к груди и подобающим образом склонил голову, – Калканлы[72] будет. Да, поэт Калканлы!
От любезности Калканлы первоначальная стеснительность, напряженность; какая бывает при встрече с незнакомым человеком, сразу прошла. Толпа обступила поэтов, каждый старался пробиться поближе.
«Хоть с виду и такие, не очень… но писатель – он писатель и есть, уже по имени видать», – подумал Гата. Уважения к гостям как-то сразу прибавилось, раскинув щедрое хозяйское объятие, он пригласил их в правление. Остальным только подбородком кивнул на клуб: туда, дескать, идите.
В правлении уже никого, кроме уборщицы, не было.
– Пока председатель с парторгом не вернулись, может, сходим чаю попьем? – сказал Гата, вспомнив совет Алтынгужина.
– Знаем мы ваш чай! – подмигнул ему Калканлы. – Нет, Матрос, чаи всякие мы потом будем пить.
Больше и говорить стало не о чем. Аюхан, видать, вообще молчун. Задумался о чем-то, смотрит уныло в окно. Калканлы, мыча под нос какую-то мелодию, что-то ищет в портфеле.
Гата растерялся. Где давешняя его смелость, где красноречие и подобающее Куштиряку гостеприимство где? Ни заговорить, ни сесть не смеет. Пошел к двери и стал с фуражкой в руках, как солдат, ждущий, когда его заметит начальство. Но тут, на его счастье, распахнулась дверь и в комнату вошли Исмагилов с Алтынгужином.
Калканлы, бросив портфель, вскочил с дивана:
– Алтынгужин? Или только мерещится…
– Асфандияров! – шагнул к нему зоотехник.
– Оказывается, вы знакомы, – сказал парторг.
– Только ли знакомы! Пять лет океан науки на одной скамье бороздили! – сказал Калканлы, обнимая Алтынгужина. – Вот, значит, в каких ты краях заблудился!
Пока они – хлоп да хлоп – били друг друга по плечу, пока Калканлы от умиления вытирал слезы, а Алтынгужин выспрашивал городские новости, Гата понуро, как человек, потерявший что-то очень нужное, тихо вышел из комнаты.
Он был ошеломлен. В первый раз в жизни увидел настоящего писателя, стоял с ним рядом, даже заговорил запросто, поверил, что даже имена у них не как у простых смертных, восхитился еще: да, мол, горшок с маслом по блеску видать! А на поверку поэт, который представился непривычным уху, по тревожным, загадочным именем «Калканлы», на самом деле самый обыкновенный Асфаидияров, даже языку произносить скучно. Разве может быть писатель с фамилией Асфаидияров? Или напутал что-то зоотехник? Да нет, если бы напутал, тот бы поправил: «Я ведь не Асфаидияров, – сказал бы, – я – Калканлы!» Эх, Алтынгужин, Алтынгужин!..
Прав Гата. Свои Асфандияровы и в Куштиряке есть, и в других местах их полным-полно. Может быть рабочий по фамилии Асфаидияров, колхозник, профессор, министр, но писатель – нет! Точно так же, как не может быть писателя по фамилии Мухаметрахимов, Мурзагалеев или там Ахметгареев… Ахметшин или Гареев – пожалуйста, но Ахметгареев, Асфаидияров – нет!! И не должно быть. Так считает Гата. Хоть многого он и не знает, но благодаря сметке ухватил самый корень проблемы.
Признаться, такого же мнения придерживается и автор. Как ни крути, а «Калканлы» и «Асфаидияров» даже рядом поставить нельзя. Небо и земля. Вот и молодым писателям урок. Вступил в литературу – первым делом об имени побеспокойся.
Одни делают так: соберутся с духом, зажмурят глаза и – рубят свою фамилию пополам! (Так, говорят, в прежние времена палец себе рубили, чтобы в армию не идти.) Потом выбирают половину позвучней. Фатхутдинов становится Фатхи, Миражетдинов – Миражи, Бадрисламов – Бадри или Ислам.
Другие же по месту своего рождения становятся Акташлы, Карамалы, Айский или Сайский.
Встречаются и такие таинственные имена, как этот Калканлы или Тонак.
Один парень даже фамилию американской поэтессы (по имени Ассата) себе утянул.
А уж —ов и —ев от фамилии отстричь – дело заурядное, сплошь и рядом. Начинающий поэт у нас, прежде чем за ручку взяться, берется за ножницы.
На днях в Уфе автор встретил на улице знакомого молодого поэта и почтительно приветствовал его: «Жив-здоров ли, Заминов-кустым?» Тот остановился, посмотрел так, будто не сразу узнал, потом сказал с укоризной: «Замин я». – «Брось, Заминов же ты! И под стихотворением, которое в позапрошлом году было напечатано, так и стояло: «Заминов», – упорствовал автор. Тогда поэт, задрав подбородок, сказал: «А почему Есенин себя Есениновым не назвал? И Сафин – не Сафинов!» – чем и заткнул неразумному автору рот. Какая польза творчеству от этих превращений, как говорит мой друг-критик, трансформаций, автор не знал, мог только догадываться.
Но потом, тщательно исследовав многие прозвища, псевдонимы, укороченные имена-фамилии, которые встречаются в литературном мире и в его окрестностях, он пришел к такому выводу: изменил имя или укоротил его – и талант сразу по-другому заиграл.
Теперь-то автор об этом с видом знатока рассуждает, но сам смолоду из-за своей нерасторопности эту возможность упустил. Взять бы ему и возвеличить свою речку, в которой мальчишкой, словно рыба, плавал, как утка, нырял, – назваться Казаякским! Или стать Куштирякским. Во-первых, тогда бы и Гата с таким пренебрежением не смотрел на него, его писательского достоинства не унижал. Во-вторых, словно чахлая березка в тени раскидистого дуба, под сенью своего прославленного однофамильца не потерялся бы. Все! Кайся, казнись – уже поздно, что есть, тем и довольствуйся. Вот и друг-критик, имея в виду славу однофамильца автора, говорит частенько: «Глядя на гору – горой не станешь».
Тьфу, заговорился! Со всеми этими поздними сожалениями автор и про гостей забыл. А они уже давно в клубе, на сцене сидят. Толк в поэзии Куштиряк знает. Складному слову (то, что арабы называют кафия, а друг-критик – рифма) цена здесь высокая. Так что народ на встречу с поэтами валом валил.
На радостях даже автору оказали снисхождение, пригласили в президиум, в один ряд с начальством и гостями посадили. Ни Аюхан, ни Калканлы его не знают, да и он видит их впервые. Когда же автор представился: «Такой-то…» – Калканлы рассеянно пожал ему руку: «Ты случайно не младший брат того самого однофамильца?..» – и снова повернулся к начальству.
Вечер начался. Первььм выступил Исмагилов, объяснил, зачем нам нужна поэзия, рассказал биографии приехавших из Уфы поэтов. Одно ухо у автора парторга слушает, а другое – невольно туда навострилось, где Алтынгужин с Калканлы о чем-то шепчутся.
– Поэму, которую на четвертом курсе начал, уже, наверное, дописал? Где напечатали? Мне что-то не попадалась, проглядел, может.
– Эх, брат! Не дали поэме ходу. В Союзе писателей обсуждение было, привязались: жизненного опыта не хватает да образа передового нашего современника нет. Дескать, в поэме страсть да разлука, любовь да тоска. Откуда им знать, что в основе всех великих поэм мировой литературы – любовь?! Один критик особенно цеплялся…
– Не критик такой-то, друг нашего автора?
– Он самый. Говорит, чтобы я у Йылбаева поучился. А я эту йылбаевскую поэму левой ногой напишу…
Автор в испуге перевел взгляд на Исмагилова. Тот как раз получил какую-то записку. Заглянув в нее, он сказал, что дальше вечер будет вести Алтынгужин (на что Шамилов обиженно поджал губы), и поспешно вышел из клуба.
Первым Алтынгужин дал слово Аюхану. Аюхан, немного смущаясь, вышел к краю сцены, почтительно поклонился залу. На усталом лице его чуть прочертилась улыбка; шрам, надвое рассекший правую бровь, побелел. Еще не затихли аплодисменты, как он заунывно, словно затянул мунажат[73], начал читать свои стихи. Сам тянет, а сам, будто железо кует, кулаком в кулак бьет. Но хотя движения решительные, глаза печальны, стихи грустны. Вот он размахнулся еще шире и в последний раз опустил свой молот на сердце слушателей: «Эх, по родной стороне стосковался. Только разве туда добе…жишь!» – на последнем слоге голос сорвался на хриплый шепот, и он замолчал.
Зал все еще боялся дышать. Имеющиеся носовые платки были уже в руках. И в этой тишине одна из женщин, то ли на грустное лицо поэта глядя, то ли под впечатлением стихотворения, сказала с жалостью:
– Бедный, раз так стосковался, что ж на чужбине-то маешься!
Другая:
– О господи-и! – И заплакала.
Эта плачет, слез унять не может, а в зале шум.
– Эх! – крякают одни и от полноты чувств кто платком, кто рукавом вытирают глаза, другие руками машут, чужие крики пытаются перекричать, просят почитать еще. Алтынгужин колокольчиком трясет. Сам Аюхан поднял правую руку и, виновато улыбаясь, ждет.
Наконец все стихло. Аюхан стал читать дальше. Таких рвущих душу тем он больше не касался, читал стихи о передовиках полей, о девушках-строителях, потом о творчестве, о дружбе, о любви, да и кулаком уже не так храбро ковал. Но поэт уже успел приворожить зал. Тускловатым ровным голосом читает и читает, слушатели обо всем на свете забыли, в самых простых словах им большой смысл открывается, до сердца доходит…
Наконец поэт вытер вспотевший лоб и пошел на место. Раздались недовольные голоса:
– И что, уже все?
– Читай еще, у нас время есть!
– Конечно, за столько лет впервые приехали…
Но Аюхан лишь кланялся, зажав ладонью рот, словно вдруг заныли зубы, и показывал на Калканлы. То есть, мол, его черед.
Калканлы тоже уговаривать себя не заставил. Он вдруг откинул голову, расхохотался и, приглаживая на ходу пегие кудрявые волосы, вышел вперед. Хоть ростом пониже среднего, встал на краю сцены и принял позу Юлия Цезаря. Сдвинул брови, оглядел зал: «так-так» можно было прочитать в его взоре. (Автор, не в силах скрыть восхищения и зависти, воскликнул: «Вот, ай!» – потому что сам он, даже если надо всего-то на профсоюзном собрании зачитать справку, сразу краснеет, бледнеет и немеет. В общем, какой тут Юлий Цезарь – провалившийся на экзамене мальчишка!)
Калканлы еще раз оглядел зал и кашлянул раза два, настраивая голос на нужное звучание.
– Перед тем как выйти в дорогу, аксакалы нашей литературы дали мне такой совет, – задумчиво начал он. – «Если придется выступать, говори, стоя на одной ноге» – так наставлял меня руководитель. Вот так! – Калканлы, согнув в колене, поднял левую ногу.
Народ зашумел одобрительно, захлопал в ладоши. Понятно, и в этот раз женщины оказались расторопней:
– Вот потеха! – хлопнула себя по бедрам одна.
– Ах-ах, а зачем так велели? – закудахтала другая. Вопрос был резонный. А в резонном деле и мужчины не остались в стороне. Каждый строил догадки, исходя из того, как понимает смысл странного поручения, возложенного на поэта.
– Ых-хым! – высказал свое мнение даже Гата Матрос.
В этот миг весь зал от президиума до самых последних рядов был в тенетах Зульпикея.
– Подождите, не торопитесь! – крикнул Калканлы, все так же стоя на одной ноге. Ни о маневрах Зульпикея, ни о нем самом он ничего не знал. – Дело, мои родные, вот в чем. Известно, что на одной ноге долго не простоишь. Значит, и говорить придется покороче: и сам не устанешь, и слушателям хорошо. Все понятно? Помня об этом, я решил вашего времени не отнимать, стихов не читать, а коротко ознакомить вас с моими творческими планами.
– Нет, нет, стихи читай, планов у нас у самих хватает! Что ни месяц – то план!
– Смотри-ка, и на стихи, значит, план есть, вроде как у нас на свеклу!
– Не может быть!
– Так сам же говорит, – спорили слушатели уже друг с другом.
Калканлы, не обращая внимания на шум, нарочно понизив голос, продолжал что-то говорить. Народ поневоле замолк.
– Зря шумите, – словно выговаривая малым детям, сказал Калканлы и покачал головой. – Сначала послушайте. Ведь мои планы именно вас-то и касаются.
Зал пошумел немного, проявил свое отношение к этому заявлению и снова уставился гостю в рот.
– Да, именно вас, и никого другого. Районное руководство сказало мне, что только в вашем колхозе я найду людей, достойных войти в мою поэму.
На этот раз шум не затихал долго.
– А районное начальство кого-нибудь поименно не назвало? – сверкая медалью, к сцене вышел Сыртланов Юламан, по прозвищу Нашадавит. По тому, как он важно погладил рыжие усы, было ясно, кого он сам лично назвал бы поименно.
– Назвали, нет ли, во всяком случае, не ты тот человек, который в поэму войдет, – оттирая его в сторону, сказал Зариф Проворный.
– Как это не я? Наша давит! Где другой такой тракторист, как Юламан! Может, себя в поэму хочешь? Или Стахана своего? Шиш тебе! Когда председателем был, ты уже попал в газету «Красный плуг». Мало тебя тогда взгрели?
– Со мной состязаться у тебя, как в Степановке говорят, кишка тонка, – не сдавался Проворный. – И Самат твой – тьфу!
– Верно, товарищ Калканлы! – ринулся к сцене еще один. – Если среди Сыртлановых и найдешь кого, так только для «Хэнэка». А для поэмы, товарищ поэт, Урман-баевых бери!
– Или Кутлыбаева возьми, молодой, а уже…
– Нет, начальство нельзя, им не разрешается!
– Стахана возьми, а не годится он – Гату!
– Юламана! Самата!
Такого бурного обсуждения своих творческих планов Калканлы не ожидал. Растерянно улыбаясь, он то оглядывался на Алтынгужина, то снова поворачивался к залу. Нога уже давала себя знать. А скандал все разрастался, уже и грешные словечки одно за другим выпархивать начали. Зульпикей бегал по залу и потирал руки. Еще немного, и до кулаков дойдет.
– Встань на две ноги, – сказал ему Аюхан, понимая, что теперь все внимание Калканлы уйдет в ногу и он ничего придумать не сможет.
– Погодите-ка, товарищи, не шумите! – опомнился увлеченно следивший за спором Алтынгужин и затряс колокольчиком.
Калканлы послушался разумного совета и с широкой застывшей улыбкой на лице, высоко поднимая колени, прошелся по сцене.
– Вы меня, кажется, немного – ха-ха! – неправильно поняли, – сказал он и, замолчав, подвигал затекшей ногой, точно так же, раздвигая рот и щеки, размял затекшую улыбку. – Давайте установим, что такое поэма? Проще, образно говоря, – многоквартирный дом. Там каждому – ха-ха! – место найдется. И товарищам с этой стороны и товарищам – с той. – Он уже, видно, разобрался в расстановке сил. – Но, друзья мои, данная моя поэма – в стадии завершения. Пустых квартир нет. Только одна девушка нужна. Молодая, красивая и – ха-ха! – работящая.
– Тогда, выходит, меня ищешь, – сказала, вскакивая с места, шустрая старушка Бадегульбану, известная в ауле как бабушка Бану или старушка Трешка. (Если укороченное Бану говорит о том, что обычай укорачивать имена присущ не только поэтам, то псевдоним Трешка указывает на место, которое она занимает в экономике аула. Дескать, приспособила стиральную машину под самогонный аппарат и гонит ее, родимую, недорого, по трешке бутылка. Машину, разумеется, приспособил Карам. За истинность этих сведений автор не ручается, ибо бабушку Бадегульбану и на улице встречал, и домой к ней заходил, но поговорить так и не смог. Старушка при виде человека в городской одежде сразу глохнет на оба уха.)
Вскочила старушка Трешка с места и, сверкая сплошь золотыми зубами, засмеялась. Калканлы в страхе попятился назад.
От дружного хохота в клубе зазвенели стекла. Особый восторг это вызвало у парней, сидевших на задних рядах: одни по-тарзаньи кричат, другие свистят, остальные, бесталанные, ногами топают.
Алтынгужин кричал – голос надсадил, руками махал, но никто на него и не смотрел. Шамилов грустно улыбался: слабое руководство. Старушка же Трешка сделала свое дело и, бормоча: «Коли я не приглянулась, ищите сами, у меня дома суп кипит…», расталкивая хохочущих слушателей, пошла к дверям. Эх, знать бы, какой там дома без нее «суп» кипит!
Если бы в дверь, которую толкнула Бану Трешка, не вошел Карам Журавль, неизвестно, чем бы все кончилось.
Но Карам не войти не мог. Какое только произведение ни возьмите, в самый затруднительный момент, в самой запутанной ситуации на сцене появляется он – спасительный Герой! Силу и авторитет его никакой мерой не измерить, ни на каких весах не взвесить. Он может находиться за тысячи и тысячи километров от места событий, может быть занят на самой высокой службе, может даже лежать больной – не имеет никакого значения, он придет и выручит. Два молодых любящих сердца страдают, соединиться не могут – Герой (в данном случае – умный начальник) с ласковой отеческой усмешкой поможет им найти свое счастье. Пять-шесть положительных персонажей из сил выбьются, одного злодея одолеть не могут – наш Герой двумя-тремя словами вгонит мерзавца в прах или, на худой конец, приведет милицию. В отдельных произведениях, когда очень уж нужно, он даже из мертвых оживает и, перепоясавшись потуже, бросается на выручку…
Карам же всего-то немного покалечился и лежал не за тысячи верст, а в нашей районной больнице. Значит, и возвращение его после исцеления в родной аул вполне естественно. Во всяком случае, какие-то там телесные раны на больничной койке в стороне от такого исторического события его не удержали.
Итак, вошел Карам. Если не считать, что похудел и оттого стал еще долговязей, что голова белым бинтом обмотана, а левая рука в марлевой повязке лежит, – все тот же Карам. Вот он с деловым видом прошел вперед, отодвинул в сторону топтавшихся у сцены Сыртлановых (впрочем, Юламан и сам, смекнув что-то, поспешно отступил назад), поднялся и встал возле президиума.
При виде его зал прокричал «ура» и захлопал в ладоши. Карам поднял правую руку. И приветствие залу, и просьба унять шум – все в одном этом жесте. Калканлы отступил назад. Рядом с триумфатором, которого с таким почетом встретили земляки, о Цезаре он забыл.
– Если бы сын не прибежал, не сказал, так бы и остался дома, не увидел бы здешней потехи, – сказал Карам.
– Только ли потеха? Срам! – сказал первое свое слово за весь вечер Шамилов. Уж если бы вечер повел он, ни шума этого, ни скандала не было.
Карам положил шапку на стол, а наброшенный на плечи полушубок скинул на пустой стул. Полушубок он скинул не без умысла: на Караме был новый сине-зеленый с блестками костюм. (Такой костюм автор только на одном драматурге видел.)
– Ну и костюм у тебя! – прищелкнул кто-то языком.
– Где подцепил?
– Как говорится: коли на богатом – «носи на здоровье!», коли на бедняке – «кто дал?». Нет, зятек, костюм – это пустяк. Тряпье! Говорят, героя для поэмы выбираете, правда это? – спросил Карам, глядя почему-то на Шамилова.
– Может, друг Карам, героем рассчитываешь стать? – улыбнулся Юламан.
– А кого я хуже? За что, думаешь, костюм этот дяде твоему подарили? За мотолет, а того больше – за отвагу наградили. Значит, что получается? Ладно, пока оставим… Нет, не знаете вы еще Карама. Даже собственный наш автор, всю страну объездил, мир повидал – и тот до конца не понимает. Я ему это в глаза говорю, за спиной шептаться привычки не имею. Пусть на прямое слово не обижается… Не понимает – и шабаш! Ведь того, что я повидал, – не то что в одну – в пять книг не уместишь.
– Погоди-ка, Карам-агай, для поэмы-то, оказывается, девушка нужна, – сказал Алтынгужин.
– Вот всегда так, только до нас очередь дойдет… Девушка, говоришь? Сразу бы так сказал! Нечего и голову ломать. Танхылыу! Почему, скажете? Потому что не Сыртланова она и не Урманбаева. И к тому же передовая доярка, – положил конец спору Карам.
– Ай-хай, – сказал кто-то, – а удобно ли? До сих пор упрямится, на работу не выходит.
Калканлы вскочил с места.
– Так это же и хорошо! – воскликнул он. – Значит, сложный, противоречивый образ. И конфликтная ситуация налицо, – чем и разрешил все сомнения.
Шамилов понял, что коли совсем в стороне остаться не удалось, то нельзя, чтобы собрание обошлось без его веского слова.
– Сегодня не вышла, так завтра выйдет. На пути к ферме океан не разлился, – сказал он. – Подумаем о другом. По-моему, о Танхылыу должны написать оба поэта. Социалистическое, так сказать, соревнование. Чья поэма лучше, интереснее получится, тому от имени колхоза премию дать.
– Ну и голова у тебя, товарищ Шамилов! Афарин! – сказал Карам, чем порядком умаслил учителя.
– Я согласен, – сказал Аюхан.
– Ладно, коли так, и я согласен. А ту свою поэму я потом допишу. Там философия очень глубокая, сложная. То ли войдет в нее деревенская жизнь, тот ли нет, не знаю… – сказал Калканлы. – Я новую поэму напишу, называться будет «Танхылыу»!
Все опять захлопали, зашумели одобрительно. Только девушки-доярки сидели молча, поджав губы и скрестив руки на груди.
Народ начал расходиться, и молодежь, с нетерпением ждавшая, когда освободится клуб, принялась сдвигать стулья, спеша освободить место для танцев. Сегодня была очередь магнитофона Гаты.
Пожалуй, громче всех тому, что вопрос с поэмой решился именно так, как предложили Карам и Шамилов, хлопал Гата. Из одного зернышка каши не сваришь, с одним героем – поэмы не напишешь. Если же поэма про Танхылыу, значит, нужно показать и тех, кто рядом с ней. А начнешь тех, кто рядом, перечислять, то в самом начале (в крайнем случае – в середине) надо внести в список и Гату. Он и Калканлы за то, что он не Калканлы, а Асфаидияров, уже простил, и пережитые по этому поводу горькие разочарования позабыл.
Если из двух поэтов хотя бы один в будущей поэме рядом с Танхылыу обрисует и его, Гату, тогда девушка сама поймет, что к чему. Книжное слово – это не деревенские пересуды… Эх и потанцует сегодня Гата!
Чувства же автора были гораздо сложней. С одной стороны, он радовался тому, что теперь Куштиряк войдет не только в прозу, но и в поэзию. Но с другой – огорчался, что люди и события, которые он собирался изобразить сам, могут ускользнуть из рук, стать добычей молодых поэтов с быстрыми карандашами. Что поделаешь, автор тоже человек. От таких дурных чувств, как зависть, ревность, желание опередить ближнего, он еще освободился не полностью.
Потому если для Гаты поездки из правления на ферму, с фермы в Яктыкуль или Ерекле, куда возил он поэтов, которые целых три или даже четыре дня изучали жизнь, были праздником, то для автора это неожиданное объединение интересов оказалось сущим бедствием.
Молчаливый Аюхан Гате не особенно понравился, но с Калканлы он постарался сдружиться, всякие малые и большие его просьбы бегом исполнял.
Однажды, когда они вдвоем возвращались из Ерекле, поэт сказал:
– Эх, жажда одолела, Матрос! Самовар чаю один бы опустошил и не охнул.
Гата тут же подхватил:
– У матери самовар всегда горячий стоит.
– А удобно ли?
– Ых-хым!.. Потом, наверное, хрустяшек, которые моя мама печет, не пробовал.
– Хрустяшки? А что это – хрустяшки? – В голосе Калканлы вспыхнул такой интерес, что Гата вместо ответа повернул уазик к своим воротам.
Автор должен заметить, что понятие «изучать жизнь» вбирает в себя очень многое. Действительно, разве может поэт, не изучивший даже хрустяшки, написать о Куштиряке поэму? Нет, не может! Почему, спросите? Потому что хрустяшка – самая вкусная, самая любимая куштирякская еда, по-научному говоря – типическая черта этого аула. Попутно заметим: ни в Яктыкуле, ни в Ерекле этой изысканной снеди нет. (Узнать бы, есть ли она в Канлы или Кляшево?)
Будучи уроженцем этого аула, рассказ о том, как готовится, как печется хрустяшка, когда подается на стол или в каких случаях не подается, автор берет на себя.
Уже по названию видно, что основным свойством хрустяшки является то, что она хрустит. Чтобы добиться этого качества, мать Гаты замешивает тесто только на сливках и яйцах, воды не добавляет ни капли. Когда тесто подойдет, посредством инструмента, именуемого скалкой, раскатывает его в тонкие лепешки с блюдце величиной и кладет в кипящее на сковородке топленое масло. И чем тоньше раскатано тесто, тем тоньше зубчики выреза по краям, тем ласковей, тем нежней его хруст потом, когда грызещь эту хрустяшку и запиваешь чаем. Но пекут ее не каждый день. Когда просто гости, хрустяшка простая, а уж на свадебное застолье подается хрустяшка медовая: живите, дескать, молодые, то есть жених с невестой, в согласье-радости, в любви-сладости!..
Калканлы и тех хрустяшек отведал, и этих. Ибо, наведавшись к старушке Трешке (его одежда, видно, не смутила бабушку, или поручители у него были серьезные) и вкусив от жизни горечи, поэт должен был узнать и сладость ее. В поэтической службе, как и в любой другой работе, говоря словами Шамилова, диалектика впереди ходит.
Вот так в сложной культурной жизни Куштиряка произошло выдающееся событие. Родной аул автора сделал еще один шаг, чтобы войти в литературу.
А Гата сделал еще шаг к своей мечте. Выпытав, как и о ком напишет Калканлы, он отвез обоих поэтов в Каратау, посадил в поезд и помахал на прощание фуражкой с медным кочаном.
8
А с той, о ком собрались писать, с ней-то самой наши поэты встретились или нет? Во всяком случае, может сказать недоуменный читатель, автор говорит об этом весьма невнятно. Выходит, с хрустяшкой познакомились, а с будущей героиней – нет?
Отвечаем на вопрос.
Во-первых, Аюхан. Он, как и автор, придерживается того сермяжного правила, что писать лучше не о том, что слышал, а о том, что видел. На следующий же день Аюхан пошел к Танхылыу и проговорил с ней до самого вечера. Потом, накануне отъезда, встретился со своей будущей героиней еще раз. Вероятно, эти встречи, беседы живыми красками заиграют в поэме Аюхана, спешить не будем, подождем. Обычно, вернувшись из путешествия, писатель о землях, которые видел, о дорогах, которыми прошел, пишет книгу. Не книгу, так нечто, называемое «путевыми заметками». А не заметки, так хотя бы обо всем виденном друзьям за столом расскажет. Но, может, Аюхан и впрямь свое обещание выполнит? И руководители, которые послали его в командировку, от него произведения ждут. Потому что бёз произведения показать связь литературы с жизнью и отчет составить трудно.
Во-вторых, Калканлы. Являясь поэтом философского склада, он обязан был быть выше мелочей жизни, не видеть их, а если от какой-нибудь и не удастся отвернуться вовремя, сделать вид, что не заметил ее. Ему не какой-то определенный случай или вот этот, скажем, человек интересен – важен общий взгляд на мир. Белое и черное, горечь и сладость, добро и зло, их борьба, их неразрывность и противоположность – вот на каких струнах играет лира (по-куштирякски – кубыз) Калканлы. Так что сомнительно, чтобы в будущей поэме для Танхылыу нашлось место. Но, будьте уверены, поэма, как он уже сказал в клубе, будет называться: «Танхылыу». Так что можно сделать вывод: если поэт свою будущую героиню и в глаза не видел, то это даже к лучшему. Тут не содержание, тут, как говорил покойный дед Бурангул[74], идея важна.
Новая забота свалилась на автора. Не один даже, а сразу два поэта навострили перо на Куштиряк, так что придется поторопиться, хоть как, но выпустить это историческое повествование в свет первым. Непростое это дело – на куштирякском беспородном обогнать пару стоялых городских Пегасов. Но есть у автора в запасе козырь: эти-то городские наших дорог еще не знают!
Но и вопросов, на которые автор должен ответить в своем произведении, еще много: как будет разрешена проблема тополя? что предпримет Гата? что задумали его противники? Все это ждет ответа.
И вот, чтобы прояснить темные места, шире раскрыть жизненную правду, автор выводит на сцену персонажей, которых до этого его перо только порою и лишь на короткий миг вырывало из темноты.







