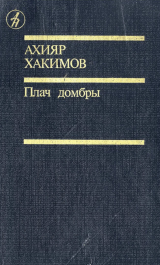
Текст книги "Плач домбры"
Автор книги: Ахияр Хакимов
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 41 страниц)
Еще с сенокосом не развязались, а на склонах холмов, обращенных к солнцу, поспела рожь. Весь аул, все, кто на ногах, вышли в поле. Остались, как говорится, только ползающие и ковыляющие – самые малые и самые старые.
Август был на исходе. Дожди изводили целую неделю, так, чередой шли и шли один за другим. Но вдруг разом прояснилось, наступили сухие и жаркие дни. Солнце еще из-за горы не выкатилось, а уже начинает припекать, и земля качается в струях марева. Спелые, ждущие серпа нивы, луга в высокой отаве паром исходят. Зной сушит горло, кружит голову. Лениво подует в полдень недолгий ветерок, но и от него никакого облегчения.
Однако время у лета ушло. Как бы ни примолодилась природа после дождей, но той силы и нежности, что в июне, уже нет. Перед рассветом потянет с севера холодком, выбелит траву утренник. И дрогнет сердце, когда в могучих кронах, только вчера еще стоявших горделиво, заметишь поникшие желтые сережки. И в ночных часах своя печаль. По-особому ярко сияют звезды; вдруг то одна, то другая отрывается от неба и, растревожив душу, улетает в глубь мироздания; только длинный стремительный росчерк мелькает в полных, готовых выйти из берегов водах Казаяка.
А людям, которым с весенней бесхлебицы до осеннего изобилия немного дотянуть осталось, в пору жатвы было особенно трудно. Поспели в лесу орехи да ягоды, до срока начали ворошить молодую картошку, но людям, от зари до зари гнувшим спину на жатве, не этим бы пробавляться. Работнику хлеб нужен. А его забирает государство. До изнеможения, до кругов перед глазами жни, потом вяжи снопы, потом обмолоти, провей чистое, как янтарь, зерно, своими руками засыпь его в мешки и вези на станцию. И спеши, спеши, спеши – фронт ждет, фронт требует!
Как ни бились колхозные умельцы, починить удалось только две жатки. Ладно, худо-бедно, еще две жатки, может, и наладили бы. Но, как говорил старик Салях, «тягловая сила» где? Лучших коней еще в сорок первом в башкирскую дивизию отдали. А недавно и из оставшегося косяка отобрали тех, которые на что-то еще годились, и отправили на станцию Алкино, где формировался новый полк. Пришлось из клетей, из-под застрех доставать серпы.
Алтынсес, как и любая деревенская девушка, серпом немного управлялась. Полынь там, лебеду, забившие зады огорода, жала, молодую траву для гусей и уток. Но на большую колхозную жатву нынче вышла впервые.
В первый день Алтынсес с бедой и муками еле-еле до пятидесяти снопов дотянула, но через неделю вязала уже по сто пятьдесят. И то было хорошо, что самые невеселые думы могла задавить эта работа. Намаявшись днем, и ночами не просыпалась, тоской не изводилась. Нет, иногда просыпалась – внезапно, будто подброшенная. И, затаив дыхание, слушала. Ей казалось, что кто-то скребется в стекло, осторожно ходит под окнами. Никого. Спит в своем углу свекровь, спят Надя с Зоей. Ни в доме, ни во дворе ни звука. На улице – тишина. Взлает где-то сквозь сон собака, и снова все молчит. Умаявшись на страде, сладким сном спят куштиряковцы. Алтынсес тоже полежит немного, послушает эту праведную тишину, раскинет истомленные руки и заснет.
Она и в разлуке жила своей любовью. Встреча с Хай-буллой, вечера на берегу Казаяка, его признание, свадьба, скорая и невеселая – опомниться не успела, накатило и отхлынуло. Осталась только любовь. И поначалу, после того плача в грозу, которым смыло отчаяние, она не чувствовала одиночества и тоски. Но прошла неделя, от мужа, который обещал писать с дороги каждый день, не пришло ни весточки, она встревожилась. Неужто позабыл уже Хайбулла? Мало ли какие могут быть встречи, особенно в пути? Вдруг попалась там какая-нибудь красавица, и все, Алтынсес, жди-дожидайся… Что делать, куда пойти молодой брошенной жене?
Придет домой Алтынсес, смотрит на свекровь, а старуха молчит, знает, чего невестка ждет, а утешить нечем.
Дни шли, и с каждым днем убывало терпение Алтынсес. В обед, а если жали поблизости от аула, и посреди работы, найдя предлог, прибегала домой.
Свекровь ворчала:
– Опять прибежала… Хоть бы отдохнула заодно со всеми. – Глаза невестки наполнялись слезами, других слов ждала. Старуха отводила взгляд, и голос, хоть медом не точился, но становился мягче. – Нет ничего, дочка… Дорога ведь, наперед не угадаешь. В битком набитом вагоне где там письма писать, рад будешь, если куда голову приткнешь. Коли придет письмо, разве усижу я дома, сама прибегу…
Мастура и сама боль в печенке затаила, только виду не подает. А у Фаризы своя привычка – она все примеры приводит:
– Ты брата вспомни. Уехал – через три месяца только пришло письмо. А отец?
– Они – другое…
– Это почему еще – «другое»? Сейчас все судьбы – одних четок зернышки. Вот увидишь, и письмо придет от зятя, а там, глядишь, и сам с братом твоим и отцом вместе домой заявится.
…Алтынсес отерла лоб, посмотрела в сторону аула. Сегодня утром свекровь сказала: «Эх, дочка, коли с ног свалюсь, так на четвереньках доползу, лишь бы письмо пришло». Нет, не видно старухи. За полдень уже, почта давно была. Выходит, и сегодня нет.
Она взвалила на плечо тяжелый сноп, отнесла, уложила его в копну и пошла напиться к стоявшей под одиноким осокорем бочке. Только поднесла к потрескавшимся губам кружку, как услышала:
– Эй, Алтынсес, посмотри, кажется, твоя свекровь идет!
Не помнит, как швырнула кружку и со всех ног понеслась навстречу свекрови. Бежит, а сердце в грудь колотится, вперед нее прибежать хочет. Не было другой нужды, которая в палящую жару выгнала бы старуху в поле. И думать об этом нельзя! Только одно! Письмо несет!
Шагавшая по стерне Мастура, завидев невестку, прижала руку к груди и опустилась на землю. Алтынсес же ничего не видела, бежала и бежала. Ни уцепившегося за ногу вьюнка, ни того, что фартук с развязавшимися тесемками взлетает и бьет по лицу, ничего не замечала.
Вот она добежала и встала перед свекровью: По лицу то ли пот течет, то ли слезы, толчками вздымается грудь, в широко раскрытых глазах и страх, и надежда. Одно слово Мастуры, один только жест – и она или в огонь рухнет, или в небо взлетит. Но свекровь только растирала ладонью грудь и улыбалась виновато, тоже одышку унять не могла.
Тут Алтынсес увидела в ее руках белый треугольник, налетела коршуном и вырвала его без всякого почтения. Задохнулась, даже развернуть письмо не было сил. Весь стыд забыла, и к груди прижимала, и нежно гладила, и к пылающему лицу прикладывала, плакала и смеялась. Мастура немножко успокоилась, отдышалась, вытерла глаза.
– Ну, читай же, дочка!
Алтынсес словно очнулась, села на стерню рядом со свекровью, развернула мокрый от слез треугольный листок и одним взглядом охватила все письмо.
– Как мало написал-то… – вздохнула она.
Мастура знала и арабское письмо, и латинские буквы разбирала, а вот к новому русскому алфавиту, введенному перед самой войной, – стара уже, опоздала. Она взяла письмо в руки, так и эдак повертела.
– Времени, видать, не было, у жеребеночка моего… – сказала она, возвращая письмо. – Слава аллаху, жив-здоров. Вот увидишь, обглядится маленько и все обстоятельно напишет.
Да, Хайбулла и сам так написал: «Только случай выпадет, напишу длинно и обо всем». Нет, не забыл любимый! Любит, тоскует! Весь мир просветлел. Золотые лучи залили высокое бледно-голубое небо. Звенел прозрачный воздух, словно в ясный август жаворонки, давно уже отпевшие, снова тряхнули своими бубенцами. Во всю ширь поля растянулся сытный запах сжатой ржи.
Алтынсес, не в силах спрятать улыбку, шагала по жнивью, о свекрови на радостях совсем забыла. Старуха, поджав губы, склонила голову к плечу и посмотрела ей вслед, потом вздохнула с легкой обидой, поднялась с трудом и пошла к аулу. Ступала медленно, вид усталый, но затененное платком лицо светилось.
А невестка спрятала письмо на груди, подошла к стене густой и высокой, как казаяковский камыш, ржи и с каким-то веселым неистовством начала жать. Ухватисто заберет она левой рукой твердые золотые стебли, сведет в пучок, и тут же сверкнет острый серп и слизнет его. Еще треск рвущихся стеблей не затих, а новый пучок уже сам бежит в горсть. Поле перед ней, словно подмытое водой, на глазах убывает, охапки ржи, которые скоро станут тугими снопами, растут и растут.
На вечернем счете бригадир Сынтимер (сразу после возвращения его поставили на место отца – старика Саляха) объявил, что сегодня Алтынсес связала двести пятьдесят снопов. Женщины обступили ее, начали хвалить и поздравлять.
– Быть не может. Наверное, Сынтимер приписал, – не поверила Кадрия.
Женщины тут же начали кричать на нее. Но Кадрию смутить не просто. Двум девушкам пришлось заново пересчитать снопы.
– Все верно, двести пятьдесят ровно!
Кадрия как ни в чем не бывало обняла подружку:
– Надо же! А я жала, спины не разгибала – еле-еле двести. С чего это ты так разошлась?

Алтынсес ничего не сказала, засмеялась тихонько и, просунув руку под фартук, погладила письмо на груди.
– Она не как ты, жнет серпом, а не языком, – поддела Кадрию одна из женщин.
– Ой, вы на эту немочь взгляните только! Она, видите ли, сто двадцать связала! Тут люди разговаривают, а она туда же, со своим словом лезет!
– Ну-ну-ну! Будет вам! Опять базар… – вмешался Сынтимер.
Полная своей радостью, Алтынсес отошла и села в сторонке. Связанные ею снопы, похвалы женщин, их споры, быстрая горячая перепалка – все это, лишь коснувшись, скользило по краешку ее сознания. От голода и жажды кружилась голова, в руках все косточки ныли – хоть и чувствовала, но до рассудка все это не доходило.
К ней подошла Фариза.
– Ты что сидишь, случилось что-нибудь?
Дочь кивнула, чтобы та нагнулась, и, к удивлению матери, поцеловала ее в пыльную, в разводах от пота щеку.
– Что с тобой, ты чего такая? – все больше удивляясь, спросила Фариза.
– От Хайбуллы письмо пришло, мама!.. – прошептала Алтынсес.
– Когда принесли? И молчит ведь, будто перстень во рту прячет! То-то говорили, что сватья приходила! Вот счастье-то! Слышали?! – крикнула Фариза. Она резко, будто молодая, вбежала в круг женщин. – Слышали? От зятя письмо пришло!
Женщины поспешили к Алтынсес.
– Вот радость-то!
– То-то у меня с самого утра правое веко дергалось – было, значит, к чему.
– Понятно! Она с письмом возле сердца жала, – не удержалась, поддела Кадрия. – Потому такую кучу снопов и накатала.
Пришло кому-то письмо с фронта – значит, оно всему аулу пришло. Читают все, в любом слове какой-то намек видят, скрытый смысл ищут: разгадай его, и сразу станет ясно, как же на самом деле там обстоят дела. Такой у женщин Куштиряка заведен обычай. Долгими ли зимними вечерами на посиделках, летом ли в поле в короткие минуты отдыха – разговор о письмах зайдет непременно. Письмо, которое бог весть сколько раз читано, слушают с неотрывным вниманием. Там, где солдат немного чувства подпустил, растрогаются, всхлипывать начнут, поплачут немного; там же, где, наоборот, смешное что-нибудь, смеются до слез. Если в конце письма солдат песню приписал, и говорить нечего, тут же заучат наизусть. А какая-нибудь песенница побойчей, вроде Кадрии, подберет мотив и споет с ужимками – так бы, дескать, спел сам отправитель письма.
– Ну-ка, Алтынсес, прочти письмо Хайбуллы! – сказала Сагида, обняв ее за плечи.
Женщины, забыв об усталости, о домашних заботах, уселись в кружок. Алтынсес сидела, опустив глаза, не знала, что и сказать: письмо-то было написано ей одной. Люблю, тоскую – вот и все слова. Кому другому показать или вслух прочитать – со стыда сгоришь. Даже когда она его одна читала – лицо жаром горело.
В половину страницы письмо. Она уже знала его наизусть. «Свет очей моих, Алтынсес! – писал любимый. – Только сейчас, когда расстались, я до конца понял, как люблю тебя. Так люблю, что жить без тебя не могу. Во сне и наяву только о тебе и думаю. Эх, сколько слов я тебе так и не сказал!
Мама, Зоя, Надя на твою заботу остались. Живите дружно. Обещал писать прямо с дороги, да не вышло. А почему, объясню потом. Только этой ночью добрался наконец до фронта, разыскал свою часть. Очень некогда. Если долго не будет писем, не тревожьтесь. Только случай выпадет, напишу длинно и обо всем. За меня не бойся, будь терпелива, милая моя Алтынсес. Земля разверзнется, весь мир в огне будет – вернусь все равно, жди. Сто, нет, тысячу раз целую…»
Фаризе не понравилось, что дочь сидит молча, прикусив губу.
– Ну-ка не томи людей. Не такие уж секреты, наверное, – сказала она строго.
– Так ведь… никаких новостей… пишет, что жив-здоров, больше ничего, – пробормотала Алтынсес.
– И даже «люблю, скучаю» не пишет? – насмешливо оттопырив губу, сказала Кадрия. – Вот оно: слишком яркое – скоро слиняет. Уже не до тебя ему.
– Придержи язык-то! Может, кроме «люблю», и слов других нет, – вступилась одна из женщин.
Алтынсес только пуще вспыхнула.
– Вот это и есть самое дорогое. Читай! – напирала Сагида.
Алтынсес вдруг вскочила и без оглядки припустила к аулу.
Женщины переглянулись. Одни поморщились, будто полынь на язык попала, другие удивленно покачали головой. Оживление погасло, только сейчас, кажется, заметили, что солнце зашло за двугорбый хребет. Сразу вспомнили, что дома сорок дел недоделано, дети без присмотра, корова недоена. Снова почувствовали усталость, голод и, потухшие, злые, потянулись домой.
Вот так Алтынсес обидела односельчан. Обычай, который многим в тяжелую пору утешением был, нарушила. Испугалась, что слова любви, предназначенные только ей, по чужим ушам разлетятся.
Слов нет, это ее право. Хайбулла – ее, только ее. В каждом слове письма – тайный смысл, понятный одной ей. Не для чужих глаз и не для чужих ушей. Ну и что ж, что война? Это еще не значит, что душу наизнанку носить.
Все так. Но у женщин своя мера и своя правда. Им любая весточка, пришедшая за тысячи верст, с поля боя, дорога. С какой бы оглядкой, взвешивая каждое слово, ни писал солдат, в ауле его письмо прочитают по-своему. Любой намек за кончик ухватят и размотают; точка станет запятой, запятая многоточием. Поначалу особое внимание на то, что солдат про еду-питье пишет, потом – в каком настроении он писал, бодром или не очень. Когда письмо отправлено, сколько шло, нет ли знакомого названия – большой реки или известного города, – все давало новые сведения о положении на фронте. Письмо с письмом сопоставляли, с разных сторон сравнивали, до самой сути пытались дойти и угадать, как пойдут дела дальше.
А нет таких вестей, тоже не беда. Письму, в котором о чувствах, о любви-тоске говорится, особая цена. Кому бы ни было адресовано оно – любого коснется, каждую душу оживит. Не зря старик Салях говорит: «Есть на свете любовь – значит, живем!» Вот почему такие письма слушали, как слушают хорошую книгу, каждая слышала в них голос любимого человека. Была в этих словах стосковавшимся – отрада, изверившимся – опора, неверным – урок и упрек.
Слишком юной была Алтынсес, не поняла, отвергла просьбу подруг-солдаток. Спрятала на груди письмо любимого, свое счастье от чужих глаз захоронила. Испугалась, что, если поделиться радостью, самой останется меньше. И не знала, что письмо это было первым и последним.
В ауле и радость и горе были общими, всем делились. Алтынсес же, без памяти от счастья, держалась в стороне, раньше других приходила на поле, позже всех уходила. Окликнут – откликнется, нет – сама не заговорит, работает, головы не поднимает. Одним душа полна: жив Хайбулла, любит ее, тоскует! А что ей нужно еще? Скоро новое письмо получит. Вести с фронта хорошие, война к концу идет. Недолго осталось ей ожиданием томиться.
На неприветливые лица женщин, на их обиду Алтынсес не обращала внимания. Даже Фариза такого поведения дочери не одобрила. Да и Мастура, кажется, прослышала что-то, раньше все «невестушка» да «невестушка», возле нее суетилась, а тут вроде отдалилась как-то. И вот что удивительно – свекровь с невесткой, словно по уговору, о Хайбулле не говорили. Будто опасалась каждая, что поделится своими чувствами, и весь жар их остынет, словами изойдет.
В эти дни еще одно письмо пришло в Куштиряк. Черное письмо. Гали, жених Кадрии, погиб под городом Дорогобужем.
Услышав эту страшную весть, Алтынсес прибежала к подруге.
Кадрия жила вдвоем с хворой, тугой на ухо матерью. Отец ее умер от воспаления легких два года назад, перед самой войной. С тех пор все хозяйство на плечах Кадрии. И в колхозе работает, и за скотиной ходит, и за больной матерью ухаживает сама. Но всем бедам назло, она не жаловалась, не унывала, всякая работа в руках горела. Мало того, выросла разбитной и на язык острой, никому спуску не давала. Фариза все усмехалась: «Ее не задирай, а задрался – удирай». Смуглолицая, с черными бровями вразлет, статью стройная, как косуля, – вот какой была Кадрия, лучшая к тому же песенница аула.
Были уже сумерки. Алтынсес осторожно отворила дверь и вошла в маленькую, не больше баньки, избу Кадрии. Возле печи, уткнувшись лицом в ладони, всхлипывая, сидела мать Кадрии, Халима-апай, на хике[51], раскинувшись, лежала полуголая Кадрия.
– Ой, мамочки! – Алтынсес подбежала к подруге и, давясь слезами, начала гладить ее по спине, по волосам. Ища лампу, оглядела избу. На столе возле окна мерцала зеленоватая бутылка, рядом – стакан с чем-то мутным, налитым до половины.
Кадрия застонала. Подняла голову, сказала что-то, но слов нельзя было разобрать. Она была пьяна.
– Разве она меня послушает? – всхлипнула Хали-ма-апай. – Пришла в обед с письмом, посидела молча, сходила куда-то и эту отраву принесла. «Не пей», – говорю. «Водка, говорит, горе глушит. Глядишь, и поможет». Вот и выпила. Как она там? От нее, от этой проклятой водки, говорят, и сгореть можно…
В самом деле, Кадрия вся так и горела, лицо даже во тьме кумачом пылало, руки-ноги вялые, будто бескостные. Что делать? Чем помочь? Алтынсес вскочила, постояла, озираясь по сторонам, перво-наперво бутылку со стаканом смахнула в открытое окошко, потом, приговаривая: «Сейчас… сейчас…», сунула Кадрии под голову подушку, сдернула что-то с гвоздя и набросила на нее. «Быстрей… быстрей…» – торопила она себя.
Ступенек не коснувшись, слетела с крыльца. Что делать, куда бежать, еще не знала. На миг приостановилась у ворот и опрометью бросилась к матери.
Фариза, только что вернувшаяся с поля, хлопотала с ужином возле казана. Алтынсес, захлебываясь слезами, рассказала про Кадрию.
– И что теперь?
– Умрет же! Сгорит!
Фариза сдернула передник, на ходу сменила головной платок, велела детям садиться есть и зашагала следом за дочерью.
Кадрия лежала без памяти. В изголовье, покачиваясь как в молитве, сидела мать. В избе душно, тихо, мертво. Только за печкой – то ли кошка, то ли мышка – шуршало что-то. Во дворе надрывно мычала недоеная корова, кудахтали на насесте куры, отчего-то никак не могли успокоиться.
Фариза оттеснила старуху, заглянула Кадрии в лицо. Пошла к печи, принесла ковш воды.
– Иди подои корову, надо молока вскипятить, – сказала она Алтынсес, а пока начала отпаивать Кадрию водой.
Кадрию начало рвать. Алтынсес схватила ведро и выбежала во двор.
Когда она вернулась, в избе горела коптилка. Кадрия немного пришла в себя. Но дрожит, вздыхает прерывисто, взгляд мутный, от света отворачивается. Фариза убавила фитилек.
– И, алла! И все сват Тахаутдин, он ее научил. Если бы не научил, разве дошла бы дочка до такого… – опять запричитала Халима.
– Тоже сказала! Что он, силком ей в рот лил, что ли? – прокричала Фариза на ухо старухе.
– Не знаешь ты его, Фариза! Он ведь дочке шагу ступить не дает, «сватьюшка» да «сватьюшка», так и вьется, так и вьется, чтоб второй глаз из глазницы вылетел у проклятого.
Тем временем Алтынсес развела огонь в очаге.
– Когда вскипит, – сказала Фариза, – остуди немного и давай по чашке каждые полчаса. Отпираться будет, не слушай, силком вливай, без этого человеком не станет. Сватье скажу, что ты здесь.
Она вышла, и Халима-апай заговорила снова:
– Когда в прошлом году Кадрия по налогам работала, этот кривой Тахау в сельсовете сидел. Придет и говорит: «Нас, говорит, в район вызывают». А эта молода, ума нет, что скажет? «Дело казенное, коли вызывают, надо ехать». А возвращается поздно. Один раз, другой… в третий раз я уже не вытерпела: «Какое такое, говорю, казенное дело ночь-заполночь?» Она смеется, а от самой – астагафирулла! – водкой пахнет. Что делать? Покрутилась-покрутилась, как овца в вертячке, побежала к этому псу кривому, поприжать его хотела. Куда там! «У меня, говорит, семья, дети есть, я человек с положением, и чтобы я, говорит, с твоей дочерью водку распивал?» Выгнал, еще и пригрозил вслед: «Смотри, говорит, как бы за оскорбление советского служащего отвечать не пришлось, сейчас война, законы строгие». Чего только не делала – и плакала, и грозила, – перетащила все-таки Кадрию на колхозную работу. А Тахау нам тут же лишнюю скотину приписал и налог повысил. Три раза пришлось в район сходить, еле к концу года разобрались, по-старому оставили. Вот с тех пор и злобится. Теперь, когда замприд[52] стал, все в его руках. А сам увидит дочку – кривой глаз маслом блестит, с языка не слова, мед капает. Некому дочку мою защитить… а теперь уже и совсем некому.
Рассказ старухи удивил Алтынсес. Ведь надо же, в одном ауле живут, подругами считаются, закадычными даже, но об этом случае с Кадрией она ничего не знала.
Посмотреть, так этот Тахау на плохого человека вроде и не похож. Встретится где, обязательно рассмешит. «Здравствуй, сноха-свояченица-сватья!» – говорит. Так он ее стал называть после свадьбы. Недавно, как на жатву вышли, сели передохнуть, подошел Тахау к женщинам, о житье-бытье поговорил, Алтынсес особо выделил: «Как жнется, как живется, сноха-свояченица-сватья?» Женщины засмеялись: «Как это – и сноха, и свояченица, и сватья, все враз?» Тахау полушутя-полусерьезно объяснил: «Моя законная супруга – племянница Фаризы-апай, дочь ее дяди, не родного, правда, а так, другой конец ухвата. Выходит, Алтынсес моей благоверной приходится сестрой. А мне кем? Свояченицей! Это – первое. Во-вторых, другая дочь того же дяди, родни по ухвату, за моим дядей, мельником Миннигали, замужем. С этой стороны мы с Алтынсес – сват и сватья». «Выходит, – поддела Кадрия, – ты своего дядю Миннигали «дядя свояк» зовешь?» Женщины покатились со смеху. А Тахау начал вытягивать еще одну нитку из запутанного клубка своей родни-породы: «А Мастура-апай, мать Хайбуллы, из какого рода? Из нашего. Ее дед и мой дед единородные, так сказать, братья, у них матери только были разные, а отец один – знаменитый тогда кураист Губайдулла, «коротышка Губай», как говорит шэжере[53]. Выходит, Мастура-апай мне троюродная сестра, а Хай-булла племянник. А как вышла Алтынсес за него, стала еще ко всему прочему и моей снохой».
Вот такое запутанное шэжере. А в общем-то, есть ли на свете Тахау, ее сват-дядя-зять, нет ли его – Алтынсес было все равно. Она, почитай, с ним ни по какому делу и не сталкивалась. Если была какая нужда в правлении – сначала мать, потом свекровь сами шли, Алтынсес не пускали.
«Вот так дядя-сват-зятек!» – ахнула Алтынсес. Есть же люди, даже в это тяжкое время своего паскудства не оставляют! Неужели на такого пакостника управы никакой нет?
Кажется, молоко помогло, Кадрия немного успокоилась. Скрестив руки, обняла себя за плечи, съежилась, совсем маленькой стала. Заснула и, кажется, видит сон. Вздохнет с легким стоном, то улыбнется, то сморщится жалобно. Сидя на хике, заснула и Халима-апай, забилась в угол, спит тихонечко. Опять стало слышно, как шуршит кто-то за печкой. Прошуршит, и снова глубокая тишина.
Алтынсес осторожно встала, задула коптившую лампу, поправила на Кадрии одеяло. Уже пора, свекровь, наверное, тревожится, не спит. Вдруг из темноты раздался совершенно трезвый голос Кадрии:
– Уходишь?
Алтынсес вздрогнула.
– Нет, нет, подружка! – Она шагнула к хике и обняла ее. – Хочешь, до утра побуду с тобой? – Гладила, гладила по голове, на ощупь отводила рассыпавшиеся волосы с лица и не могла удержать слез, беззвучно плакала.
– Не плачь, чего там… – Кадрия села. – Нет счастья с утра – не будет к вечеру, а нет с вечера – так и ждать нечего, это про меня сказано. Может, только Гали понял бы, каково мне. Если бы вернулся. Какой он был добрый!.. – Голос прервался, она уняла дрожь и закончила: – Чтобы такое счастье – и мне…
– Ложись, тебе отдохнуть надо, помолчи, ладно? – Алтынсес уложила ее, но та снова села.
– Хоть бы заплакать… Не могу, – вздохнула Кадрия. – Да чего там! Бог моих слез не примет, тоже в грех запишет.
Вовсе удивилась Алтынсес. Но странные эти слова объяснила остатками хмеля. Почему ее слезы – грех? Надо уложить ее, успокоить.
– Ты чего со мной как с дитем малым? Не бойся, в волосы не вцеплюсь. Протрезвела, только голова трещит.
– Отдохни, с утра на работу…
– На работу… Это счастье у нас с утра до вечера… опять, как лошади, в хомут… Там бутылка на столе, плесни в стакан немножко.
– Я бутылку в окно выбросила, – испугалась Алтынсес.
– Ну и ладно, – сказала Кадрия. И вдруг рассмеялась, коротко и сухо. – Да… не эта бы водка! Она довела. Она одна!.. Ты ребенок еще. Замуж вышла, а все ребенок. Ничего про подругу не знаешь. Не ухаживать, а дубьем охаживать… – Усмехнулась: – Убить бы надо. – Она потянула носом, и Алтынсес поняла, что Кадрия плачет.
– Хватит, хватит, успокойся, увидишь, все уладится. Вот кончится война…
– А мне какая радость? Разве что Гали оживет? Оживет, вернется и мне в лицо плюнет.
– Замолчи! Ты что городишь! – Алтынсес в отчаянии зажала ей рот. – Сама на себя напраслину возводишь.
Вдруг показалось ей, что сидит она на самом краю пропасти, и ноги сами собой подобрались, она прижалась к Кадрии. Чуть эта бездна не утянула ее. Бывало, и падала, но только не наяву, во сне. Летит-летит и, не долетев, проснется. От страха и восторга даже всплакнет немного. От страха, что чуть не разбилась, от восторга, что летела.
Но в этот раз пробуждения не будет. Телом цела останется, а вот сердцем… Стой, Кадрия, молчи! Алтынсес на шалый твой нрав, на злой язык не смотрит, любит тебя. Твои песни, озорные, как воды Казаяка, нежные, как уральские рассветы, измученная душа словно живительное зелье пьет. Алтынсес верит в твою чистоту, в твою верность. Не говори. Ничего не говори. Пусть все останется как было! Так молила про себя Алтынсес, а сама, затаив дыхание, ждала, что же скажет Кадрия. Было тихо и жутко, даже тот, за печкой, перестал шуршать.
– Не напраслина… – Голос шел словно откуда-то из подполья. Или это мерещится только? Во тьме-тьмущей зажмурилась Алтынсес, уткнулась в колени Кадрии. Не видеть, не слышать ничего! – Не напраслина… – повторила Кадрия. Опять замолчала. – По правде говоря, даже не тело свое, которое этот кривой испоганил, я сейчас жалею… Нет, ты не поймешь. Одной даже ночки я с Гали не провела – вот что жалко. Честная, дескать, чистая девушка. Такая и была. Бедняга, даже грудей моих не коснулся, не позволила. Одно утешение – ничего теперь не узнает.
– Нет, нет, врешь, врешь, все врешь!.. Врешь ты все, меня удивить, напугать хочешь! – закричала Алтынсес. Сначала в лицо, в глаза, в волосы, что во тьме попадалось, целовала, потом повалила и стала колотить кулаками по спине. Обессилев, упала лицом на нары.
Завозилась, завздыхала в углу проснувшаяся старуха. Она, видно, тугим своим ухом что-то все же расслышала. Кадрия поднялась, села рядом с Алтынсес, заговорила равнодушно:
– С утра до вечера работаешь, а руки у тебя мягкие. Говорю же, ремнем меня нужно… Как случилось это, одно время думала: вернется Гали, и я свое получу – или простит, или казнит, хоть убьет, пусть. А теперь мне ни прощения, ни кары не будет. Так все в душе и останется, буду заминать, заминать…
«Хорошо, что лампа не горит, – подумала Алтынсес, – хоть и страшно, но не так стыдно. И ей и мне… А горел бы свет, она, может, и не сказала ничего».
– Ладно, подружка, ступай. Свекровь, наверное, как на углях сидит. Узнает, что у меня была, – не похвалит. Прознала, видать, откуда-то старая. При встрече смотрит, будто пристыдить хочет. Глаза бы пожалела, нашла чем Кадрию пронять – взглядом!
Когда измученная Алтынсес тихо вошла в дом, свекровь действительно еще даже не ложилась.
– Не ругайся, мама, очень плохо было Кадрии, – начала она, но свекровь не дала ей договорить:
– О аллах, неужто похожа я на свекровь-истязательницу, которая белого-черного не видит? Ты не побежала бы, так я бы сама послала. Ну хоть пришла в себя немного? Аллах наш всемогущий, бывают же несчастные, но эта… А все тот кривой пес, чтоб земля его проглотила. Был бы он мужчина, так немного хоть подумал бы, что и она – чье-то дитя единственное, наперед бы подумал. Нет, вожделение-то – что собака беспутная, не уймешь – так все дворы обшныряет. Ложись, дочка, извелась вся, лица на тебе нет.
Шепча про себя слова благодарности свекрови, Алтынсес легла в постель, закрыла глаза и изо всех сил постаралась заснуть. Но до самого рассвета хоть на полчаса задремать так и не удалось. Душа, растравленная несчастьями Кадрии, казалось, никогда не успокоится.
Прошел месяц, как уехал Хайбулла. Потом еще неделя. Даже с того дня, как пришло долгожданное письмо, уже три недели миновало. Алтынсес писала через день; одно не дойдет, думала, дойдет другое. Письма выходили длинные, аульские известия, сердечные излияния перемежались песнями. Но ответа все не было.
Маялась, не знала она, куда себя девать, и наконец решилась, по адресу Хайбуллы написала командиру части. Если ранен или перевели куда-то, товарищи должны знать. Человек не иголка.
После несчастья с Кадрией свекровь оттаяла к невестке, теперь они вечерами перед сном лежали и разговаривали подолгу. Частенько приходила Фариза, все, что видела-слышала, капельки не расплескав, приносила сватье и дочери.
С сумерками огня не зажигали, начинали ложиться. Мастура, ласково похлопав по спине, укладывала Надю с Зоей, ложилась сама, и начинался долгий вечерний разговор. О чем бы ни заговаривали, беседа сворачивала на войну. Светлые сумерки в густые переходили, темнели окна, сами собой затихали вечерние голоса на улице. В такие вечера Мастура становилась особенно словоохотливой, иной раз только перебьет себя, скажет:
– Ой, сватья, совсем я тебя заговорила, тебе же с рассветом на работу, пошла бы домой, вздремнула.
Фариза не спешила.
– Эх, сватьюшка, сватья! – вздыхала она. – Да разве уснешь! Ни от отца, ни от сына писем нет. Чего только в голову не лезет. Спаси аллах и помилуй!.. Ладно, хоть ты есть. Поговорим вот так, и на душе легче.
Мастура только рада. Вздыхая, говорила:
– Придут письма, непременно придут. – Алтынсес чувствовала, что слова эти больше обращены к ней. – Очень уж дальняя дорога, всякое может с письмом случиться. Война ведь. А дела у наших, похоже, хорошо идут. Слава создателю, с сорок первым годом не сравнишь. Вон и Смолен-город уже взяли…







