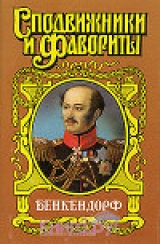
Текст книги "Бенкендорф. Сиятельный жандарм"
Автор книги: Юрий Щеглов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 55 страниц)
И вот борьба за жизнь и честь подруги позади – Тилли умирала. Позади остались мучительные времена разлуки с мужем и детьми. Позади сердечные отношения с Софией Доротеей, сотни писем, в которых они открывали друг другу душу, поверяя самые святые тайны. Все земное она оставляла без сожаления, понимая необходимость смирения перед неизбежностью. София Доротея выдаст замуж ее дочерей и с Божьей помощью позаботится о внуках. Они дали друг другу клятву, и когда Бог призовет Софию Доротею к себе, она, Тилли, уже давно будет Там, в поднебесье, и София Доротея не почувствует в потустороннем мире ни холода, ни одиночества, как в первые годы в России, когда Тилли отсутствовала. Быть может, смысл ее ранней смерти в том и состоит. Она обживет тот свет и приготовит все для Софии Доротеи. Последние мысли ее были о подруге, с которой связывали годы страданий, обид, нищеты и унижений. Цесаревич разорил ее семейное гнездо, отнял дом, средства к существованию, лишил материнских радостей. Он развеял Бенкендорфов по земле, отплатив с лихвой за верную службу. Сколько ей стоило нервов и слез обратиться к Нелидовой с просьбой о милости и в конце концов не дождаться ответа. В чем она провинилась? Перед кем? Она не причинила ничего дурного людям в России. Она хотела счастья для Софии Доротеи более полного и совершенного, чем было отпущено судьбой. Она не могла понять, почему цесаревич с такой настойчивостью запрещал им переписываться. Разве она агент иностранной державы? Разве она действовала в интересах Виртемберга или Пруссии? Разве она составляла заговоры?
Отнюдь! Она – служила! Служила царствующему дому! И вот награда!
Разве она желала подчинить себе волю цесаревича? Разве она пыталась управлять повелителем? Нет, никогда! После смерти императрицы Екатерины, когда с Бенкендорфов сняли опалу, она вообще ни во что не вмешивалась, молчаливо наблюдая за жизнью нового двора.
Нет, она никому не причинила неприятностей, а ей сделали зло многие, и даже соотечественники, Николаи например, доктор Фрейганг и другие, среди которых она с болью обнаружила близких знакомых, долгое время выдававших себя за доброжелателей.
Но в общем она, наверное, прожила счастливую жизнь, и, как ни удивительно, высшую радость ей давала мертвая бумага – письма. Сколько она из-за них выстрадала!
У нее были прекрасные корреспонденты: кроме самой Софии Доротеи, ставшей сейчас российской императрицей, – принцесса Сардинская, сестра Людовика XVI, казненного проклятыми революционерами, умная, мягкая и образованная супруга сардинского короля Виктора Амадея III принца Пьемонтского Карла Эммануила. А сколько радости ей приносили послания от родителей Софии Доротеи из Монбельяра? Половина жизни в письмах!
И вот теперь все кончено. Она умирает и покидает юдоль земную. Но Бог, который никогда ее не оставлял, перед смертью будто бы позволил Бенкендорфам восторжествовать. В порыве великодушия, став императором, Павел вызвал их из небытия. Он осыпал Христофора милостями, а ей ничего иного и не нужно – только находиться рядом с Софией Доротеей и устроить судьбу детей.
Куда подевались рассуждения о немецкой партии? И о кознях Бенкендорфши? Пусть лучше позаботятся о французских происках нового кровопийцы – корсиканского разбойника Бонапарта, восходящей смертельной звезды! Пусть лучше присмотрятся к английскому посольству и лорду Витворту! Германские княжества только по недоразумению конфликтовали с Россией. Но Франция, Австрия, Англия – вот исконные враги русских. Остзейцы – рыцари. Волею судьбы они оказались у подножия российского трона, и служба была их единственной стезей.
Нечего натравливать русских на немцев! Бенкендорфы честные и преданные люди. Бенкендорфы никогда никому не изменяли.
Но счастье ей не было суждено увидеть. Коронационные торжества назначили на весну 1797 года, а зимой болезнь Тилли обострилась, ее вынудили покинуть Петербург и отправиться за границу. Она хорошо представляла, что переживает София Доротея в эти мгновения. Императрица Всеросийская! То, что иные добывали ужасными способами, она получила из рук законного властелина. Он водрузит на голову жены корону, и она получит возможность творить добро, в котором так нуждается страна.
Нет, нет, Тилли прожила удачную жизнь подле Софии Доротеи. Ей не на что жаловаться. Она думала сейчас о себе в третьем лице и смотрела на происходящее словно со стороны. Когда пробил час, она закрыла глаза и отошла в лучший мир, успев мысленно послать прощальный привет в Москву, наполненную серебристым перезвоном колоколов, торжественной музыкой и восторженными кликами толпы в честь нового государя Павла Петровича. Народ, которому все равно было, какие шляпы носить – круглые или квадратные, и какого цвета шарфы, – вопил и бесновался, надеясь на лучшее.
Новая государыня Мария Федоровна получила известие о смерти Тилли посреди возрождающегося весеннего великолепия. Быть может, вынужденная сдержанность и грозный взор властелина одной шестой части суши спас ее от смертельного отчаяния, от удушья, от немедленной гибели. Вместе с Тилли отмерла лучшая эпоха в ее жизни – юность. Она, однако, не предавалась сентиментальным воспоминаниям об Этюпе и первых месяцах зарождающейся дружбы. Оглядываясь назад, она видела черный провал, пустоту, молчащую бездну – смерть родного существа, свою смерть в каком-то смысле. Торжество и смерть часто существуют рядом. Как в бою.
Мартовский теплый день в Москве подернулся сизым инеем, солнце померкло, и тяжкое горе свинцовой плитой легло на грудь. Она заперлась в кремлевском покое и не отвечала ни на какие призывы. Она никого не желала видеть и сухими глазами смотрела на опрокинутое и вдруг сделавшееся неприглядным белесое небо. Когда в опочивальню ворвался государь, еле сдерживая накопившееся за день раздражение, и начал читать наставления об изменившихся обязанностях, подобно тому как он это делал в дни их первой внезапно вспыхнувшей любви, когда бедную этюпскую полубеглянку только привезли из Мемеля в Петербург, она, поднявшись с постели и вспомнив, с какой твердостью Тилли всегда встречала удары судьбы, сказала:
– Не кричи, Поль. Мне Бог подарил друга, о котором ты даже не мог и мечтать. Я была счастлива в нашей дружбе. Только возвышенное сердце способно это понять… и с этим смириться, без зависти и злости. Если ты будешь обращаться с друзьями так, как привык, нас – тебя и меня – ждут трудные годы. Молю тебя – будь к ним благосклонен, и твое могущество станет равным могуществу твоей и нашей России.
Пораженный теплотой и величием слов жены, новоиспеченный государь распахнул дверь и вылетел вон, оттолкнув грубо поручика Готтиха, верного слугу и соглядатая, который, не будучи флигель-адъютантом, никогда не отходил от него ни на шаг. Он посмотрел из глубины коридора на жену, еще вчера покорную и несчастную, и увидел государыню величественную, прекрасную и спокойную, преисполненную какой-то доброй силы и благожелательности. Не способный восхищаться своей собственностью, не способный оценить принадлежащее только ему, после тридцатилетнего ничегонеделания подле трона, который у него украли, убив перед тем отца, он все-таки застыл, ошеломленный очевидностью, но, к сожалению, не извлек из очевидности урока. Добродетель не повлияла на него, не превратила в мудреца. И государь Павел Петрович сделал первый шаг к падению. Находясь во власти прошлого и стремясь свести с ним счеты, перечеркнув навсегда, он стал походить на человека, идущего по воле Божией вперед, но с головой, повернутой назад, и не заметил, конечно, разверзшейся перед ним пропасти. Время опередило его и сбросило туда. А через несколько лет он жалко вопрошал у своих убийц: «Что я вам сделал?»
Да ничего он им лично не сделал – так, потрепал малость. Он просто не соответствовал мощной послеекатерининской эпохе, не сумел наполнить паруса свежим ветром, несмотря на грандиозные, впрочем, нередко безумные планы, и рухнул под ударами иноземных наемных убийц, еще раз своей смертью подтвердив величайшую историческую истину, что прогресс в дикой скачке вперед не выбирает коней, а седлает первых попавшихся. Но главное, он не сумел внушить poeta laureatus [49]49
Поэт, увенчанный лавровым венком ( лат.).
[Закрыть]своего двора Гавриле Державину строк, подобных тем, которые внушил его политический противник и по недоразумению сын другому поэту, так и не ставшему poeta laureatus двора: «Дней Александровых прекрасное начало…»
Государь резко повернулся и пошел в глубь Кремля, бросив опешившему Готтиху:
– Пусть она будет готова к вечернему чаю. Это – приказ!
Но государыня не стала готовиться ни к вечернему чаю, ни к ночным празднествам, ни к утреннему выходу к народу.
Она оплакивала Тилли.
Бенкендорф с самого начала войны часто вспоминал мать. Особенно когда ехал на лошади. Ритмические движения и одиночество выталкивали на поверхность сознания одну картинку за другой. Он натянул поводья, и лошадь, оседая на задние ноги, замерла на мгновение, шумно и норовисто втягивая ноздрями непривычно горячий воздух. Черные неровные хлопья кружились, как огромные снежинки, и оседали на полегшую осеннюю траву, превращая ее в темный пятнистый ковер. Дымно-огненное зарево охватывало половину неба, и воздух там, вдали, жирно клубился, подкрашенный сизым туманом.
Москва на таком расстоянии горела бесшумно. Если несчастье сотен тысяч людей способно носить черты величественности, то пожар древнего города относился именно к таким зрелищам. Впрочем, сравнивать было не с чем. В отечественной истории ничего подобного не случалось. Не только дома и дворцы охватил огонь, души людей пылали: у русских – ненавистью, у солдат Великой армии – злобой. Но и в том и в другом случае присутствовало отчаяние. Кто первым поджег Москву? Французы? Сами русские? Для чего? Зачем? С какой целью?
Мнение РостопчинаСобытие столь колоссального – по человеческим усилиям – масштаба нельзя объяснить в двух словах. Пожар Москвы событие мирового значения, отголоски его звучат и сегодня. Он отбрасывает зловещие блики за пределы своей эпохи, и в конце XX века явственно чувствуется его обжигающее дыхание.
Пожар Москвы поднял Россию на дыбы, разрушил наполеоновские мечты, осветил путь народам Европы к освобождению и продолжает оставаться загадкой для будущих поколений. Без этого яростного протуберанца Россия да и остальной окружающий мир не пробудились бы и не воспряли. Пожар озарил бегство Великой армии и поджарил пятки самому Бонапарту. Египетский песок оказался менее горячим, чем русский снег.
Спорить тут нечего. Москву сожгли русские, пожертвовав во имя свободы народной святыней. Пожар был продолжением тактики выжженной земли, применяемой по распоряжению императора Александра сразу после вторжения. Однако прямую ответственность за эту тактику никто не хотел на себя взять. А наша отечественная история слишком труслива, конъюнктурна и осторожна, чтобы вынести вердикт. Она даже не в состоянии оценить роль московского пожара.
Для Бенкендорфа пожар Москвы, как и для десятков других высших офицеров русской армии, да еще приближенных ко двору, не стал неожиданностью. Он предугадывал намерение Наполеона – разбить русскую армию и захватить целехонькой Москву, добравшись до нее в летние месяцы, а затем продиктовать там, в Кремле, условия мира государю и в случае продолжающегося сопротивления передать престол кому заблагорассудится – представителю другой европейской династии или кому-либо из более послушных Романовых, а хоть бы и неудавшейся своей невесте – Екатерине Павловне. Женщиной управлять проще, и к женскому господству Россия привыкла. Идти на Петербург не имело смысла. Брать Петербург значило оставлять Россию за спиной и потом, но уже с меньшими силами, двигаться вглубь, потеряв драгоценные сухие месяцы и увязнув в распутице.
Нет, нет! Надо захватить Москву, привезти туда непокорных и там с ними вести торг.
Пожар Москвы уничтожил все и всяческие нарисованные воображением планы. Недаром наполеоновские солдаты с неимоверной яростью охотились за поджигателями, недаром корсиканец клеймил тех, кто отдал богатейший город на разграбление сначала собственным гражданам, а затем и неприятелю, недаром он велел маршалу Мортье беречь и защищать столицу от губительных посягательств. Наполеон пытался доказать бессмысленность пожара, настаивая на том, что Великая армия оттого ни в малой степени не пострадала.
Нет, она пострадала, и пострадала решительно. В пожаре погибли ее надежды. Пожар подытожил первый этап войны. Великий человек не сумел предусмотреть предложенный вариант развития мировых событий. Дивизионный генерал, изменивший революции, остался дивизионным генералом, и только чудовищное недоразумение не развеяло до сих пор легенду о его гениальности. Гений не допустил бы пожара Москвы.
Уход из Москвы, уход почти добровольный, перечеркнул оккупационные обещания, наполненные горечью и ложью. Ясно, что из целой – пусть и опустошенной – Москвы Бонапарт бы не двинулся никуда, спокойно перезимовав.
Бенкендорф хорошо знал графа Ростопчина еще по павловским временам. Он не считал его поведение странным, нелепым и не относился к нему скептически. Более того, Ростопчин иногда видел дальше и глубже, как ни удивительно это звучит, чем иные деятели, пользующиеся вполне благопристойной репутацией. Сотрудники государей Павла и Александра сплошь и рядом страдали близорукостью. Бенкендорфу импонировало отношение Ростопчина к Наполеону, которого он считал порождением революции и непримиримым врагом России. Как тонкий комбинационный политик, Наполеон постоянно ощущал малейшее давление славянской волны и боялся, что она захлестнет Европу.
Пожар Москвы открыл глаза на истинное положение вещей. После кровопролитной битвы под Смоленском и сдачи пылающего города Ростопчин говорил, не таясь, в разных обществах и среди различных людей:
– Если бы у меня попросили совета, я не колеблясь бы ответил: сожгите столицу, если вы не в состоянии отстоять ее от врага! Таково мое личное мнение – мнение графа Ростопчина! В качестве губернатора города, которому вверено попечение о его спасении, я, конечно, не могу подать подобного совета.
Вторая половина фразы служила всего лишь маскировкой. Ростопчин знал, что Москва падет, что ее не удержать и что ее надобно будет предать огню во имя высшей цели – спасения отечества.
Но кто в России отважится на прямой призыв к уничтожению города? Да и как к этому подойти? Как подготовить столь невероятный акт? Что он повлечет за собой? Народное отчаяние? Революцию? Бунт? Смещение династии? Или наоборот – целительный огонь выжжет наполеоновскую язву?
Зловещие слова Ростопчин произносил не только в узком кругу, но и повторил Кутузову перед оставлением города, сказал и государю в более мягкой и обтекаемой форме. Никто к нему будто бы не прислушался. Сжечь Москву? Поднять руку на святыню? Разорить десятки тысяч людей? А как же Кремль и великие храмы? Татары избегали разрушать церкви. Неужели у русского человека достанет совести предать огню высшее выражение русской жизни, то, что составляло многие века ее основу? Неужели церкви исчезнут в пламени? А колокола? Что станет с ними?
– Эти дураки, – злобно шипел по-французски Ростопчин адъютанту Обрезкову, имея в виду критиков и противников, а быть может, и кого-то другого, – эти дураки думают, что Наполеон пощадит храмы. Да он их, как истый революционист, превратит в отхожие места и конюшни. Так уж лучше предать очистительному огню, чем получить назад и неизвестно когда оскверненные французским дерьмом.
Горько признать, но Ростопчин оказался прав.
Однако без молчаливого согласия императора Александра, твердо удерживающего бразды правления Россией, Ростопчин не отважился бы привести механизм поджога в действие. Он не решился бы вывезти пожарные трубы и прочее из города. Это совершенно ясно и не подлежит сомнению. Лишить Москву средств борьбы с пожаром – в обычной ситуации преступление. Надо ли это доказывать?!
Все факты и все поступки Ростопчина свидетельствуют о наличии умысла, хотя и не об очень ловком его исполнении. Но попробуйте осуществить подобный акт без ненужных потерь?
Теперь – свершилось! Москва горела на глазах обескровленной Бородинским сражением армии, которая не бросилась ей на помощь, да и не могла броситься. Москва горела на глазах десятков тысяч русских людей, погребая под развалинами неисчислимое количество невинных и даже тех, кто получил раны, защищая ее. Москва горела на глазах всего равнодушного света, который не то сокрушался, не то радовался великой и кровавой мистерии, разыгравшейся на далеком Востоке.
– А как поступил бы ты? – спросил Бенкендорфа Волконский, когда оба, пораженные невиданным зрелищем, сошли с лошадей и присели у ручья, где дышалось легче.
– Я могу только присоединиться к мнению племянника императрицы герцога Евгения Виртембергского, хотя мы, Бенкендорфы, не чувствуем себя чужеземцами в России.
– Да ты, Александр, русский! – воскликнул Волконский. – О чем здесь толковать?
– Все так! И все-таки – не совсем. И не все меня признают русским. Я ведь не ношу московское имя.
– Чепуха! Ты служишь России, – продолжал великодушный Волконский.
– Скорее государю.
– Это и есть России. Оставим спор. Что изрек герцог?
– А вот что: не будучи русским, я не могу ничего советовать. Только русский вправе подавать подобного рода советы.
– Золотая душа у юноши. Ну да нечего нам и впрямь советовать. Пожара следовало ожидать.
Огонь брал свое и не утихал вдали, и чудилось, что красного в небе прибавляется. Оно вздымалось от горизонта к середине неба, еще час-другой – и весь в разных частях потемневший свод превратится в раскаленный купол, а на землю низвергнется пламенеющий ливень, который подожжет и траву, и кустарник, и деревья, и тогда уже никто не спасется – ни люди, ни звери, ни птицы. Они захлебнутся горячим воздухом и начнут выдыхать горячие кипящие струи пара.
Знаменитые афишкиПервым весть о пожаре Москвы в отряд Винценгероде принес Чигиринов. Он описал в рапорте, что творилось при отступлении русской армии в центральных кварталах, и принес пачку ростопчинских афишек. Бенкендорф о них слышал давно, но никогда не держал в руках. Афишки образованные люди ругали, смеялись над ними, но простому люду они нравились, и, в сущности, если судить по справедливости и с учетом всех обстоятельств, в этих жалких, не очень грамотно составленных Листочках не содержалось ничего дурного.
Ну вот, например. «Братцы! – восклицал Ростопчин. – Сила наша многочисленна и готова положить живот, защищая отечество. Не пустим злодея в Москву; но должно пособить и нам свое дело сделать. Грех тяжкой своих выдавать: Москва наша мать; она вас поила, кормила и богатила. Я вас призываю именем Божией Матери на защиту Храмов Господних, Москвы, земли Русской. Вооружитесь, кто чем может, и конные и пешие; возьмите только на три дня хлеба, идите со Крестом. Возьмите хоругви из церквей и с сим знаменем собирайтесь тотчас на трех горах. Я буду с вами, и вместе истребим злодея. Слава в вышних, кто не отстанет; вечная память, кто мертвый ляжет; горе на Страшном суде, кто отговариваться станет».
В этой афишке Бенкендорф не вычитал ничего дурного, ничего такого, что бы компрометировало Ростопчина. Стиль ее вовсе не был разухабистым, как о том болтали в главной квартире и в кругах, близких к государю. Афишки, конечно, резали слух воспитанных людей, привыкших к изящной литературе, но не им были адресованы. У простонародья они вызывали доверие. Чигиринов утверждал, что листочки расхватывают мгновенно и даже ночью ждут у ворот Кремля, когда первые пачки вывезут на телеге.
Здесь каждое утро вертелся знаменитый на Москве человек по имени и отчеству Иван Савельевич, а фамилия его так и осталась большинству неведомой. Все его знали как шута. Один вид чего стоил! Разъезжал в маленькой коляске с украшенной всякими фиглями-миглями сбруей, во французском смешном кафтане, на голове цветная ермолка. Окружала его толпа мальчишек и прочих людишек такого же, как и он, сорта. Ростопчин поручил Ивану Савельевичу раздавать афишки, да с прибаутками, где главным героем был узурпатор Наполеон. Иван Савельевич кумекал по-французски и такую кашу из своей речи устраивал, что народец животики надрывал. Соскочит с коляски – щупленький, лысый, верткий, – наберет листочков и раскидывает по Москве, комментируя прочитанное:
– Наполеоша ко мне в гости идет, а у хозяйки моей уже все готово. Меню, братцы, знатное. На первое щец из пороха, на второе гуляш из пуль!
Народ доволен, хватает афишки и прямо тут же прочитывает, получает сведения и с открытыми глазами все-таки живет.
Тридцатого августа граф Ростопчин сообщал горожанам: «Светлейший князь, чтобы скорей соединиться с войсками, которые идут к нему, перешел Можайск и стал на крепком месте, где неприятель не вдруг на него пойдет. К нему идут отсюда сорок восемь пушек с снарядами. А светлейший говорит, что Москву до последней капли крови защищать будет и готов хоть в улицах драться».
Разве не так? Разве светлейший не обмолвился подобным словом?! Что же оставалось писать Ростопчину в афишке? Дезавуировать главнокомандующего? Ну он и углублял ситуацию чтобы не вызывать паники. Не он первый, не он последний прибегал к такой методе.
«Вы, братцы, – обращался он к народу, – не смотрите на то, что присутственные места закрыты; дела прибрать надобно, а мы своим судом с злодеем разберемся! Когда до чего дойдет, мне надобно молодцов и городских и деревенских; я клич кликну дни за два; а теперь не надо; я и молчу! Хорошо с топором, недурно с рогатиной, а всего лучше вилы тройчатки; француз не тяжелее снопа ржаного; завтра после обеда я поднимаю Иверскую в Екатерининскую гофшпиталь к раненым; там воду освятим, они скоро выздоровеют, и я теперь здоров; у меня болел глаз, а теперь смотрю в оба!»
Напрасно Ростопчина клеймили и до сих пор клеймят за эти самые безобидные для русского человека афишки. С Фамусовыми Москву-матушку не отстоишь, а скалозубы с чацкими – все сплошь на командных должностях.
Призывы Ростопчина вполне отвечали моменту. Он боролся с корсиканцем, был неуступчив, но ведь и не всё оказывалось в его власти. Не он допустил Бонапарта к Москве. Бегущих без оглядки остающиеся ругали последними словами. Мужики из подмосковных деревень нападали на барские брички и коляски, высаживали людей на дорогу, обвиняя в предательстве и измене. В самом городе атмосфера сгущалась. Кто побогаче, зарывал наиболее ценные вещи в землю, прятал в подвалах, замуровывал в стенах. Французы сразу про то вызнали и, вооружившись железными прутьями, щупали землю, лили воду, которая быстро просачивалась там, где недавно копали. Поиск шел по всей Москве.
Ростопчина обвиняли кому не лень. Дескать, губернатор не возвел вокруг столицы прочных военных позиций. Обвинение, конечно, тяжелое, но его следовало бы прежде всего адресовать высшему военному руководству – квартирмейстерской части, например, и лично генералу Толю. За прочными позициями могла бы русская армия чувствовать себя в безопасности. Да, Ростопчин не возвел укрепления, и это было непростительной ошибкой, стоившей многим воинам жизни. Но располагал ли к тому надежными средствами? Сколько времени потратили впустую на сооружение Дрисского лагеря, и все молчали! Молчал Барклай, молчал Ермолов, молчал Багратион, молчали и другие, лишь потом спохватились и, слава Богу, не позволили загнать солдат в фулевскую ловушку. Никто не спросил, сколько денег утекло на Дрисский лагерь. Зачем же Москву оставили без прикрытия? Ясно почему: боялись признать, что французы со дня на день сюда пожалуют. Вся тактика Ростопчина на том держалась.
«Я завтра еду к светлейшему, – сообщал он москвичам, – чтобы с ним переговорить, действовать и помогать войскам истреблять злодеев станем, и мы их дух искоренять и етих гостей к черту отправлять; я приеду назад к обеду, и примемся за дело; обделаем, доделаем и злодеев отделаем».
Афишка от 31 августа, как мы видим, вполне спокойна, и нет в ней намека на оставление столицы.
Очевидно, если бы Кутузову вручили командование сразу, то он бы успел отдать соответствующие распоряжения. Нельзя в том сомневаться. Но Барклай-де-Толли боялся подобным приказом поднять против себя еще большую волну негодования в обществе. Как?! Москву укрепляют?! Значит, готовятся допустить супостата в недра России?!
Нет, никогда! Ни шагу назад! Идем вперед! На врага! Дадим ему бой! Не устоять бы Барклаю ни за что. Ермолов и Багратион использовали бы ситуацию. Они сделали бы из приказа главное оружие. Таким образом и эти славные имена надо поставить в данном случае рядом с именем Ростопчина.
– Я не защитник графа, – сказал Бенкендорф Волконскому, – но ты только вообрази, в какой обстановке он действовал и при каких обстоятельствах. Существовал ли у него выбор?
– С нашим московским дворянством не особенно разгуляешься. Оно консервативно и, чуть что, впадает в панику. Если народ московский сыпанет на улицу – не удержишь. Вспомним, что творилось при поляках в Москве.
– Ростопчина упрекают в высылке французов. Не могу принять подобное обвинение. Что ж их, на воле оставлять? Я не иначе бы поступил.
Они сели на лошадей и спустились вниз с холма, в последний раз бросив взгляды на горизонт, налитый тяжелой, неподвижной, как бы засохшей кровавой краской. Пожар, видно, становился все яростней и яростней.
– Без таких безумцев, как Ростопчин, труднее выстоять. С Яковлевым француза не задушишь. Яковлев с французом в стачку войдет. Дворянчики наши давно растеряли рыцарские замашки.








