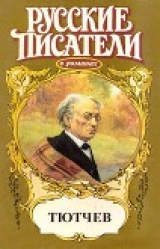
Текст книги "Страсть тайная. Тютчев"
Автор книги: Юрий Когинов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 35 (всего у книги 36 страниц)
42
На исходе первой недели после удара Фёдор Иванович почувствовал, что ему положительно стало лучше. Он заметно повеселел, оживлённо разговаривал, даже порывался встать и пойти гулять. Некоторый перелом в течении болезни с удовлетворением отметил и Боткин, который ежедневно приезжал к Тютчеву.
– Причиной моей бодрости, – сказал ему Тютчев, – несомненно, являетесь вы, милейший Сергей Петрович.
– В каком смысле, Фёдор Иванович?
– Мне было бы в высшей степени огорчительно представить вас во дворце у её величества императрицы Марии Александровны, ежедневно передающим ей дурные вести о состоянии моего здоровья, – объяснил Тютчев.
– Ваши остроты, – рассмеялся Боткин, – первейшее доказательство того, что вы не покоряетесь болезни. Буду ряд передать её императорскому величеству этот ваш каламбур.
В глазах Тютчева появилась усмешка:
– Намедни князь Пётр Андреевич Вяземский посетовал на то, что многие высказанные мною остроты, как осиротевшие дети, неприкаянно разбрелись по петербургским и московским салонам. Вот бы, предложил он, собрать их все вместе и издать своеобразную «тютчевиану». Однако Пётр Андреевич не подумал, что по моей всегдашней нерадивости я, кроме как на суде, вряд ли смогу доказать свои авторские права на отдельные словечки и целые выражения... Ну, это всё, конечно, пустое, а вот что касается Марии Александровны, передайте ей мою благодарность за добрые ко мне чувства. Право, как бы там ни было, а женское сердце подчас берёт в императрице верх над иными качествами. Недаром я, между нами говоря, иногда даже несколько назойливо стремился это подчеркнуть в своих стихотворных и изустных к ней обращениях.
– Как я узнал от Марии Александровны, вас намерен высочайше посетить его величество император Александр Николаевич, – словно спохватившись, что забыл с самого начала передать важную весть, произнёс Боткин. Но произнёс как-то нарочито приподнято, даже с какой-то долею наигрыша, как бы подчёркивая некий комизм этого предполагаемого августейшего визита.
– А уж это вряд ли сердечный и милосердный акт со стороны его величества, – мгновенно откликнулся Тютчев. – Император своим визитом может поставить меня в крайне щекотливое положение. Представьте, дорогой Сергей Петрович, что я уже и так в долгу перед самим Господом Богом. Анна настояла на том, чтобы меня причастить, и для этого пригласила священника Янышева. Но прошло с тех пор уже несколько дней, а я, как видите, ещё живу. Так вот, предполагаемый визит императора, который никогда меня не навещал, приводит меня в большое смущение. В самом деле, будет крайне неделикатно с моей стороны, если после посещения я не умру на следующий же день.
Забыв, что он врач, который сам же наистрожайше запретил вредную для больного деятельность, иначе – разговоры на отвлечённые темы, Боткин вскочил с кресла и, не совпадая с откровенным смехом, быстро заходил по комнате. Но так же стремительно он снова оказался у постели и, погасив смешок, сосредоточенно приступил к осмотру пациента.
– Что ж, – отметил Сергей Петрович, – пульс нормальный, явился аппетит, голова светлее. Я вами очень доволен.
– Вы слишком снисходительны ко мне, – ответил Тютчев. – Может быть, здоровье тела и улучшается, но вот душа... Её исцелить сложнее...
43
Утро выдалось солнечным, чистым.
Как только Тютчев открыл веки, он тут же решил, что должен попросить Нести записать с его слов что-то важное и настоятельно необходимое, о чём он подумал ночью. Но что это была за мысль, он не мог сразу вспомнить. Лишь когда к нему вошли Аксаков и приехавший, как обычно, в начале дня Боткин, казалось, ускользнувшая мысль неожиданно и каким-то странным образом начала обретать свои очертания.
– Да, вот что я хотел у вас спросить, – обратился Тютчев к Сергею Петровичу. – Что нового о Бирилёве, как он теперь чувствует себя в вашей больнице? Помнится, давеча вы говорили мне, что Николай Алексеевич опять страдал неимоверно.
– Удары судьбы, увы, обрушиваются на него постоянно, лишь на какое-то сравнительно короткое время давая передышку, – покачал головою Боткин, – Однако Николай Алексеевич с исключительным мужеством преодолевает свои недуги. Подумать только, потерять всё и – жить. Да как жить – посвящать все свои помыслы России!.. Кстати, Фёдор Иванович, он непременно хотел бы вас навестить, и я полагаю через день-другой разрешить ему этот визит.
Казалось, ни одна жилка и ни один мускул не дрогнули на лице Тютчева, но по тому, как оживился его взгляд, Боткин и Аксаков догадались, что разговор этот его заметно взволновал.
– Передай, Сергей Петрович, – начал Тютчев замедленно, словно подбирая слова, – передайте Николаю Алексеевичу, что я несказанно буду рад его приходу. Вот этого посещения я буду ждать с нетерпением. Если бы вы знали, как об очень многом мне хотелось бы с ним поговорить!..
– Я понимаю вас. После Марии Фёдоровны... – тактично проронил Боткин.
Тютчев промолчал и затем так же раздельно, но твёрдо выделяя каждое слово, произнёс:
– Тут всё сложнее и одновременно проще, чем вам кажется... Дело в том, если говорить по совести, у меня нет ни малейшей веры в моё возрождение. Во всяком случае, нечто кончено, и крепко кончено для меня. Я это знаю, может быть, лучше, чем вы, врач. Поэтому главное теперь для меня в том, чтобы иметь мужество этому покориться... Так вот я бы хотел говорить с человеком, который знал прежде и знает сейчас, во имя чего можно, не задумываясь, отдать свою жизнь...
То ли у Тютчева не хватило сил, то ли он обдумывал дальнейшие мысли, но он на какое-то время снова замолк и движением глаз показал, что хочет пить. Боткин подал ему со столика приготовленную заранее в графине Эрнестиной Фёдоровной брусничную воду и намерился встать.
– Нет, сидите, – остановил его Фёдор Иванович. – Я как раз подхожу к главному. Итак, во имя чего человек способен отдать свою жизнь? Впрочем, разве вы, Сергей Петрович, или вы, Иван Сергеевич, не в состоянии ответить мне на этот вопрос? Разве деятельность каждого из вас не отдача всех сил – и физических, и духовных – благоденствию и счастью родины? Вот и видите, я ответил и за вас, и за десяток, может быть, других честных и пламенных сынов России. И наверное, говоря эти слова, в какой-то мере имел в виду и себя: пусть не столько свершённое мною, не результаты моих усилий, но, по крайней мере, свою постоянную устремлённость к идеалу. Но Бирилёв, должно быть, всё-таки что-то поможет мне прояснить как воин, некогда смотревший и продолжающий и сейчас смотреть смерти в лицо... Наверное, я говорю всё это не совсем понятно для вас, но мне прошедшей ночью как раз и пришла в голову подобная мысль: только ли жизнью, отданной за отечество, человек способен доказать свою пламенную любовь к нему?..
– Так или иначе, мы все – одни мгновенно, другие постепенно – сгораем на этом священном костре, – вздохнул Аксаков. – Мой брат Константин – вы помните – ушёл из жизни в самом расцвете лет. Не выдюжил, сгорел...
Веки Тютчева слегка смежились, как бы давая понять, что его мысль воспринята правильно, именно о таких жертвах он и думал.
– Так передайте же Николаю Алексеевичу моё приглашение. Нет, мою просьбу, – напомнил Фёдор Иванович.
«Когда же мы последний раз виделись с Бирилёвым? – спросил себя Тютчев, когда Боткин и Аксаков вышли из комнаты и оставили его одного. – Кажется, в тот день, на кладбище, когда провожали Мари в её последний путь. Тогда здесь, в Петербурге, за оградой Новодевичьего монастыря Неста, помнится, указала рядом с могилой Мари скорбные аршины последнего человеческого пристанища: «Тут – вы, Николай Алексеевич, здесь – Фёдор Иванович, там – я... Как жили рядом...»
После похорон Мари, собираясь на Большую Гребецкую, Бирилёв казался спокойным, и это внешнее спокойствие неимоверно страдающего человека показалось бесконечно дорого Фёдору Ивановичу. Однако он не нашёл в себе даже самой малейшей возможности, хотя бы из приличия только, солгать зятю и упросить его остаться. Он и зять тогда думали об одном: так будет лучше для Мари, чтобы душа её не волновалась в своём дальнем далеке. Однако, наверное, надо было что-то произнести, близкое и родное, полагающееся в такую минуту. Но нуждались ли они оба в каких-либо утешительных словах? Бирилёв поступал как натура предельно сильная – он уходил сам и уносил с собой свои страдания, облегчая тем самым участь других. Тютчев же всё не мог забыть Ниццу и то, что тогда не хватило у него самого стойкости и упорства. Хотя понимал: он ни тогда, ни теперь решительно ничего не мог изменить. Но досадная мысль эта исчезла, и явилось чувство – Фёдор Иванович порывисто обнял зятя и приложился к его лицу...
«Тогда ни я, ни Бирилёв не могли поступить иначе, – подумал сейчас Фёдор Иванович. – Пусть по-разному, но в те дни мы с ним стремились к одной, священной для каждого из нас цели – спасти Мари... Даст ли мне сейчас утешение встреча с Николаем Алексеевичем, о которой я так настоятельно просил Боткина? Как знать... Однако что же такое я намеревался попросить записать, о чём вспомнил, говоря с Боткиным и Аксаковым? Мысль вроде бы обозначилась, наметалась. Но вот кому я её хотел адресовать? Ах да, я хотел продиктовать ответное письмо Шеншиной».
Эрнестина Фёдоровна сидела в кресле рядом, и Тютчев только глазами указал на письмо, полученное намедни от Евгении Сергеевны. Несколько лет назад она потеряла мужа и теперь лечилась в Ницце. Милая Эжени, как она была дружна со всей семьёй и особенно с Мари!.. И вот теперь сама доживёт ли до весны? У неё ведь та же страшная, неумолимая болезнь, так трагически известная Тютчеву. Болезнь, унёсшая в могилу и Денисьеву, и Мари. Надо непременно успеть послать Эжени привет...
Фёдор Иванович сделал усилие и произнёс первые фразы, которые следовало записать.
Чтобы лучше разобрать слова, Эрнестина Фёдоровна склонила ухо почти к самым губам мужа.
Тебе, болящая в далёкой стороне,
Болящему и страждущему мне
Пришло на мысль отправить этот стих,
Чтобы с весёлым плеском волн морских
Влетел бы он к тебе в окно,
Далёкий отголосок вод родных,
И слово русское, хоть на одно мгновенье,
Прервало для тебя волн средиземных пенье...
Из той среды, далеко не чужой,
Которой ты была любовью и душой,
Где и поднесь с усиленным вниманьем
Следят твою болезнь с сердечным состраданьем,
Будь ближе, чем когда, душе твоей присущ
Добрейший из людей, чистейшая из душ,
Твой милый, добрый, незабвенный муж!
Душа, с которою твоя была слита.
Хранившая тебя от всех соблазнов зла,
С которой заодно всю жизнь ты перешла,
Свершая честно трудный подвиг твой
Примерно-христианскою вдовой!..
Сил больше не хватило. Тютчев тяжело задышал, на лбу высыпала испарина. Эрнестина Фёдоровна поднесла рюмку с каплями.
– Не надо. – Фёдор Иванович отстранил её еле заметным движением губ. – Я ещё не окончил.
«Совестно, – подумал Тютчев, – как нелепы и непослушны мои слова! Но разве стихи о Наполеоне, которыми я на днях измучил бедную Нести, лучше? У моих стихов стала ветхой одежда. Я одеваю их в рубища, потому что у меня, увы, из моего гардероба более ничего не осталось. В самые лучшие платья я уже нарядил стихи, которые теперь разошлись невесть куда и живут уже без меня... Не важны сейчас одежды, важна суть. Мысль важна, которую я непременно обязан выразить. Я должен сказать самое важное, о чём думал в последнее время, а тем более – теперь. Предвижу, Нести заплачет, не выдержит. Ну, так плакала, наверное, не на людях, а тайком, когда меня причащал Янышев. Пусть услышит ещё одну мою исповедь...»
Потребовалось усилие, чтобы припомнить, на чём он остановился.
Да, вот это: «Свершая честно трудный подвиг твой примерно-христианскою вдовой...» Наверное, в жизни Евгении Сергеевны случалось немало соблазнов после потери мужа. Что ж, для женщины, ещё довольно молодой, соблюсти верность избраннику даже после того, как его не стало, наверное, немалый поступок. Может быть, для Эжени и подвиг. Но подвиг – и смирение? Зачем же он истратил такое высокое слово и соединил его в стихе с другим, в данном случае совершенно для него неподходящим?.. Впрочем, он сыщет для своей важной мысли иные, самые обыкновенные слова.
То, что он наметил, надо выразить просто, как высказывают саму истину...
Слова, которые Тютчев собирался произносить, ещё не пришли. И он, подумав сейчас о жизни Шеншиной, вдруг вспомнил её тогда, в Ницце, когда она в числе многих благословила Мари на её новую судьбу. Могла ли она тогда вообразить, какой станет эта судьба и сколько сил потребует от Мари?..
Волнение Тютчева достигло того состояния, когда он уже не мог более скрывать его в себе, и губы еле слышно произнесли:
– Запиши, Нести... Там же, на том самом листке с письмом Шеншиной...
Привет ещё тебе от тени той,
Обоим нам и милой и святой,
Которая так мало здесь гостила,
Страдала храбро так и горячо любила.
Ушла стремглав из сей юдоли слёз,
Где ей, увы, ничто не удалось,
По долгой, тяжкой, истомительной борьбе,
Прощая всё и людям и судьбе.
И свой родимый край так пламенно любила,
Что, хоть она и воин не была,
Но жизнь свою отчизне принесла;
Вовремя с нею не могла расстаться,
Когда б иная жизнь спасти её могла.
– Мари... Маленькая... моя доченька! Это – о тебе, – простонала Эрнестина Фёдоровна и приложила к глазам платок. Но тут же наклонилась к лицу мужа и осторожно сняла уголком платка с его нижних век две крупные слёзы.
Тютчев молчал. Эрнестине Фёдоровне показалось, что он заснул. Но Фёдор Иванович лежал и думал о стихах, которые он только что продиктовал. Они хотя и были уже занесены на бумагу, но всё ещё продолжали в нём жить.
Потому что, как и в стихах, в нём самом всё ещё продолжалась борьба разума и чувства; утверждалось величие любви дочери к отчизне, и не исчезала, всё ещё жила боль отца.
Он понимал, как высок был её гражданский подвиг. Но он не хотел, не мог смириться с мыслью о правильности её жизненного выбора, который, как он и теперь был убеждён, потребовал от неё крайней жертвы.
Однако по-другому мысль Тютчева и не могла жить, как, собственно говоря, и любая человеческая мысль. Разве не он сам когда-то открыл для себя и для людей, вернее, в беспощадном признании обнажил простую и оттого загадочную истину, что в единоборстве страстей, в противоречии крайностей только и может слагаться то единство и постоянство, в котором одном и заключена подлинная правда жизни?
И разве не он сам жил именно по этим законам – сложно и противоречиво, но одновременно собранно и целеустремлённо?
О, вещая душа моя!
О, сердце, полное тревоги,
О, как ты бьёшься на пороге
Как бы двойного бытия!..
44
А жизнь между тем продолжалась. В доме не закрывались двери – приезжали и приходили близкие и просто знакомые, чтобы побыть рядом с больным и ободрить его. Однако получалось, что он сам вселял в них уверенность, что всё образуется и он обязательно выкарабкается. Это слово «выкарабкается» он однажды услышал от Боткина, когда тот говорил о состоянии его здоровья с Эрнестиной Фёдоровной, и теперь с нескрываемым удовлетворением сам его повторял.
Большею же частью в присутствии гостей он старался подтрунивать над собою, «будущим покойником». И все понимали, что и в самом деле положение его не так безнадёжно, поскольку вряд ли бы стал человек так над собою шутить, если бы действительно чувствовал приближение своего последнего часа.
Только немногие, и в первую очередь жена и старшая дочь, понимали, что это всего-навсего была игра ума, ничего общего не имеющего с подлинным состоянием, в коем находилось его тело.
И слова о смерти, произносимые с большой долей иронии, скорее говорили о том, что он знает о её неминуемом приходе и готовит себя к тому, чтобы достойно её встретить.
Об этом он прямо сказал Анне:
– Всю нашу жизнь мы проводим в ожидании этого события, которое, когда настаёт, неминуемо преисполняет нас изумлением. Мы подобны гладиаторам, которых в течение целых месяцев берегли для арены, но которые, я уверен, непременно бывали застигнуты врасплох в тот день, когда им предписывалось явиться...
Собственно говоря, смерть, которая к нему подступала, была как бы частью жизни, которую он уже прожил и которая теперь лишь обретала свою новую форму, ещё им не изведанную. И потому, говоря о конце с определённой долею юмора, он давал понять находившимся с ним рядом людям, что на самом деле жизнь, которую он так жадно любил, никогда не иссякнет, какой бы ужасный вид она теперь ни принимала.
И жизнь – живая, яркая и неистребимая, – казалось, слышала каждое движение его мысли и потому стремилась одарить его самым дорогим и бесценным, что было в её чудодейственных силах.
Так однажды уже в начале весны он уловил сквозь дрёму, как дверь в его комнате отворилась и всё вокруг наполнилось ароматом цветов. Запах был тонок и нежен, и он с радостью определил: это подснежники, самые первые после долгой зимы живые вестники весны!
Тютчев открыл глаза и скорее не разглядел, а догадался, что букетик подснежников был в руках лёгкого, почти воздушного создания, которое пыталось поставить цветы на столик рядом с его диваном.
– Ах, это ты, Нести, – произнёс он, – Я знаю, эти цветы для нашей милой Дарьи. Сегодня у неё ведь день ангела. Где-то здесь, на столике, я оставил листок со стихами, которые этой ночью написал для неё: «Ещё цветы я рассылаю, а сам так быстро отцветаю...» Ну и далее в том же духе. Поцелуй за меня мою милую дочь. Она будет рада получить от меня слова привета и эти цветы, что ты принесёшь ей.
– Эти цветы – для вас, – вдруг услышал он голос женщины, который никак не был похож на голос жены. – Эти цветы тебе, Теодор.
Комната была наполнена светом, но глаза почти ничего не смогли различить. Лишь имя «Теодор» заставило вздрогнуть:
– Так, значит, это ты, Нелли? Выходит, мы снова встретились и я, как и обещал, вновь соединился с тобою, – с испугом произнёс он.
– Я – не Элеонора. Разве вы... разве ты забыл, что Теодором впервые стала звать тебя не первая твоя жена, а та, которая могла бы сама стать ею, сложись по-иному наши с тобою судьбы.
Только теперь Тютчев узнал её голос, но слёзы, выступившие из глаз, окончательно помешали разглядеть гостью, которую никак не ожидал увидеть у своего одра.
– Амалия! Радость моя и самая первая моя любовь! Ты ли?
– Это я, мой милый друг. Та из нашего с тобою золотого времени, о котором так часто ты мне писал.
Он протянул к ней правую, способную пошевелиться руку, и Амалия Максимилиановна Крюденер пожала её с тем чувством, которое он помнил с той, первой их встречи.
Твой милый взор, невинной страсти полный,
Златой рассвет небесных чувств твоих...
«Господи, когда же это было – неужто и правда почти пятьдесят лет назад?» – припомнил Тютчев свои давние стихи, посвящённые Амалии. И тут же в памяти возникло другое стихотворение, также обращённое к той, что сидела сейчас перед ним.
Я помню время золотое,
Я помню сердцу милый край:
День вечерел; мы были двое;
Внизу, в тени, шумел Дунай...
– Ты не забыл, ты помнишь всё, – благодарно произнесла она и вновь пожала его руку. – Спасибо тебе. А ведь прошла такая большая жизнь – и у тебя, и у меня. Хотя мне, женщине, и не стоило бы говорить о прожитых годах, выдавая свой возраст. Но ты знаешь, сколько мне на самом деле и какую жизнь прожила я.
Александр Сергеевич Крюденер скончался тому уже ровно двадцать лет назад. Теперь Амалия – графиня Адлерберг. Муж моложе её. Ему, блестящему генералу, уготована завидная карьера. Но счастлива ли она в той мере, в какой бы ей этого хотелось? Вернее, как её божественная красота и её ангельская душа того заслуживают.
Все годы, что Амалия была вместе с бароном Крюденером, Тютчев почему-то подозревал, что ей чего-то не хватает, что она должна была получить от жизни значительно больше, чем имела.
Летом 1870 года они случайно встретились в Карлсбаде. Амалия была, как всегда, очаровательна. Может быть, тому причиной был находившийся при ней новый её муж – юный, стройный красавец генерал? А может, потому, что сам Фёдор Иванович уже тогда ощутил себя развалиною, которую обступили болезни, из-за которых он и приехал на модный европейский курорт? Но как бы то ни было, он вдруг почувствовал такой необыкновенный прилив сил, что, возвратившись после их встречи к себе в гостиничный номер, тут же присел к столу и взял в руку перо. Стихи полились просто и естественно, словно это была запись в дневнике:
Я встретил вас – и всё былое
В отжившем сердце ожило;
Я вспомнил время золотое —
И сердцу стало так тепло...
Тогда стояла поздняя осень. И потому в стихах возникло такое сравнение:
Как поздней осени порою
Бывают дни, бывает час,
Когда повеет вдруг весною
И что-то встрепенётся в нас,
Так, весь обвеян дуновеньем
Тех лет душевной полноты,
С давно забытым упоеньем
Смотрю на милые черты...
Как после вековой разлуки,
Гляжу на вас, как бы во сне, —
И вот – слышнее стали звуки,
Не умолкавшие во мне...
Сейчас он смотрел на неё вновь с тем же упоением, словно тот сон длился и теперь. Но теперь виной тому было не просто волнение – отказывало зрение. Однако память не могла подвести: Амалия была вновь перед ним такою же, как и пятьдесят лет назад, во дни их пламенной любви.
Тут не одно воспоминанье,
Тут жизнь заговорила вновь, —
И то же в вас очарованье,
И та ж в душе моей любовь!..
Амалия раскрыла сумочку и бережно извлекла из неё листок со стихами.
– Вот строки, написанные тобою тогда, в Карлсбаде. Я храню их как величайшую драгоценность, нет – как святыню. Ты, именно ты, Теодор, сделал меня счастливой, посвятив мне эти восхитительные стихи. И потому я не знаю на всей земле ни одной другой женщины, которая была бы счастлива, как я.
И она, склонившись к нему, нежно его поцеловала.
– О, ты не знаешь, моя милая Амалия, что ты совершила своим приходом ко мне! В твоём лице прошлое лучших моих лет явилось дать мне прощальный поцелуй. Значит, я не напрасно прожил такую длинную жизнь. Время золотое было подарено мне в начале и, получается, в самом конце моего бытия. А может ли быть что-либо значительнее такого дара?







