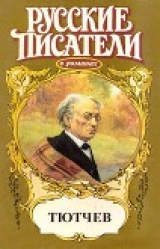
Текст книги "Страсть тайная. Тютчев"
Автор книги: Юрий Когинов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 36 страниц)
4
В одном маменька оказалась права: дипломатическая карьера, не в пример иным службам, в самое кратчайшее время проявила свои преимущества. По прибытии в Мюнхен Феденька значился всего-навсего губернским секретарём, а спустя каких-либо три года уже получил чин коллежского секретаря. А ещё через два года, в 1828-м, был назначен вторым секретарём миссии.
Впрочем, это-то продвижение в глазах самого Тютчева как раз было если и достижением, то несказанно малым. В самом деле, какой это, скажите, завидный успех, ежели он поначалу занимался лишь перепискою чужих бумаг, а затем был допущен уже и к составлению донесений в Петербург, имеющих, как правило, всего лишь осведомительный характер? Его уму и образованности – он это знал – соответствовала бы должность, скажем, первого секретаря. Но, увы, даже когда случилась вакансия, Тютчева сие назначение обошло.
В другом, несомненно, оправдался расчёт Екатерины Львовны – уже через пару лет службы её сын был удостоен звания камер-юнкера. Попробуй кто на ином служебном поприще внутри страны обрести сей придворный чин за столь короткие сроки – и думать об этом нельзя! А тут вроде бы и вдалеке от императорского двора, и никто из всесильного царёва окружения и в глаза не лицезрел дипломатического чиновника Тютчева, а извольте-с, вот он, к дворцовой жизни оченно и, главное, законно причастный!
Вот почему, когда в середине лета 1825 года Феденька прибыл в Москву в первый свой отпуск и уже в звании камер-юнкера, маменька в радостном и счастливейшем состоянии не могла найти себе места, всё не отводила своих восхищенных глаз от милого и любимого сынка.
– Ну как он там, от нас на отшибе, не скучал? Вижу, вижу, Афанасьич, ты за ним, ненаглядным, ухаживал исправно. Зато и здоров Феденька, и ничем, видать, в своей самостоятельной жизни не огорчён. Аль что не так, Афанасьич? Ты смотри у меня – на тебя вся надежда, – счастливо и в то же время с нескрываемым, одним лишь матерям свойственным беспокойством не переставала маменька пытать старого Фединого слугу.
Моментами уж всё как на духу готов был выложить барыне Николай Афанасьевич, да вовремя себя останавливал. Нешто и он сам не был когда-то молод и нерассудителен? Ну, про цепочки – не выдержал – рассказал. Тут дело не просто в амурах – Фёдор лишился ценной вещи. А спрос с кого? Ясно, со старого слуги – не украл ли кто из дому. Да, честно сказать, и того хуже: не сам ли куда приспособил с неким умыслом? Вот в этой напраслине и не хотел быть обвинённым. Что ж до другого прочего – чего всякими россказнями расстраивать Екатерину Львовну да Ивана Николаича? Были и они, чай, юными да увлекающимися.
Грустные мысли посещали по иному поводу: во второй раз уже не отважится на далёкое путешествие. Лета и давние болячки брали своё – скоро, должно быть, помирать. Так к чему оставаться в чужой земле, коли здесь они, на Москве, могилы всех предков?
Загодя, перед самым Фединым отъездом, Хлопов заказал икону с изображением Богоматери – «Взыскание погибших», празднуемой пятого февраля. На обратной её стороне Афанасьич собственною рукою сделал надпись: «В сей день, месяца февраля 5 дня 1822 года, мы с Фёдором Ивановичем проехали в Петербург, где он вступил в службу».
Но сие было не всё, что хотел запечатлеть верный слуга. По четырём углам иконы живописцем были изображены во весь рост святые, память о которых отмечалась как раз в другие, также памятные для Тютчева дни. Так, рукою Афанасьича была сделана запись о дне одиннадцатого июня 1825 года, дне приезда – «возвращения» – из Мюнхена в Москву, как раз спустя три ровно года после отъезда их обоих на чужбину.
И конечно же с особым значением Афанасьич вывел на оборотной стороне доски: «Генваря 19 1825 года Фёдор Иванович должен помнить, что случилось в Минхене от его нескромности и какая была бы опасность...»
Долго думал: вручить её теперь же своему горячо любимому воспитаннику или пока оставить у себя, сделав на ней завещательную надпись? Наконец решился: пускай она, Богоматерь, взыскующая о погибших, останется здесь, в Москве, у него, верного слуги. Так будет вернее – они вдвоём с Богоматерью, на расстоянии, как бы оно ни было столь огромно, будут верно стеречь покой и благополучие Божьего раба Феодора.
А чтобы ведали другие, что сия икона означает и какой у неё до поры до времени потаённый смысл, Афанасьич начертал на доске собственноручное завещание: «В память моей искренней любви и усердия к моему другу Фёдору Ивановичу Тютчеву сей образ по смерти моей принадлежит ему. Подписано сего 1826 года марта 5-го. Николай Хлопов».
Так они навсегда расстались – будущий великий поэт и его верный дядька, почивший вскоре после отъезда любимого своего воспитанника. То была, наверное, первая на уже взрослой памяти Тютчева смерть, больно кольнувшая его душу. Но ею начнётся череда потерь, что почти одна за другою станут печалить и потрясать его сердце, легко ранимое и особенно чуткое к несчастьям и тревогам.
Но пока ещё ни о чём таком не только не знает, но даже не подозревает будущий русский гений. Он снова спешит в Мюнхен. Туда, где оставил свою самую первую большую любовь и образ которой навсегда останется для него восхитительным и желанным.
Через много-много лет он посвятит ей одно из самых величайших во всей русской поэзии стихотворение:
Я встретил вас – и всё былое
В отжившем сердце ожило...
Но теперь его губы шепчут иные слова, что пришли к нему ещё там, в Мюнхене, сразу после первой встречи с очаровательной Амалией. И которые он так и не решился тогда перенести на бумагу и тем более передать ей.
Твой милый взор, невинной страсти полный,
Златой рассвет небесных чувств твоих
Не мог – увы! – умилостивить их —
Он служит им укорою безмолвной.
Сии сердца, в которых правды нет,
Они, о друг, бегут, как приговора,
Твоей любви младенческого взора,
Он страшен им, как память детских лет.
Но для меня сей взор благодеянье;
Как жизни ключ, в душевной глубине
Твой взор живёт и будет жить во мне:
Он нужен ей, как небо и дыханье.
Таков горе духов блаженных свет;
Лишь в небесах сияет он, небесный;
В ночи греха, на дне ужасной бездны,
Сей чистый огнь, как пламень адский, жжёт.
Объяснение в любви? Скорее предчувствие неизбежности разлуки.
Однако, даже подъезжая к Мюнхену, он не мог и предположить, какой удар приготовила ему судьба. В самый день приезда его как громом поразила весть: Амалия стала женою его старшего друга – Крюденера.
Что оставалось ему делать? Ни одного родного человека теперь не было с ним рядом, в ком он мог бы найти не только опору, но даже простое сочувствие.
Но нет, рядом оказалось милое и нежное существо – первая в его жизни женщина, которая сама его безоглядно полюбила.
Этой женщиной оказалась двадцатисемилетняя красавица Эмилия Элеонора Петерсон. И пятого марта 1826 года, менее чем через два месяца после возвращения Тютчева в Мюнхен, Элеонора стала его женой.
5
Зима выдалась на редкость мягкой. Но по вечерам в гостинице «У золотого оленя» было зябко и сыро. А может быть, это чувствовал только он, постоялец по имени Генрих Гейне, совсем недавно приехавший в Мюнхен из сырой и промозглой Англии, где в любое время года, не говоря уже об осени и зиме, студёный ветер, дующий с моря, пробирает до костей.
Впрочем, как бы то ни было, зима здесь, в Южной Германии, шла на убыль. К тому же что там холод – любое неудобство следовало перетерпеть ради того радужного будущего, что открывала перед ним столица Баварии.
Да и о каких неудобствах могла идти речь, когда отель, где он разместился, считался лучшим в городе, а нумер, ему отведённый, – самым уютным и просторным. Да и дело, ради которого он сюда прикатил, не могло не устраивать его.
Ещё пребывая в Лондоне, Гейне получил лестное предложение возглавить журнал «Литературные и политические летописи», что известный издатель барон Котт решил выпускать в Мюнхене. Договор был заключён на полгода. Но этот срок как раз был на руку свежеиспечённому редактору. Он полагал, что шести месяцев окажется достаточно для того, чтобы достичь главного, но пока что тайного желания, которое и привело его в баварскую столицу, – получить место профессора литературы в недавно открывшемся Мюнхенском университете.
В его собственной жизни было три университета, в которых он совсем недавно сам слушал лекции. То были знаменитые Боннский, Геттингенский и Берлинский университеты.
Менять сии храмы науки его вынуждало метание между юриспруденцией, на что его толкали родственники, и собственной страстью к поэзии. Но как бы там ни было, а три года назад в столичном прусском университете он успешно защитил диссертацию по римскому праву, к тому же на латинском языке, и был удостоен степени доктора юридических наук.
Родственникам уже рисовалась завидная адвокатская судьба одарённого, хотя и своевольного юноши, с самого начала отвергшего семейную стезю – финансистов и купцов. Что ж, и юриста иметь неплохо, коли сей бурш выбьет из головы стихоплётскую дурь и всерьёз займётся законностью, чтобы ещё более упрочить фамильный профит.
На изрядные способности юноши особенно надеялся родной дядя Соломон Гейне, положивший племяннику содержание до полного окончания учёбы. Меж тем, как ни рассчитывали родичи на обретение Генрихом постоянной службы, место всё не определялось.
Ещё только приняв на своё содержание племянника, Соломон Гейне не мог взять в толк, почему Генриха не радует тот роскошный мир, что создал своим трудом он, один из самых известных банкиров Германии, состояние которого можно сравнить разве что с баснословным богатством Ротшильда?
– Нет, вы только представьте, – жаловался банкир своим близким, – какую нищую жизнь видел Гарри в доме своего отца и моего старшего брата Самсона! Торговля манчестерскими сукнами, не спорю, неплохая коммерция. Но она должна быть в тесной дружбе с хорошей и трезвой головой, а не с легкомысленным увлечением азартными аферами. Вот и мальчик, наверное, получил в наследство характер, лишённый стойкости и расчёта. Однако почему его не увлекает мой пример и та цель, которой я сумел достичь?
В дядиных домах в Гамбурге и в Оттензене на Эльбе – роскошь несусветная. Особенно поражает воображение вилла на Эльбе. Наверное, любой самый родовитый князь мог бы позавидовать её паркам с фонтанами и статуями, напоминающими Версаль или владения русских царей под Санкт-Петербургом. А лица, что встречаются в дядиных гостиных, – разве это не сливки германского общества, среди которых князья, известнейшие дипломаты, высокомудрые сенаторы и, конечно же, владельцы баснословных богатств из всех германских земель.
Неужто сомнительные сборища буршей-студентов да длинноволосых художников и щелкопёров – писателей и журналистов – Гарри дороже, чем стойкий культ добродетельной жизни, уже достигнутой его родным дядей?
Впрочем, и сам Генрих был уже не против того, чтобы ощутить под ногами прочную почву. Он изрядно помотался и по германским землям – от Северного моря до Гарца – и даже посетил мрачный Альбион. Однако, повидав жизнь, он пришёл к твёрдому убеждению: следует помогать не тем, у кого лопаются от золота кошельки, а тем, кто хочет посвятить свой ум и сердце истине и добру. Потому ему не место в адвокатских конторах Гамбурга, а только на кафедре университета.
Перед тем как получить приглашение от редакции «Литературных и политических летописей», до Генриха Гейне дошла весть, что в баварской столице открылся новый университет. Вот это-то и явилось главной причиной, по коей молодой поэт и ещё более юный доктор юриспруденции прибыл в Мюнхен.
Однако так только говорилось – «новый университет». На самом деле сему храму науки было уже от роду более трёхсот пятидесяти лет, и он считался в какой-то мере ровесником самых известных храмов науки, коими гордилась германская нация и в коих успел побывать в качестве студента нынешний искатель профессорского места.
Мюнхенский университет был основан ещё в 1472 году баварским герцогом Людовиком Богатым в Ингольштадте. С тех пор он не раз менял своё месторасположение и наконец и прошлом, 1826 году был переведён из провинциального городка Ландесгута в столицу Баварии.
Испокон веку баварские правители украшали Мюнхен замечательными дворцами и прочими памятниками архитектуры, создавали кунсткамеры и музеи, картинные галереи, разни нал и парки, прокладывали улицы и площади, которые должны были смотреться как подлинные произведения искусства.
Недавно вступивший на престол король Людвиг Первый решил не просто продолжить сию традицию, но вдохнуть в свои деяния ещё более творческий дух. Он сам писал стихи, водил дружбу с лучшими умами Германии и потому решил превратить Мюнхен в немецкие Афины. Иными словами, в царство науки, поэзии, искусства и просвещения.
Здесь уже пользовались заслуженной славой Академия художеств и Музыкальная академия, Королевский институт, дающий молодёжи самый широкий объем знаний, большое количество начальных и средних школ. И вот отныне – один из старейших в Европе университетов, в котором уже в средние века на четырёх факультетах обретали знания около пятисот питомцев. Теперь же предполагалось увеличить число факультетов и довести количество студентов более чем до трёх с половиною тысяч.
Ректором университета король назначил выдающегося филолога-эллиниста Фридриха Вильгельма Тирша, а в качестве профессоров привлёк выдающихся мыслителей Германии – Фридриха Шеллинга, Франца Баадера, Фридриха Якоби и многих других.
Германия всё ещё была раздроблена на отдельные герцогства, но здесь, на юге немецких земель, рождался как бы единый центр всеобщей германской культуры. И это также льстило самолюбию Генриха Гейне, чья поэтическая слава уже успела облететь всю Германию.
6
Пропустить лекцию какого-либо выдающегося светила было бы верхом легкомыслия. Тем более что на подобные чтения собирались все мало-мальски известные университетские профессора и почти вся мюнхенская знать, начиная с первых лиц королевского двора и кончая чиновниками многочисленных дипломатических миссий.
Так было и теперь, на лекции Шеллинга, объявленной как продолжение курса общей философии, что он читал здесь с первого семестра. Однако, взойдя на кафедру и окинув взглядом аудиторию, именитый профессор патетически воздел вверх руки и неожиданно объявил:
– Многоуважаемые дамы и господа! История философии есть история зарождения и развития свободной мысли и свободного духа всего человечества. До сих пор я строил свой курс философии на достижениях, так сказать, исторического прошлого. Однако история творится духом свободы в любые, в том числе современные нам, времена. Посему сегодня я вынужден нарушить привычное течение моих лекций и обратить ваше внимание на те величайшие свершения, что происходят, как говорится, на наших с вами глазах и чьи последствия, смею смело утверждать, имеют самое прямое отношение к расцвету свободного человеческого духа.
Многим, находившимся в аудитории, уже было известно из газет о начавшейся на Балканах русско-турецкой войне и о доблестных победах русского оружия в сей бурно завязавшейся драке. Именно с этого и начал свою лекцию профессор философии, прямо указав, что сия борьба – борьба за свободу и раскрепощение народов.
– Именно Россия, – сказал он, – подняла свой меч, чтобы покончить с тиранией Османской империи и вызволить из её оков такую великую прародину человеческой культуры, как достославная Эллада! Да, мы должны быть благодарны русским и их молодому императору Николаю Первому за то, что они, проявляя самоотверженность и, главное, бескорыстие, движимые лишь чувством милосердия и сострадания, принесли священную и столь долго желаемую свободу народу Греции.
Сия борьба имела свою давнюю историю. В её основании значились не менее громкие победы. Впервые здесь, в германском городе, из уст немецкого профессора Шеллинга прозвучали имена Потёмкина и Репнина, Румянцева и Суворова, не раз покрывших славой знамёна победоносного русского воинства.
Не успел профессор сойти с кафедры, как его плотным кольцом окружили молодые и некоторые уже средних лет слушатели, в основном студенты из России.
– Я сожалею, – расслышал Гейне слова растроганного Шеллинга, – что не знаю вашего родного языка, дорогие мои коллеги, и, разумеется, не имею возможности читать по-русски. Но я всегда был рад, когда узнавал, что русские, приехавшие из Санкт-Петербурга и Москвы, посещают мои лекции. Скажу вам, друзья мои, мне очень и очень по сердцу, что Россия и Германия как бы начинают входить в общий умственный союз. Именно от России я отныне ожидаю великих услуг человечеству. Порукой тому – ваша юная и свежая образованность, ваше неуёмное стремление припасть к истокам, образно говоря, к чистым родниковым ключам всеевропейской цивилизации. Не так ли, герр Тютчев?
– О, герр профессор, у вас высокое и совершенно справедливое понятие о моём отечестве, – произнёс стоящий рядом с Шеллингом русский дипломат. – В справедливости ваших высказываний я, как вам давно уже известно, не раз имел уже счастливую возможность убеждаться... И вот нынче ваши чувства к России и её народу вы объявили, так сказать, во всеуслышание. Это не может не радовать и меня, и моих соотечественников, что прибыли из российских краёв, чтобы припасть к светлым и чистым родникам европейской культуры.
Только теперь Шеллинг заметил в толпе немецкого поэта и, будучи сам уже с ним знаком, представил его Тютчеву.
– Я с живым интересом прочитал первый нумер редактируемых вами «Летописей», – признался Тютчев, подавая руку известному поэту. – Только почему, смею полюбопытствовать, на страницах вашего журнала столько нападок на английскую литературу и, скажем прямо, вообще на британскую общественную мысль?
– Вы в самом деле это заметили? – обрадованно подхватил Гейне. – Так вот, признаюсь вам откровенно: критика английских книг и журналов именно с точки зрения политики – моя ведущая нить. Давно пора сбросить покров ложной добропорядочности и показной добродетели с хвалёной британской демократии. Сия демократия – защитница всего отжившего. Она вся обращена в прошлое, тогда как другие страны, в первую очередь ваша Россия, – пример будущего.
Лицо Фридриха Шеллинга просияло:
– Вот вам, мой милый Тютчев, ещё один искренний и мой и ваш союзник. Да ещё какой! Такой1 второе острое и смелое перо вряд ли сыщется не только в Германии, но во всей остальной Европе. Однако, дорогой мой поэт, и впрямь не слишком ли вы увлеклись этаким наскоком, чтобы без оглядки, напропалую бить и бить в одну точку? Есть же и в Альбине свои достоинства, которых грешно не замечать.
Гейне отбросил длинную прядь волос, свесившуюся на лоб, и глаза его чуть прищурились.
– Прелести Альбиона? – повторил он, – Да, от многих из них я в восторге. Не могу не ценить, в частности, достижений некоторых английских поэтов. Но наш журнал – политическое обозрение! Это как бы точно сфокусированный взгляд на общественную жизнь. Впрочем, пристрастность – черта моего характера. Что же касается некой моей неосмотрительности и несдержанности, то, смею заметить, я ещё молод. К тому же у меня пока нет ни голодающей жены, ни голодающих детей. Следовательно, я могу говорить свободно, то есть как нахожу нужным.
Последние слова об отсутствующей жене и детях Гейне произнёс с долей юмора. Потому собеседники, обменявшись учтивыми улыбками, вскоре стали прощаться.
– Вы не слишком торопитесь? – вдруг догнал Тютчев своего нового знакомца. – А то мы могли бы ещё с вами пройтись и немного поговорить. Признаюсь, я с большим наслаждением года два или три назад – да нет, скорее даже ранее – познакомился с вашими двумя поэтическими сборниками. И получил непередаваемое удовольствие. Немецкий, как вы сами понимаете, не мой родной язык. Но я усвоил его с раннего детства. И вот оказалось, что от меня не ускользнули тонкости ваших поэтических совершенств. Право, ничего подобного я не читал в немецкой поэзии. Глубина мысли и в то же время простота её выражения, свойственные вам, меня поразили.
Тютчев остановился и снял очки, чтобы протереть враз запотевшие стёкла. Он не ожидал от себя такого порыва и такого бурного изъявления чувств, что на какое-то время смутился и покраснел. Этого не мог не заметить Гейне, для которого также несколько неожиданным показалось откровение его собеседника.
От кого он только не слушал с определённого времени похвал в свой адрес! Но большею частью восторги, если они не исходили от людей, понимающих и чувствующих поэзию, походили на дежурные комплименты. Так сказать, напоминали своеобразную дань моде: смотри-ка, и тот и этот – хвалит; что же подумают обо мне, если я промолчу? Здесь же не было корысти, не было казённого выражения чувств, потому что никто не обязывал Тютчева говорить приятные слова новому знакомцу, к тому же когда они, уже поговорив, казалось, о главном, откланялись и разошлись.
«Тут явно оказалось другое: глубокое понимание поэзии и искреннее восхищение ею», – сразу решил про себя Гейне и с таким же искренним чувством сердечно поблагодарил русского дипломата за его откровенные высказывания.
«Готов биться об заклад – мой новый русский знакомец не только умён, но и блестяще образован, – продолжал думать Гейне. – Наверное, само Небо послало мне в этом чопорном Мюнхене хотя бы одного глубоко мыслящего человека. Буду счастлив, если наше знакомство перерастёт в дружбу».
Ещё не улеглось первое волнение, как Фёдор Иванович вдруг вспомнил, что не только с упоением и единым духом прочитал первую, а затем и вторую книжку стихов Гейне, но даже решился одну из его пиес переложить на свой родной язык.
На севере мрачном, на дикой скале,
Кедр одинокий, подъемлясь, белеет,
И сладко заснул он в инистой мгле,
И сон его буря лелеет.
Про юную пальму снится ему,
Что в краю отдалённом Востока,
Под мирной лазурью, на светлом холму
Стоит и цветёт, одинока...
Тотчас возникло желание прочесть вслух хотя бы первую строфу, но он вовремя остановил себя.
«Да как он поймёт язык, в котором для него нет ни единого знакомого слова? Неужто для того, чтобы он уловил смысл моего рифмоплётства, я должен буду пересказать немецкими словами его же собственные немецкие стихи? Вот умора – рассказать кому-либо о произошедшем, не оберёшься смеху!»
Но более всего обескуражила и другая мысль, также неожиданно пришедшая в голову: «Право, да куда же мне со свиным-то рылом да в калашный ряд? Кто я в сравнении с ним, уже признанным поэтом, – так, рифмоплёт под настроение, бумагомаратель, каких, наверное, не счесть что в Германии, что в матушке России. Нет уж, как возникли когда-то, в минуту вдохновения мои строки на мотив его, Гейневых, стихов, так пусть тихо и помрут лишь в моей памяти. А вот касательно дружеского общения, тут я – со всею открытостью».
– Не откажите в любезности у меня отобедать, – Тютчев снова водрузил на свой нос очки в тонкой золотой оправе. – Время как раз обеденное, и мои близкие будут рады видеть у себя такого гостя.







