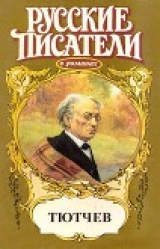
Текст книги "Страсть тайная. Тютчев"
Автор книги: Юрий Когинов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 33 (всего у книги 36 страниц)
– Собственно, нет никакого противоречия в той мысли, которая не давала мне покоя, – вдруг с нескрываемым облегчением произнёс Тютчев. – Всё дело в том, что человек не должен ощущать себя центром мироздания и ставить свои собственные страдания выше боли других, себе же подобных. Не только помыслами, но и делами своими он обязан слиться со всем человечеством, со всем сущим в мире. Только в этом его бессмертие. Вот и вся разгадка того, что мне подумалось, когда я смотрел на останки древнего Вщижа на Десне. Но существует иная тайна: как каждому из нас достичь этой слитности с миром. Найти своё единственное и необходимое место во вселенной и в повседневдом человеческом бытии, чтобы жизнь наша не оказалась бесследной? Иначе: как избавиться от собственного эгоцентризма, неизменно нашёптывающего каждому из нас, смертных: что цели возвышенные и благородные, что печаль всего мира, когда у меня сегодня ноет собственная мозоль?.. Значит, практический вывод в том, чтобы не только понять эту высшую истину – о ней отвлечённо рассуждают многие, – но следовать ей в каждом своём поступке. А это-то самое трудное. Вот я сам...
«Да, я сам разве не корю себя постоянно за то, что, остро ощущая биение каждой клеточки жизни, часто остаюсь глухим к требованиям собственного рассудка и собственных чувств? Но поди ж, всегда жду сочувствия от других по поводу собственных терзаний. Как жду и теперь сострадания от Льва Николаевича... А вчерашний вопрос Мари о том, как бы я поступил, если бы прислушался к мнению света и предал бы свою любовь? От этого вопроса даже мороз по коже... Нет, я никогда не отрекался от любви. Но от чьей? От любви – её, бедной Лели. Как не отрекался и от любви верной Нести. Но сам-то я разве каждой из них платил такою же мерой? А вот Мари любит, не отмеривая свою любовь как благодеяние. Она в любви как бы слила, уничтожила своё эгоистическое «я». Однако, видимо, никому не дано всего достичь – и ничего не потерять. И никто из нас никогда не сумеет добиться полной гармонии между разумом и чувством. Но можно ли жить на земле, не стремясь постоянно к этой цели? Зачем тогда вообще человеку жизнь?..»
В этих или иных выражениях высказывал Тютчев свои мысли Толстому, он вряд ли мог точно впоследствии припомнить. Но по вниманию Льва Николаевича, с которым тот его слушал, Тютчев понял, что многое из сказанного им интересно и важно собеседнику.
У Толстого был свой опыт жизни, свои сомнения и тревоги, а значит, и свои убеждения, которые в тот момент сходились или не сходились с мнениями Фёдора Ивановича. Но оба они бесконечно были рады встрече.
И когда уже расстались, Тютчев вдруг ощутил, что, наверное, впервые в жизни говорил сегодня не просто для того, чтобы быть понятым другим и получить минутное утешение. Скорее – чтобы лучше разобраться в том, что тревожило его постоянно, разобраться в самом себе.
Прибыв в Москву, Фёдор Иванович прямо с вокзала послал телеграмму в Брянск для передачи её в Овстуг:
«Утомительно, но не скучно. Много спал. Приятная встреча с автором «Войны и мира».
Сообщил, как доехал, чтобы родные не волновались, но хотел сказать гораздо больше. И не просто о встрече с Толстым, наверное...
И Толстой не сможет забыть этой встречи. В письме Фету, тоже говоря о том, как доехал, он сообщит: «...встретил Тютчева в Черни и 4 станции говорил и слушал и теперь, что ни час, вспоминаю этого величественного и простого и такого глубокого, настояще умного старика».
А спустя три недели Лев Николаевич напишет в Петербург своему приятелю Николаю Николаевичу Страхову: «Скоро после вас я на железной дороге встретил Тютчева, и мы 4 часа проговорили. Я больше слушал. Знаете ли вы его? Это гениальный, величавый и дитя-старик. Из живых я не знаю никого, кроме вас и его, с кем бы я так одинаково чувствовал и мыслил. Но на известной высоте душевной единство воззрений на жизнь не соединяет, как это бывает в низших сферах деятельности, для земных целей, а оставляет каждого независимым и свободным. Я это испытал с вами и с ним. Мы одинаково видим то, что внизу и рядом с нами; но кто мы такие и зачем и чем мы живём и куда мы пойдём, мы не знаем и сказать друг другу не можем, и мы чуждее друг другу, чем мне или вам мои дети. Но радостно по этой пустынной дороге встречать этих чуждых путешественников. И такую радость я испытал, встретясь с вами и с Тютчевым».
38
Ядро, рассекая воздух, летело с неимоверной быстротой. Сначала оно казалось размером с кулак, потом увеличилось до тележного колеса и, наконец, стало чёрным шаром, затмившим собою всё небо.
От ядра в разные стороны испускались снопы искр. Искры сыпались на шинель, прожигая её насквозь, добирались до тела, пронизывая его неимоверной болью.
Бирилёв понял, что это смерть и спастись от неё нет никакой возможности.
«Вот сейчас всё произойдёт, и я не успею даже вскрикнуть и позвать на помощь. Всего один миг, и моё тело и душу испепелит, превратит в ничто чудовищный взрыв», – обречённо подумал он.
Но ещё мгновение – и вдруг возникла надежда: «Всё это уже было со мной, и я наперёд знаю, что останусь жив. Меня спасёт Игнат! Вот же он там, недалеко, среди матросов, и он спешит ко мне!..»
Широкая грудь Игната в солдатской косоворотке, из-под которой виднелась матросская тельняшка, закрыла чёрный и нестерпимо сверкавший по краям шар. Круглое, заросшее бородой лицо было заляпано ошмётками грязи и казалось застывшей маской. Только глаза оставались живыми: зрачки то расширялись, то узились, будто Игнат что-то хотел произнести, но не мог или не решался.
Затем лицо Игната неожиданно расплылось неясным пятном, и Бирилёв услышал его голос:
– А теперь – сами, сами, ваше благородие...
«Что сам, зачем сам?» – хотел выкрикнуть Бирилёв, но крика не получилось, и он с ужасом увидел, как Игнат, уже уменьшенный расстоянием, отступал прочь. Он не убегал, даже не уходил, а плавно отлетал и отлетал куда-то вдаль. Но голос продолжал доноситься до Бирилёва:
– Теперь – сами, вашбродь... Сами...
Ожидая неминуемого взрыва, Бирилёв в отчаянии заслонил руками лицо.
От бессилия, оттого, что теперь сам ничего не сможет сделать, чтобы спастись, он застонал.
Но тут же почувствовал, как чья-то ладонь прикоснулась к нему, и видение чёрного, с разметавшимися огненными молниями шара исчезло.
– Шевченко! Игнат! Ты опять спас меня. Но куда же ты? – Николай Алексеевич сел, опершись на подушку.
– Я здесь, Николенька, я с тобой, – услышал он сначала голос Мари, а потом увидел её. Она сидела на постели у него в ногах. – Ты слышишь меня, милый? Ты бредил. Теперь тебе легче?
Мари обняла его, и он ощутил горячий запах её тела.
– Машенька, это ты? А я сейчас говорил с Игнатом. Я звал его, я думал, что это он...
Во сне война не раз посещала Бирилёва. И не в горячем бреду, как теперь. Он вдруг начинал метаться, разбрасывал руки, что-то пытаясь выкрикнуть. В такие моменты жене достаточно было провести ладонью по его лицу, чтобы кошмарные видения исчезли, и Николай Алексеевич, сбросив остатки сна, счастливо и в то же время с какой-то застенчивой виновностью заулыбался.
Сейчас лицо его казалось скованным, а глаза остекленело глядели куда-то вдаль, мимо Мари.
– Что тебе привиделось? Чем ты напуган? – Мари полотенцем вытерла пот с его лба.
Как часто случается, сон, только что отчётливо промелькнувший в памяти, вдруг потерял что-то существенное, важное. Видение рассыпалось, как детские кубики с картинками. Бирилёв лишь вспомнил летевшее к нему ядро, яркие искры огня, а потом... потом чернота ночи надвинулась со всех сторон, и он проснулся.
– Прости, Машенька, что я тебя невольно напугал. – В глазах Бирилёва показалась знакомая улыбка, и он поднёс руку жены к губам. И тотчас вспомнил слова Игната. – Машенька, – судорожно, словно боясь, что речь может оставить его, он произнёс: – Игнат... Он ушёл, он отказался меня спа– ста... Я понимаю, что это сон. Но к чему его слова: «А теперь – сами, сами...»?
Мари скинула туфли и легла рядом, свернувшись калачиком, как когда-то в каюте «Олега». Как бывало ей приятно вот так удобно устроиться рядом с мужем, среди ночи возвратившимся с вахты и ещё пахнущим морем! Ей казалось тогда, что ничего блаженнее и счастливее этих минут не может быть на свете. И теперь ей стало приятно, что она вновь рядом с ним и не пойдёт к себе, а доспит до утра здесь.
– Засни, милый, и ни о чём не думай. Ты же знаешь, что я с тобою, и я помогу тебе не во сне, а наяву. Спи. Всё будет хорошо. Вот мы скоро достроим школу, потом – новую больницу. Так ведь? Ты не забыл, о чём мы говорили с тобою в Липецке?
Николай Алексеевич задул свечу и откинулся на подушку.
– Я всё помню, Машенька, что говорил, о чём мы решили. Теперь для меня это главное, чем я буду жить, – тихо сказал он и почувствовал, как рука Мари благодарно коснулась его лба, и вскоре послышалось её спокойное дыхание.
Казалось, Бирилёв тоже задремал. Но он лежал и продолжал думать о том, о чём сейчас напомнила ему Мари, – о недавней поездке в Липецк.
Ещё когда подъезжали к Липецку, Бирилёву передалось восхищение Мари.
Поезд только что прогрохотал по мосту через речку по имени Красивая Меча, и жена тронула его за руку:
– Погляди – речка с каким названием!
Она тут же вспомнила рассказы Тургенева, и особенно тот, что так и был обозначен: «Касьян с Красивой Мечи». Наверное, когда-то здесь, где они ехали, бродил с ружьём и собакой Иван Сергеевич, размышлял о любимой России.
Потом, уже в городе, понравился парк, посаженный, как говорили, ещё Петром Первым.
А кумыс! Разве когда-нибудь забудешь, как они впервые попробовали густого, шипучего кобыльего молока. Привозили его в громадных жбанах, но можно было брать и бутылками. Только всегда следовало следить, плотно ли они заткнуты пробками. Сколько раз случалось: среди ночи раздавался выстрел, пробка – в потолок и на скатерти – белая пена.
Жили в гостинице. И тогда прослышали, что здание это специально было построено под госпиталь для воинов, раненных в войне двенадцатого года. Узнали и другое. После той войны мелкий русский чиновник Павел Пезаровиус собрал по подписке четыреста рублей и начал издавать газету «Русский инвалид». Подписчиков оказалось много, и на доходы от газеты через два года после войны тысяча двести пострадавших героев Смоленска, Бородина, Можайска, Тарутина и Малоярославца стали получать денежные пособия.
Вспомнилось, как он сам накануне отъезда в Липецк вместе с Мари, Боткиным, Карцевой и Белоголовым побывал на первом заседании комитета Красного Креста. В зале – роскошные наряды, мундиры генералов и высших чиновников, даже куртки студентов и форменки гимназисток. Председатель комитета генерал Зелёной – пушистые баки, розовые стариковские щёчки мячиками – призвал подписываться на оказание помощи раненным во франко-прусской войне. Такой порыв всколыхнул зал! Захрустели ассигнации, звякнули золотые на столе, за которым устроились секретари. Бирилёвы тоже отсчитали свой взнос.
К собравшимся обратился Боткин. Поведал о первых шагах Георгиевской общины и призвал к сооружению в Петербурге, а затем и во всех иных городах больниц Красного Креста.
– Святое дело – помощь жертвам безумной франко-германской войны. – Сергей Петрович возвысил голос из-за председательского стола. – Но хотелось бы видеть не меньшую ажиотацию и подъём по поводу строительства на средства общества новых лечебниц для русских воинов. Давно замолкло эхо последних севастопольских залпов, а по мостовым губернских и уездных российских городов всё ещё стучат деревяшки одноногих, немало тех, у кого пустой рукав или преследует падучая... Кто же, как не члены нашего общества, проявят о них своё попечение?..
До этого дня Бирилёв считал: не залатать пробоину, в которую хлещет вода, погружая на дно. А тут разом вынырнул из пучины. Выстроил мысленно в одну линию, как бы в кильватер: вот школа в Овстуге, вот Мари – сестра милосердия... Продолжил ту мысль до больниц, о которых говорил Боткин. И сложился строй важных дел, как строй боевых кораблей. Значит, может он ещё служить! Если не флоту – всё той же России.
И вот уже в Липецке, когда увидел здание госпиталя, вошёл в него, решил незамедлительно:
– Машенька, мы уже распорядились с тобой нашими деньгами, которые мне продолжает давать флот, – отсчитали для школы. Жалованья, полагаю, хватит и на другое. Помнишь слова Боткина о новых больницах? Так вот, если бы мы с тобою...
– Я поняла тебя, – счастливо отозвалась Мари. – Как же это будет хорошо!..
«Не деньгами я хочу заплатить за дарованную мне жизнь, – сказал себе Бирилёв. – Любые ценности мира – ничто по сравнению с человеческой жизнью. Но иногда и деньги могут сделать счастливыми десятки обездоленных. Иного средства быть необходимым людям у меня теперь не осталось. И потому, как бы ни было мне невыносимо тяжело, я должен жить! Жить, чтобы хотя бы по каплям, по крохам отдавать всё, что могу, тем, кто нуждается в моём благе... Но почему во сне отвернулся от меня Игнат – моя мука и совесть, почему он покинул меня? Конечно, то был ночной бред. Но сон всегда ведь плод собственного мозга человека, мысль, рождённая в самой потаённой глубине сознания. Зачем же продолжает упрекать меня моя собственная совесть?.. Мне это важно понять...»
Мари проснулась так же быстро, как мгновенно задремала.
– Ну вот, – улыбнулась она, увидев в окне рассвет. – Уже новый день. Сейчас встану и велю позвать Мамаева: меньше трёх недель до открытия школы, а в классах ещё не настелили полы! Аты, милый, лежи, не вставай. Тебе надо совсем-совсем поправиться...
Она поднялась и вдруг вновь склонилась к подушке. Плечи задёргались в глухом, нескончаемом кашле.
– Я никуда тебя сегодня не пущу из дома ни по каким делам. Я сам... – Николай Алексеевич привстал и вдруг понял то, что мучительно пытался разгадать после своего сна.
«Как же я не сумел сразу понять слов Игната? – молнией пронеслось в его сознании, – Ведь не меня, а Машу надо теперь спасать! И это должен сделать не кто-то другой, а именно я сам. Она оттого не едет лечиться за границу, что боится оставить меня. Так как же я могу не думать о её здоровье, о её жизни, когда ей я обязан всем на свете?»
– Машенька... – Бирилёв сел, превозмогая боль в спине. – Как только возвратимся в Петербург, я лягу в больницу общины. Меня будут лечить Боткин и Белоголовый. Я хочу пройти у них обследование.
И про себя продолжил: «Я обязан решиться и развязать ей руки, освободить от своих страданий».
39
Тютчев – из Петербурга в Овстуг Эрнестине Фёдоровне:
«Да, моя милая кисанька, давно бы пора тебе вернуться. Надеюсь, что через неделю ты начнёшь серьёзно подумывать о своём отъезде.
Здесь ничего нового, кроме того, что листья желтеют и падают. Погода, однако, держится, ещё бывают яркое солнце днём и великолепные лунные ночи, как вчера, например...
Что вы поделываете? Как вы себя чувствуете? Продолжается ли лечение кумысом? Какова способность к передвижению бедного Бирилёва? Скоро ли откроется школа, с отцом Алексеем или без него? С вами ли Иван?.. Что до меня, то моё здоровье недурно. Ноги ещё действуют, перемирие ещё продолжается, и я очень надеюсь, что они донесут меня до вокзала железной дороги, вам навстречу. Да, но я забываю, что это Варшавский вокзал. Всё равно, только приезжайте. Да хранит вас Бог».
Три недели минуло с того дня, как Тютчев уехал из Овстуга. Как всегда, не мог найти себе места в деревне, торопился, спешил её покинуть, но оказался вновь наедине с собой, и в воспоминаниях опять возник отчий дом, родные и самые близкие люди.
Однако вряд ли в этих чувствах Тютчева можно усмотреть противоречие, точнее, нелогичность его поведения. Он одновременно ведь принадлежал и самым близким ему людям, и, так сказать, всему миру и, как умел, истово, до самозабвения, посвящал себя этим привязанностям.
Мы уже знаем причины, которые мешали ему долго оставаться наедине с родным Овстугом. Прибавим к ним ещё одну. Тонко подмеченную Иваном Сергеевичем Аксаковым: «Не получать каждое утро новых газет и новых книг, не иметь ежедневного общения с образованным кругом людей, не слышать около себя шумной общественной жизни – было для него невыносимо». Потому, как бы глубоко, мучительно он ни переживал горе и утраты близких, он находил и время и силы, чтобы ни на один день не отключалась его связь с событиями, касающимися судеб России и всего мира.
Здесь мы уже рассказали о живейшем интересе Тютчева к судебному процессу над участниками «Народной расправы». Две недели, день в день, он сидит в зале суда, где среди публики и не встретишь людей его круга. Зачем это ему надо? Как и в самом разгаре франко-прусской войны, он хочет обо всём узнать из «первых рук», стать непосредственным свидетелем событий.
Любой год его жизни – поездки, встречи, споры, новые и новые знакомства... Но мы с вами сейчас в тысяча восемьсот семьдесят первом году. И только одно, даже беглое упоминание о делах, которыми занят Тютчев в эту пору, может показать, как глубоко его трогало всё, что происходило вокруг.
В конце 1870 года давний приятель Тютчева министр иностранных дел Александр Михайлович Горчаков заявляет в декларации, что русское правительство не считает себя больше связанным 14-й статьёй Парижского мирного договора 1856 года, ограничивавшей права России на Чёрное море. Борьба за реванш после севастопольского поражения велась длительная и настойчивая. И не только в дипломатических кругах – мешало жалкое и даже омерзительное поведение Петербургеких салонов, заискивающих перед иностранцами. Тютчев, где только мог, поддерживал патриотическую линию Горчакова. И вот Петербург читает его стихи «Да, вы сдержали ваше слово...» и «Чёрное море», где воздаётся слава и минувшему ратному подвигу, и нынешней гордой стати России.
Но судьба России тесно переплетена с Европой, с судьбами славян. И Тютчев с головой уходит в деятельность Славянского благотворительного комитета, присутствуя на всех его заседаниях.
Наконец – провозглашение Парижской коммуны. И снова кабинет Горчакова, где Тютчев с жадностью набрасывается на каждую новую депешу из Франции. Глаза бегут по строчкам, а в голове настоятельное и никогда не исчезающее: а что же в России, куда пойдёт она?
А в России – суд. Над заговорщиками. Над теми, кто покушался на, казалось бы, незыблемые основы государственности... Вот почему целых полмесяца, как на службу, ходит и ходит он в зал суда, набив карманы газетами, в которых печатаются подробные отчёты о процессе, спешит к друзьям, знакомым, чтобы обсудить, прочувствовать, понять...
Не просто, ох как не просто всё происходящее вокруг! Но он стремится разобраться в самом сложном, в пружинах, которые многим непосвящённым и не видны.
В самый канун своего отъезда в Овстуг целый день проводит в Парголове, под Петербургом, в обществе братьев Ламанских. Владимир Иванович – академик, славист. С ним разговор неожиданный – чем больше число грамотных в стране, тем шире среда учёных, а это – прогресс всей России, всех славян. С Евгением Ивановичем – управляющим государственным банком, главой Всероссийского общества взаимного кредита – выяснение путей экономического развития, роли только что нарождающейся отечественной промышленности, финансов... Наслышан уже об этом от Ивана Сергеевича Аксакова. Но как и во всём, что занимает острый ум Фёдора Ивановича, тут хочется из «первых рук»...
Новые встречи, разговоры, переписка с Аксаковым, с Анной. И все – о предметах общественных, политических, общегосударственных. Что-то оспаривает, к чему-то непримирим донельзя... А тут ещё повседневная деятельность собственного комитета цензуры иностранной, заботы служебные. И подчас такие, что не знаешь, куда от них деться. Надо проявлять все свои способности, собирать воедино волю, чтобы доказывать глупцам и откровенным подлецам, что цензура не должна быть петлёй на шее общества. Но все ли хотят это знать? Чуть допустил комитет послабление, рекомендовал для перевода стоящее зарубежное произведение – окрик, а то и хлыст.
А крючкотворство, чинимое над отечественной словесностью и журналистикой? Сколько раз ему приходится отводить беду и от аксаковских изданий, и от большой русской литературы. А случаям, когда выручает от гнева верхов собственных сотрудников – Полонского, Майкова, – несть числа!.. Только всякий раз надобно тратить время, изматывать нервы, чтобы не то что убедить, а только как-то умаслить, умиротворить какого-нибудь разгневанного болвана. И лишь близким приходится признаваться, когда сталкивался с людьми, которым было вверено дело печати: «Все они более или менее мерзавцы, и, глядя на них, просто тошно, но беда наша та, что тошнота наша никогда не доходит до рвоты».
А что, в самом деле, предпримешь? Были, были такие намерения – бросить им в лицо жалкое жалованье и уйти куда глаза глядят.
Однажды, без малого двадцать лет назад, так и писал Эрнестине Фёдоровне в Овстуг: «Намедни у меня были кое-какие неприятности в министерстве – всё из-за этой злосчастной цензуры. Конечно, ничего особенно важного, – и, однако же, если бы я не был так нищ, с каким наслаждением я тут же швырнул бы им в лицо содержание, которое они мне выплачивают, и открыто порвал бы с этим скопищем кретинов, которые наперекор всему и на развалинах мира, рухнувшего под тяжестью их глупости, осуждены жить и умереть в полнейшей безнаказанности своего кретинизма. Что за отродье, великий Боже, и вот за какие-то гроши приходится терпеть, чтобы тебя распекали и пробирали подобные типы!..»
Но что поделаешь, не он один – Пушкин, Некрасов в какую влезали кабалу и зависимость, чтобы как-то жить! А она, эта жизнь, требовала немалых расходов. Лишь одна снимаемая уже много лет квартира – на третьем этаже дома армянской церкви Святой Екатерины, на Невском, против Гостиного двора, – забирает значительную часть тютчевских доходов.
Жильё на Невском проспекте приглянулось почти с тех пор, как, решив вернуться в Россию с неудавшейся дипломатической службы, Фёдор Иванович с большою семьёй немало лет ютился в неуютных и грязных гостиницах, снимал случайные квартиры. Лишь летом 1854 года Тютчев наконец-то сообщил жене в Овстуг:
«Помнишь квартиру в доме армянской церкви, – третий этаж, немного высоко, окнами на Невский проспект, – ту, что мы с тобой смотрели в первый год нашего пребывания в Петербурге? Она тебе тогда очень понравилась, и ты несколько раз мне потом о ней говорила. Это четырнадцать прекрасных комнат с паркетными полами. Ну так вот, эта квартира будет свободна к половине сентября и с 1 октября её можно будет снять. Сам хозяин, старик Лазарев, давнишний друг нашей семьи, пришёл мне её предложить. Она сдаётся – с дровами, водой и освещением лестницы – за 1400 рублей серебром в год, да 100 рублей лишних за конюшню и сарай...»
Четырнадцать комнат... Не слишком ли? Может, никчёмная роскошь? Но давайте по-житейски. Когда нанималась эта квартира, в семье было восемь душ. Если каждому члену семьи по комнате, да самому Тютчеву рабочий кабинет, в остатке только пять. Однако среди этих пяти – гостиная, столовая, буфетная, иными словами, помещения семейного пользования. Да ведь и прислугу – повара, камердинера, гувернанток – надо где-то селить. А если взять в расчёт, что три старшие дочери совсем взрослые, как говорится, на выданье, семья могла бы враз увеличиться. Так что никаких излишеств, впору лишь разместиться.
Конечно, можно было бы снять что-либо подешевле, где-нибудь ближе к окраинам, не селиться в самом фешенебельном месте. Но на Невском – всё под рукой.
Да кроме чисто житейских удобств существовали ещё и негласные требования того круга, к которому принадлежал Фёдор Иванович. С 1864 года он уже тайный советник, иначе говоря, обладатель одного из самых высоких придворных званий. Вхож к сильным мира сего, обедает иногда у самой императрицы. Значит, положение обязывает. Потому жильё не где-нибудь на Лиговке, в затрапезных дворах или с окнами на грязный канал, а на главной улице, в самом центре столицы. Однако если приличествующую его положению квартиру, хоть и дорого, можно снять, служить вывеской самому себе, постоянно заботиться о том, как себя «подать» в высшем свете, куда для него сложнее.
«Низенький, худенький старичок, с длинными, отставшими от висков, поседелыми волосами, которые никогда не приглаживались, одетый небрежно, ни с одною пуговицей, застёгнутою как надо, вот он входит в ярко освещённую залу; музыка гремит, бал кружится в полном разгаре... старичок пробирается нетвёрдою поступью близ стены. Держа шляпу, которая сейчас, кажется, упадёт из его рук. Из угла прищуренными глазами окидывает всё собрание... Он ни на чём и ни на ком не остановился, как будто б не нашёл, на что бы нужно обратить внимание... к нему подходит кто-то и заводит разговор... он отвечает отрывисто, сквозь зубы... смотрит рассеянно по сторонам... кажется, ему уж стало скучно: не думает ли он уйти назад... Подошедший сообщает новость, только полученную; слово за слово, его что-то задело за живое, он оживляется, и потекла потоком речь увлекательная, блистательная, настоящая импровизация... вот он роняет, сам не примечая того, несколько выражений, запечатлённых особенною силой ума, несколько острот, едких, но благоприличных, которые тут же подслушиваются соседями, передаются шёпотом по всем гостиным, а завтра охотники спешат поднести их знакомым, как дорогой гостинец: Тютчев вот что сказал вчера на бале у княгини Н...»
Портрет этот набросан современником Погодиным, давним сотоварищем по Московскому университету. А скольким людям ещё доводилось видеть таким этого завсегдатая света, в котором причудливо сливались воедино аристократичность ума и вызывающее нежелание казаться светским!
Вот он пьёт на обеде у императрицы отвратительное кислое шампанское, высказывает восхитительные словесные перлы – блеск выдающегося ума. И не знает, куда подчас деть шляпу, и неловко – это он-то, аристократ, проживший два десятилетия в Европе! – засовывает её под стул.
В глазах степенного, постоянно себе на уме высшего света он нередко кажется воплощённым парадоксом. И мало кто в аристократических салонах задумывается всерьёз, что парадокс – вся окружающая жизнь. Надо не терять достоинства и надо льстить, вслух говорить комплименты, иногда даже подпустить источающий приторную патоку стишок, посвящённый той же императрице. И не из-за лести даже. Просто захочется подметить в ней что-то приятное, свойственное женщине. Потом он целыми днями терзается, уходит со званых ужинов и по продуваемым насквозь ветрами петербургским улицам, накинув на плечи клетчатую крылатку, бродит один до рассвета.
А назавтра, кляня себя, он снова в знакомых домах. Зачем, почему? «Жизнь, которую я здесь веду, – признавался он, – очень утомительна своею беспорядочностью. Её единственная цель – это избежать во что бы то ни стало в течение восемнадцати часов из двадцати четырёх всякой серьёзной встречи с самим собою...»
И теперь, осенью семьдесят первого года, ожидая жену и дочь, Фёдор Иванович чувствует себя посаженным в клетку: не ведает, куда себя бросить, чтобы только избежать одиночества. Но куда бы ни девался днём или вечером, к ночи больные ноги приводят его домой.
Бесконечная, изнуряющая последние силы лестница на третий этаж. Четырнадцать комнат с высоченными потолками с лепниной. Мебель, обитая французским штофом. Мягкие, толстые ковры, скрадывающие шаги. Камины, зеркала...
Скоро, теперь уже очень скоро эта квартира опустеет. Он и Эрнестина Фёдоровна ровно через год переедут на Надеждинскую, в дом Труша, а следом – в Царское Село, к домовладельцу Иванову.
Однако огромная и пустая квартира пока ещё готова встретить своих жильцов.
Дом сразу преображается, когда его порог переступает Мари: – Как давно я не была здесь! Кажется, прошла целая вечность. Ну, как там мои тетрадки с медицинскими лекциями, недоконченное вышивание и шитье? Сейчас возьмусь за всё, что не успела доделать...
Овстугскими новостями, рассказами о торжественном освящении училища, милыми забавными подробностями деревенского житья заполнены домашние вечера, встречи со знакомыми. Подумать только – открылась её школа!
Она так и восклицает: «Из моей школы», когда из Овстуга приходит большая посылка – письма учеников.
«Здравствуйте, Мария Фёдоровна! Сообщает вам Евдокия, сестра Ивана Артюхова. Я уже знаю буквы и могу писать».
А вот ещё письмо, ещё... Сколько же их тут? Десять, одиннадцать... Целых пятнадцать листков с ребячьими каракулями – словами привета и благодарности.
– Мама, Николенька, папа! Вы только взгляните на эти листки из моей школы. Никто ведь не поверит, что написали мальчики и девочки, которые всего два месяца назад сели за парты!.. Ах, мои милые грамотеи...
Послания из Овстуга Мари перевязала розовой ленточкой и уложила в шкатулку. Потом достала почтовую бумагу:
– Надобно тотчас об этих письмах сообщить нашему Ванюше в Смоленск. Пусть порадуется вместе со мною...
Ещё в 1855 году, когда после смерти Николая Первого цесаревич Александр стал императором, а его жена императрицей, фрейлине Анне Тютчевой было поручено воспитание царских детей.
Фёдор Иванович помнит, как серьёзно отнеслась к делу старшая дочь. Он с восхищением отмечал в ней и такт, и талант педагога. Мог ли он тогда вообразить, что его младшая, его Мари, станет вдруг таким истовым школьным деятелем!
Однако Анна окончила институт, а Мари пришлось самой добывать знания. Почему же в такой высокообразованной семье, где три дочери закончили специальные учебные заведения, образование четвёртой обошлось без официального обучения?
Припомним: огромные коридоры Смольного института благородных девиц, и то здесь, то там шепоток: «Отец наших бывших воспитанниц, Дарьи и Екатерины, Тютчев и – Денисьева! Ай, ай...» Нет, не могла Эрнестина Фёдоровна решиться отдать в этот институт свою единственную дочь... Выходит, он, отец, как бы невольно захлопнул перед Мари двери этого учебного заведения, в котором только и могли тогда получить достойное образование женщины аристократического круга...
Но теперь что ж пенять на давно уж случившееся, что ж вспоминать? Отцу остаётся лишь одно – благословить дочь и поддержать её намерения, к которым она пришла сама. Да, сама, наперекор стольким невзгодам.
«Пожалуй, Мари нашла себя. Но дай, Боже, в самую первую очередь ей здоровья. Как и наметили, теперь надо собираться за границу, ехать в горы...»
Однако отъезд откладывался. Возникали то одни, то другие неотложные дела.







