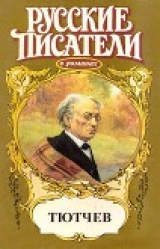
Текст книги "Страсть тайная. Тютчев"
Автор книги: Юрий Когинов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 30 (всего у книги 36 страниц)
32
Любимым словечком доктора медицины, профессора Николая Андреевича Белоголового было: «правила». Шла ли речь о методике лечения, организации работы в клинике или о режиме дня врача, он, пряча улыбку в мягкую, пушистую бороду, слегка нараспев, по-сибирски, произносил:
– На каждый случай в жизни должно существовать своё правило. Да-с, милостивые государи, – своеобразный закон нашего с вами поведения. И если такое правило отсутствует, начинается беспорядочность в работе и образе мыслей, нехватка упорства, выдержки, постепенности. Только следование строгим правилам позволяет достичь желаемых результатов.
Жизненное кредо самого Николая Андреевича отличалось предельной простотой: методичная, забирающая все дни и даже вечерние часы деятельность врача, принимавшего так же, как Боткин, всех имущих и неимущих, зато полностью летние месяцы – отдых.
С тех пор, как Николай Андреевич защитил докторскую диссертацию и по настоянию Боткина уже не вернулся в родной Иркутск, где по окончании университета занимал должность городового врача, а обосновался в Петербурге, он не мог провести и года, чтобы не оказаться в близости с природой. Место для каникул он облюбовал под Женевой, на берегу горной, с ледяной водой, речки Арве. Здесь высокий, сильный, красивый сибиряк купался часами напролёт, удил рыбу, а то, взвалив на плечи рюкзак, уходил на целые сутки в горы.
Швейцарская природа в летнюю пору, когда и в Иркутске случается несусветная жара, напоминала ему родную Сибирь. Чистый горный воздух, настоянный ароматом хвои, цветов и трав, давал заряд бодрости, которого хватало потом на всю то колкую от мороза, то мерзко оттепельную петербургскую зиму. И такой распорядок стал «правилом», которого Белоголовый придерживался уже около десяти лет, с двадцативосьмилетнего возраста. Был он пока не женат, и потому продолжительные путешествия в горах никому не могли стать обременительными.
Следуя заведённому порядку, и лето 1870 года Николай Андреевич провёл на любимой Арве. Теперь же, в конце августа, он ехал в Берлин, чтобы там встретиться с Боткиным и вместе с ним посетить знаменитого доктора Вирхова.
Судьба связала Белоголового и Боткина ещё с Московского университета. Оба оказались сыновьями купцов, и оба бредили наукой. Боткин помышлял о высшей математике, Белоголовый же о философии. Однако так вышло, что оказались они на медицинском факультете: в связи со студенческими волнениями приёма по другим специальностям в тот год не было. Кстати, из их набора только один абитуриент ещё с детства мечтал стать врачом. Но пролетело время. Боткина и Белоголового уже знала вся Россия, а тот, кто рвался к поприщу врача, стал акцизным чиновником.
В Петербурге однокашники шли в медицине рука об руку, хотя и по характеру, и по жизненным интересам были разными. Боткин, например, как утверждали некоторые, до сорока лет не взял в руки ни одной книги, не имеющей отношения к медицине, не прочёл ни одной газеты, кроме учреждённого им же «Врача». И это человек, в доме которого в Москве, на Маросейке, когда-то собирались такие светочи, как Герцен, Огарёв, Грановский и Белинский! Душой кружка, известного под именем «западники», был брат Сергея Петровича – Василий, самородок, личность, увлечённая передовой философией. В «Былом и думах» Герцен впоследствии вспомнит:
«Такого круга людей талантливых, развитых, многосторонних и чистых я не встречал потом нигде, ни на высших вершинах политического мира, ни на последних маковках литературного и аристократического».
Белоголовый, наоборот, был близко знаком с Некрасовым и Салтыковым-Щедриным. Кстати, он как врач оставался с ним и в самые их последние дни. Когда разразился скандал по поводу того, что родственники декабриста Поджио присвоили его имущество и не захотели возвращать вернувшемуся из ссылки, Николай Андреевич поехал в Лондон к Герцену и в его «Колоколе» напечатал разоблачительную статью. И позже, когда скончался сам Герцен, Белоголовый взялся собирать деньги на его памятник в Ницце, чтобы, как он выразился, в надгробии великому мыслителю были и родные русские камни.
Несомненно, на взгляды Николая Андреевича оказало решающее влияние то, что с детства он был знаком со ссыльными декабристами. Его первым домашним учителем был Александр Викторович Поджио – деликатный, рыцарского благородства человек, отличавшийся удивительным чувством справедливости даже среди таких людей, какими слыли герои четырнадцатого декабря.
В перронной толчее Белоголовый сразу разглядел своего однокашника и соратника. Тяжеловесный, широкий в плечах, Боткин на этот раз двигался так стремительно, что от него шарахались в стороны чинные местные бюргеры. В правой руке Сергей Петрович держал только что купленную газету. Различными ежедневными изданиями были набиты и карманы его дорожного пиджака.
– Ба! Сергей, что я вижу? – воскликнул Белоголовый, указывая на оттопыренные карманы.
– Узрел? – проворчал Боткин. – Так вот отвечу твоим словцом: мои новые правила. Разве можно теперь не интересоваться ежедневными сообщениями? Ты только взгляни, что творится!..
Развернув газету, Сергей Петрович стал вслух читать крикливые и броские заголовки, восхвалявшие германские победы.
– Слышишь, будто бьют в барабаны: «Вперёд, вперёд!..» Каково, а? Это значит, германская военщина прёт, без счета жертвуя людьми, их войска идут, как саранча. Первых уложили – за ними следующие... Скажи, Николай, разве это не сумасшествие?
Берлин был в угаре – по улицам гарцевали на лошадях уланы, с мостовых им слали воздушные поцелуи дамы в шляпках, возле столиков кафе кружились ликующие пары, а толстые бюргеры с заплывшими глазками поднимали в честь славного воинства фатерлянда огромные кружки пива.
– К Вирхову, немедля к нему! Там хоть займёмся целом и не будем видеть этого кошмара, – решили друзья.
Имя профессора Рудольфа Вирхова было известно во всей Европе. Это он, германский учёный и врач, провозгласил: «Медицина до нас была искусством. Теперь же она должна стать наукой». Он первым доказал, что живая клетка – краеугольный камень медицины: будет найдена больная клетка, можно вылечить весь организм. И сейчас Вирхов сказал новое слово в медицине – стал строить больницы с изолированными друг от друга корпусами, иначе бараками, с самым современным оборудованием.
Больница Вирхова располагалась в предместье Берлина – Моабите. Профессор, в на редкость приподнятом настроении, любезно встретил русских коллег, с которыми был уже ранее знаком, и провёл их по всем палатам.
Принудительная вентиляция в помещениях, водопровод и канализационная система, централизованное снабжение теплом вместо печей, топившихся в России дровами в каждой палате, – всё в лучших германских клиниках говорило о том, что подобные новшества необходимо решительно вводить и в русских больницах. И конечно же в первую очередь барачную систему расположения палат. Сортировку больных по степени сложности впервые применил Пирогов в полевых условиях. Но эту идею переняли немцы уже после Крымской войны для строительства своих лечебных учреждений. В результате – резкое снижение заразных заболеваний, чистота и порядок.
– Как всё элементарно просто! – восторгался Боткин, обходя чистые палаты. – У нас же годами больничные помещения сохраняют своё целомудрие. Чистятся лишь полы в проходах, а под койками – монбланы грязи. Нет, если уж белый халат на враче – всё должно быть в больницах бело и стерильно! Значит, нужны водопровод, паровые прачечные, дезокамеры... Да, Николай, всё это у нас будет...
Боткин немало преуспел в перестройке отечественного здравоохранения. Это он впервые объединил в специальный совет при Петербургской городской думе всех главных врачей и вменил членам этого совета лечить больных на дому по строго определённой таксе: днём за вызов тридцать, ночью – пятьдесят копеек. Ввёл он и санитарную службу в городе. Владельцы фабрик и сдававшихся внаём домов обязаны были отчитываться перед думскими врачами, если на принадлежащих им территориях замечались свалки нечистот, грозившие вызвать инфекцию. Теперь же речь шла о строительстве новых больниц, устроенных по образцу вирховских, с которыми Боткин и Белоголовый знакомились сейчас в Берлине.
Но может ли так произойти: посмотрели сами, рассказали об увиденном дома – и больницы с чистыми и хорошо оборудованными палатами появятся там и сям? Такого не бывает, особенно в России. Надо не просто рассказать, а показать, иначе – первому явить живой пример.
Знает Сергей Петрович: самое доброе и полезное можно утопить в потоке пустословия. Да вот хотя бы такое важное начинание.
Года три назад по призыву Женевы во многих странах стали создаваться общества Красного Креста – на случай возникновения новой войны. Россия, помнящая «ступу» Севастополя и подвиг своих медицинских сестёр, откликнулась сразу: начали поступать пожертвования. В губернских и даже уездных городах стали создаваться местные комитеты попечения о раненых и больных воинах. Росли они молниеносно: если в мае 1867 года в них насчитывалось только две сотни членов, то к концу года – более двух с половиной тысяч, а в следующем году – восемь тысяч! Привлекали цели общества, записанные в его уставе: «Общество через свои управления принимает ещё в мирное время все дозволенные законом меры к увеличению денежных и материальных средств своих; заботится о подготовлении санитарного личного состава и образовании сестёр и братьев милосердия, устраивает свои лазаретные помещения для пользования раненых и больных». Однако шло время, а «подготовление санитарного личного состава и образование сестёр и братьев милосердия», не говоря уже об устройстве лазаретных помещений, оставалось благим пожеланием.
Так вот – явить живой пример. Создать по пироговскому завету общину медицинских сестёр и при ней – новую же, первоклассного типа больницу! О ком из первых своих сподвижников вспомнил Сергей Петрович – о Карцевой и давнем друге Белоголовом. И первая будущая медицинская сестра – Мария Фёдоровна Бирилёва – сама с горячим желанием предложила своё участие. И вот каменщики в Петербурге, на Большой Гребецкой, уже переделывают помещение под новую больницу. Ну что ж, домой, Николай?
Ах да! Коллега Вирхов приглашает к себе, так сказать, «на посошок».
Вирхов разлил в три маленькие рюмочки величиной с напёрстки коньяк и поднял свою к свету, любуясь солнечной игрой напитка.
– Настоящий французский! – произнёс он, – Доставлен в качестве трофея с полей войны.
– Так за скорейший мир! – взял со столика свою рюмку Белоголовый.
– За быстрейшее окончание этой мерзостной войны, – присоединился к тосту Боткин.
Уже успевший пригубить коньяк, Вирхов неожиданно поставил рюмку.
– О нет, майне геррен! Война – до победного конца! Надо как следует проучить эту зазнавшуюся нацию французов...
По дороге на вокзал Боткина трясло, как от озноба:
– Что же сделал Бисмарк со своим народом, если даже Вирхов, гениальный учёный, ведёт себя, как надутый индюк? Ведь он врач! Как же он смеет так говорить, будто ему нет дела, что гибнут солдаты и целые семьи, гниют на полях неубранные массы трупов, подготовляя угощение после войны всем в виде различного рода эпидемий?
– Дело дрянь, – согласился Белоголовый, – Если ошалел даже Рудольф Вирхов, значит, свихнулась вся Германия.
Боткин, сидя в экипаже, грузно обернулся всем корпусом к Белоголовому:
– Попомни, друг мой Николай: Германия ещё сумеет наделать немало пакостей и, чего доброго, России – своей соседке... Об этом недавно в Карлсбаде мне сказал Тютчев, и я согласен с ним. – И как бы уже перенесясь мыслями домой, вроде бы без видимой связи, но с такой же убеждённостью: – Почему у нас на Руси не дают ходу тем, кто готов нести людям добро? Таких, как твой учитель Поджио, – на долгие годы в Сибирь. Студентов – в солдаты. Перед женщинами – на засов двери университетов... Эх, Русь, Русь, когда же ты пробудишься от дикости, станешь вполне европейской? Только не той Европой, что здесь, на этих улицах, грозит новыми потоками крови, а Европой, дарующей свет, творящей добро...
Белоголовый отозвался, улыбаясь:
– Признаться, ты меня тут, в Германии, удивил.
– Чем? Своими новыми правилами – начал читать газеты? – спросил Боткин.
– И газетами, и тем, что сейчас так горячо говорил. Вроде за тобою в молодости такого не замечалось.
Боткин не удержался от смеха:
– Сейчас скажешь, что и книг, кроме медицинских, в руках не держал? – И став серьёзным: – Верно, была пора, когда казалось: потеряю время, не успею узнать всего, что надо хорошему врачу.
33
Дневниковые записи Марии Фёдоровны начиная с декабря 1870 года предельно кратко говорят о деятельности новой общины сестёр милосердия и о её участии в ней: «Открытие общины», «Заседание комитета попечения о раненых», «Была дежурной», «Николенька ездил в общину». Также односложны упоминания о визитах в тютчевскую квартиру Боткина, Белоголового, Карцевой.
Новая община, именуемая Георгиевской, полностью называлась общиной имени Святого Георгия. Вспомним первоначальное название общества Красного Креста в России – Общество попечения о раненых и больных воинах. Значит, общество покровительства, помощи, а покровителем русского воинства издавна считался святой Георгий. В очерках истории медицинских учреждений Петербурга, в разделе, где перечисляются больницы и амбулатории Красного Креста, указан адрес Георгиевской общины и дано описание того, чем она располагала. Община находилась на Большой Гребецкой улице, на Петербургской стороне, и имела больницу на десять коек, амбулаторию и помещение для шести сестёр. В последующие годы адрес общины и больницы менялся не раз, масштабы их росли, но тогда, в 1870 году, всё начиналось так...
Исследования о Тютчеве содержат лишь одно упоминание о Георгиевской общине – комментарий к четверостишию поэта на французском языке. Стихи написаны в связи с решением Марии Фёдоровны стать сестрой милосердия в Георгиевской общине. И далее – ссылка на запись в дневнике Марии Фёдоровны, о которой я уже упомянул.
Четверостишие выражает отношение Тютчева к решению Мари:
Ах, какое недоразумение
Глубокое и непостижимое!
Моя розовая, моя белокурая дочка
Хочет стать серой сестрой.
На первом месте – каламбур в игре слов. По-французски сестра милосердия буквально: серая сестра.
Сёстры Георгиевской общины, в отличие от своих предшественниц, крестовоздвиженок, носили не коричневую, а серого цвета форму. Можно представить, как Фёдор Иванович однажды увидел свою дочь в непривычном платье, и тут же его острая способность вывести мысль из яркого зрительного или чувственного впечатления удачно обыграла режущий глаз диссонанс в цветовой гамме: нежное, розовое лицо Мари и – нате! – строгое серое одеяние. Ясно, что недоразумение. Но – заметьте – недоразумение глубокое и непостижимое. Вслед за игрой слов как бы вопрос самому себе: что это – серьёзно?
Представляю себе не раз и до этого дня возникавшие в доме разговоры Марии Фёдоровны и Николая Алексеевича об общине, о комитете попечения о раненых, их встречи с Боткиным и всё иное, что предшествовало моменту, когда Мари станет медицинской сестрой. Фёдор Иванович, погруженный в свои дела, наверное, улавливал суть разговоров, но вряд ли вникал в них глубоко. Нужен был именно какой-то зримый, эмоциональный толчок, чтобы переключить всё его внимание от собственных забот к заботам дочери. И вот «недоразумение – глубокое и непостижимое!».
Мы уже знаем о твёрдом упорстве Марии Фёдоровны накануне свадьбы. Вероятно, тогда Тютчев впервые составил себе ясное представление о её натуре. В последующем – и мы это тоже увидим – отец не раз будет подчёркивать эту черту характера своей дочери. И будет считать это качество серьёзным препятствием для того, чтобы повлиять на Мари в том смысле, в каком он сам будет убеждён. Вот почему, явно не одобряя решение дочери стать сестрой милосердия, вернее, первоначально не понимая даже мотивов её поведения, Тютчев находит возможным прибегнуть к единственному для него способу высказать своё отношение к случившемуся – иронии.
Из всех детей Тютчева Анна и Мари, вероятно, наиболее полно унаследовали те качества своего отца, которые лучше и точнее всего можно назвать душевной и психической организацией. Речь идёт об остроте ума, умении проникать в глубину жизненных явлений, наконец, о доходящей порой до беспощадности к себе высокой совестливости. Однако качества эти проявлялись у старшей и младшей дочерей в различных комбинациях. Существо этого различия, на мой взгляд, можно представить себе так. Обе с ходу, тут же составляли точное суждение о явлении, но Мари начинала действовать в соответствии с возникшими убеждениями, Анна уничтожающе точно продолжала это явление анализировать. В общении с Анной Тютчев испытывал двойное удовлетворение: ощущение полного духовного родства и чувство уверенного покоя. За Мари он боялся, как боялся за самого себя, – она могла поступить и поступала так, как считала нужным, начисто отвергая все кем-то уже принятые и сложившиеся условия.
Вслед за вступлением Мари в Георгиевскую общину, которое в конце концов можно было понять как заботу о лечении мужа, другое её решение, которое последовало за первым, заставило отца ещё серьёзнее обеспокоиться. Мари вдруг объявила о желании открыть на свой счёт и содержать в Овстуге школу для крестьянских детей. И не обычную, приходскую, а образцовое двухклассное училище с пятигодичным сроком обучения.
Из документов Брянского областного архива картина рисуется так. Десятого февраля 1871 года волостной сход крестьян Овстуга и окрестных деревень принял решение открыть свою школу. Для содержания её постановили собирать ежегодно с каждой души по двадцать копеек, а всего с 1223 душ – 244 рубля и 60 копеек. Земская управа, осмотрев здание, в котором овстужане намеревались устроить школу, дала заключение, что только на ремонт дома потребуется около тысячи рублей серебром.
Наверное, Мария Фёдоровна узнала об овстугских хлопотах из телеграммы, которую могла получить от управляющего имением, потому что уже 14 февраля она сообщает в письме брату Ивану в Смоленск:
«Я поручила Мамаеву на мой счёт устроить сельскую школу в Овстуге, то есть отделать бывший дом Василия Кузьмича и подготовить всё к нашему приезду. Я хочу устроить это в память Николая Ивановича и насколько возможно обеспечить существование школы. Учителя мне уже обещал Делянов от ведомства министерства народного просвещения, и я убеждена, что стоит только начать – через несколько лет крестьяне сами не захотят оставаться без школы».
Здесь надо кое-что пояснить. В декабре 1870 года умер брат Фёдора Ивановича – холостяк Николай Иванович. Конечно, первой мыслью явилось желание связать доброе дело, которое предприняла Мария Фёдоровна, с памятью дяди, любимого всеми в семье.
Н. А. Мамаев, отставной штабс-капитан, сменил на посту управляющего имением Василия Кузьмича Стрелкова, который долгие годы был хранителем имения. Деревянный дом его требовал основательного ремонта и перестройки. В документе, хранящемся в Брянском архиве, по этому поводу сказано:
«Дочь Тютчева, жена флигель-адъютанта, капитана I ранга Мария Фёдоровна Бирилёва, желая способствовать распространению грамотности, принимает на себя единовременные издержки на перестройку дома под училище, со всеми строительными материалами, а также на снабжение школы училищными принадлежностями».
Но это – только единовременные издержки. Мария Фёдоровна берётся стать попечительницей училища, а значит, обязуется из года в год содержать его, постоянно обеспечивать школьными принадлежностями, дровами и освещением, оплачивать содержание персонала... Тут уже речь не об одной тысяче!
Из дневниковых записей мы знаем, что Мария Фёдоровна получала из Овстуга, с сахарного завода, денежные переводы.
В год выходило всего пять-шесть сотен рублей. Ясно, что, прежде чем решиться открыть школу, надо было обсудить вопрос с мужем: откуда взять деньги? И не только большую сумму, которую следует выложить сразу, но и то, что необходимо ссужать ежегодно.
Жалованье Бирилёва, даже когда в конце 1871 года он получил звание контр-адмирала, составляло, как явствует из его послужного списка, 4122 рубля в год, иначе – примерно по 340 рублей с небольшим в месяц. Можно неплохо жить, но не шиковать. Любознательных могу отослать, например, к стоимости в то время тарелки стерляжьей ухи – 3 рубля. Коротко говоря, речь шла о том, чтобы из семейного бюджета, который не просто уходил на жизнь, но на беспрерывное лечение Бирилёва, поездки, выделить изрядное содержание на школу. Такое не решишь в течение одного-двух дней.
А договориться об учителе с товарищем министра просвещения И. Д. Деляновым? Это ж не просто направить кого-то в забытый Богом Овстуг – и никаких после этого забот. Надо было изыскать ему жалованье из государственной казны, как бы мы сегодня сказали, отыскать свободную штатную единицу. Тут на составление одних прошений да хождений по инстанциям уйдёт уйма времени!
Естественнее думать: мысль о школе у Марии Фёдоровны возникла не под влиянием решения схода, а намного ранее. Более того, и сход-то, видимо, был проведён по её совету. Зачем же Мамаеву тогда сообщать ей об этом телеграфическим порядком и самой в письме брату писать: «Я поручила Мамаеву» и «стоит только начать»... И туг же о том, что может знать человек, лишь сам не раз готовивший себя к этому решению: в каком доме школу разместить и как всё в нём подготовить. Мысль мою подтверждают и записи в дневнике: январь 1870 года – постоянная переписка с Мамаевым. Да, всё, связанное с открытием не просто начальной школы, а образцового, как сказано в архивных бумагах, училища, Мария Фёдоровна должна была заранее обсудить, взвесить и продумать до мелочей.
Я так подробно останавливаюсь на характере хлопот, которые приняла на себя Мария Фёдоровна, на отношении к ним её отца потому, что в это время её саму постигает несчастье – внезапно обнаруживается чахотка.







