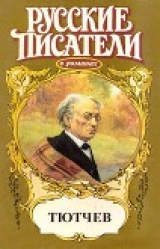
Текст книги "Страсть тайная. Тютчев"
Автор книги: Юрий Когинов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 36 страниц)
Эрнестина промолчала, затем обратилась к Анне:
– Доченька, пусть с тобою в таком случае поедет наш управляющий. На Василия Кузьмича можно положиться. Я уверена, что с тобою, любовь моя, ничего худого в дороге не случится. И во дворце ты будешь принята со всем уважением, которого ты заслуживаешь.
33
Вряд ли какому другому народу, кроме русского, свойственно такое святое обожание тех, кто обижен, а пуще всего – несправедливо пострадал от власти.
На что уж поначалу враждебно отнеслось дворянство к декабристам, что грозились лишить сей класс вековых привилегий, а вот достаточно было их сурово наказать, как во многих российских углах стал возникать шепоток сочувствия.
А припомните легенды и сказы. Кто их герой, кто мил народному сердцу? Соловьи-разбойники да Кудеяры с большой дороги, которых власть истребляла, а они супротив неё поднимались, чтобы ей мстить якобы за всенародные притеснения.
В самом конце 1853 года в Петербург возвратился литератор Тургенев. По личному повелению императора он был сослан в своё родовое имение Спасское-Лутовиново с запрещением выезжать оттуда куда бы то ни было, а тем более появляться в столицах. А всё потому, что Тургенев, уже к тому времени довольно широко известный своими «Записками охотника», напечатал в «Московских ведомостях» статью памяти Гоголя, в которой дерзнул назвать великим этого писателя.
Кто он, в самом деле, сей автор «Ревизора» и «Мёртвых душ» – выдающийся государственный деятель или прославленный в битвах генерал? Да и то любому из них сии определения – лишь с высочайшего на то разрешения. А тут – один щелкопёр о другом... И загремел то ли на самом деле очень смелый, то ли попросту наивный человек, скажите спасибо, не в Сибирь, а, так сказать, под домашний арест.
Но вскоре по тому же монаршему повелению – отбой. И чуть ли не во всех салонах столицы – широко раскрытые объятья тому, кого всего около двух лет назад высылали чуть ли не с клеймом государственного преступника.
Да что салоны! В самом Зимнем дворце стал нарасхват журнал «Современник» с новым рассказом недавно запрещённого автора. А её императорское высочество цесаревна Мария Александровна, та и вовсе обратилась к своей новой фрейлине Анне Тютчевой с просьбой достать ей «Записки охотника».
– Ваш отец, да, кажется, и вы сами в коротких отношениях с писателем, – сказала будущая императрица и при этом заметно смутилась.
А к тому, скажем прямо, были причины. В последнее время тридцатипятилетнего, недавно бывшего в опале писателя Тургенева всё чаще стали видеть вдвоём с Тютчевым.
«Теперь всё понятно, – сразу решили в свете. – У Фёдора Ивановича три дочери на выданье, а Иван Тургенев холост».
Но мало того, иные смело стали уверять, что и выбор уже сделан. Будущей женою известного жениха стали называть старшую из сестёр, Анну.
«Её колючий характер как нельзя лучше будет сочетаться с благодушием мужа. Так что сие обоим предназначено судьбой», – не оставляли никаких сомнений в якобы уже решённом деле многие любители до всего необычного.
– Не скрою, ваше высочество, наше семейство на самом деле близко знакомо с Иваном Сергеевичем, – был ответ Анны. – И раньше других Тургенев познакомился именно со мною и двумя моими сёстрами. Он как своеобразный крестный отец, коему мы все трое обязаны, можно сказать, своей жизнью.
– Ах вот как! – воскликнула цесаревна. – Тогда это тем более романтическая история. Так не томите же меня, милая Анна, расскажите скорее о том, как господин Тургенев оказался вашим спасителем. Я страсть как люблю подобные истории.
– История, прошу прощения вашего высочества, далеко не романтическая. Скорее драматическая и даже трагическая, – сказала Анна. – Это пожар на море в тридцать восьмом году. Тогда на горящем пароходе «Николай Первый» мы, трое малолетних сестёр, и наша мама оказались в сущем аду. Мне было всего девять лет, сёстрам – намного меньше. Как мы оказались на берегу, трудно припомнить во всех деталях. Только мы все – босые, полуодетые, замерзшие – вдруг получили помощь от одного молодого человека, который сам был не в лучшем положении, но нам помог. И этим юношей, представьте, был господин Тургенев.
Много позже, незадолго до своей смерти, в 1883 году, во Франции, в Буживале, Тургенев вспомнит сей случай и с определённой долей юмора по отношению к себе и другим, попавшим тогда в беду, напишет в рассказе «Пожар на море»: «В числе дам, спасшихся от крушения, была одна г-жа Т... очень хорошенькая и милая, но связанная своими... дочками и их нянюшками; поэтому она и оставалась покинутой на берегу, босая, с едва прикрытыми плечами. Я почёл нужным разыграть любезного кавалера, что стоило мне моего сюртука, который я до тех пор сохранил, галстука и даже сапог; кроме того, крестьянин с тележкой, запряжённой парой лошадей, за которым я сбегал на верх утёсов и которого послал вперёд, не нашёл нужным дождаться меня и уехал в Любек со всеми моими спутницами, так что я остался один, полураздетый, промокший до костей, в виду моря, где наш пароход медленно догорал».
Нет, тогда в самом деле было не до юмора. Тургенев не скрыл в своём рассказе всего ужаса, который выпал на долю несчастных пассажиров.
В ту пору ему самому было всего двадцать лет. И он в первый раз один отправился в дальнее путешествие – ехал в Берлин, чтобы поступить там в университет.
Как всякий молодой барчук, оказавшийся вдали от семейного присмотра, он предался на корабле занятию запретному, но потому и вожделенному, – сел за карточный стол. И вдруг посреди игры, когда счастье, казалось, стало улыбаться новичку, он услышал отчаянные крики: «Пожар!»
«Во мгновение ока все были на палубе. Два широких столба дыма пополам с огнём поднимались по обеим сторонам трубы и вдоль мачт; началась ужаснейшая суматоха, которая уже и не прекращалась. Беспорядок был невообразимый: чувствовалось, что отчаянное чувство самосохранения охватило все эти человеческие существа, и в том числе меня первого. Я помню, что схватил за руку матроса и обещал ему десять тысяч рублей от имени матушки, если ему удастся спасти меня».
История, вопреки ожиданиям цесаревны, действительно оказалась трагичной. Но её более всего, вероятно, расстроило то, что в ней не нашлось места сильной любовной страсти. Ни тогда, на горевшем пароходе, ни теперь.
– Так, выходит, все разговоры о влюблённости господина Тургенева – сущий вздор? – вырвалось у цесаревны.
– Не совсем так, ваше высочество. Господин Тургенев положительно влюблён. Однако не в дочерей, а в их отца, – вполне серьёзно произнесла молодая фрейлина. – Мой папа и Иван Сергеевич – лучшие друзья. Встретившись, они проводят целые вечера один на один. Они так соответствуют друг другу – оба остроумны, добродушны и одновременно, прошу меня извинить, вялы и неряшливы.
«У моей новой фрейлины действительно колючий характер. Недаром ей здесь, во дворце, дали кличку «Ёрш». Но мне нравится, что она умна, смела и правдива», – отметила про себя цесаревна и вслух произнесла:
– Вашего отца и господина Тургенева, несомненно, сближают в первую очередь литературные интересы. Недавно Алёша – я имею в виду графа Алексея Толстого – передал мне книжку «Современника» со стихами некоего «господина эФ Тэ». Алёша не сомневается, что это Фёдор Тютчев – ваш отец. Не так ли?
– Граф Алексей Константинович прав – это стихи моего папа, – подтвердила Анна.
– Так вот передайте вашему отцу, что его пиесы произвели на меня весьма отрадное впечатление. Но почему он так мало написал, как утверждает в журнале его редактор, кажется, господин Некрасов? Меж тем я с ним вполне согласна: вашего отца с полным правом следует отнести к русским первостепенным поэтическим талантам.
34
Кому из авторов не лестно услышать сочувственное мнение о собственных творениях? А коли оценка исходит от такого же художника, как и он сам, мнение сие приятно вдвойне.
И дело тут не в удовлетворении пустого тщеславия, не в ожидании непременной похвалы. Потребность эта в первую очередь связана с естественным желанием услышать от людей, для которых автор и создавал своё произведение: а вышло ли из его затеи что-либо путное?
Иначе говоря, так ли в унисон забилось сердце читателя, как билось оно у творца, когда он держал в руках перо и весь горел чистыми помыслами и стремлением поведать другим о том, что переполняло всё его существо.
Потому чуть ли не в первый же день, в который они сошлись, Фёдор Иванович не удержался, чтобы не сказать, как восхитили его тургеневские рассказы.
– Знаете, любезный Иван Сергеевич, что поразило меня, когда я на одном дыхании прочитал все два тома «Записок охотника»? – Тютчев снизу вверх глянул на своего нового приятеля, который был намного выше его ростом. – Ну, полнота жизни и мощь вашего таланта – сие, безусловно, в первую очередь. Однако об этом, наверное, вам уже многие говорили, и говорили, несомненно, по справедливости. Но вот что редко встречаешь в такой мере и в таком полном равновесии – это сочетание двух начал: чувства художественности и чувства глубокой человечности! У вас же это выходит так естественно и так великолепно, как и должно выходить у каждого истинного художника.
– Спасибо вам, милейший Фёдор Иванович. – Голос у этого человека почти, скажем, гигантского роста, с крупною головою и пышной гривою волос сверх всяких ожиданий был не то чтобы совсем не громовым, а, напротив, тонким и тихим. – Спасибо за лестные слова. Только об истинном художестве – не слишком ли?
– Вот вы и смутились, эдакий, право, ребёнок, а не великан, – усмехнулся Тютчев. – А я вам ещё не всё высказал о ваших рассказах. Есть в них, кроме всего прочего, одно свойство, которое мне близко и, признаюсь, очень уж благотворно действует на меня. Это опять удивительное сочетание реальности в изображении человеческой жизни и природы со всей её поэзией. Проще сказать – ваше понимание природы я, ваш читатель, ощущаю как откровение. Словно природа для вас, художника, такая же живая, как и наша, людская, жизнь.
– А вот теперь, милейший Фёдор Иванович, вы от меня не уйдёте! – Голос Тургенева взвился до чистого фальцета. – Позвольте уж на сей раз мне о вас сказать. Да-да, и не делайте скорбного лица. Слова, которые вы только что произнесли о единстве понимания человеческой жизни и жизни природы – эти слова мог произнести только истинный поэт. А вы – поэт, каких у нас мало.
Любой человек со стороны, если бы довелось ему стать свидетелем беседы этих двух людей, немало бы удивился внезапной перемене, произошедшей с одним из них. А именно – с Тютчевым.
Ещё минуту назад Фёдор Иванович от всего сердца отзывался о рассказах своего собеседника, говорил о превосходных сторонах его таланта, которые оказались наиболее созвучны струнам его собственной поэтической души. И вдруг, как от внезапной зубной боли, скривился, смолк, когда разговор лишь коснулся его собственных произведений.
– Ну вот, Иван Сергеевич, как вы, право, безжалостно разрушили то, что вы сами же и создали своим творчеством в моих чувствах! – с нескрываемым неудовольствием произнёс Тютчев. – Я вам – о подлинных творениях вашего изумительного дарования, вы же мне – о каких-то стихах-подкидышах...
В первое мгновение Тургенев остолбенел, а затем азартно рассыпал тонкую и звонкую трель смешка.
– Ах вот оно что! Вы о тех стихах, что Некрасов взял из «Современника» Пушкина и вновь повторил теперь уже в «Современнике» своём?
Лицо Фёдора Ивановича снова неприятно сморщилось.
– Да нет, я ничего не имею против господина нового редактора «Современника». – По своему обыкновению, Тютчев отмахнулся рукою. – Однако неужели у него нет иных забот, кроме эксгумации давно погребённого в толще затхлых и пропылённых журнальных страниц? Да к тому же говорить обо мне как бы в поминальном духе: «Жаль, что эФ Тэ написал очень немного», а то мы, дескать, «нисколько не задумались бы поставить его рядом с Лермонтовым». Право, стоило вытаскивать из могилы никому не известного автора, чтобы сию сомнительную тень ставить рядом с тем, кого мы с заслуженным правом давно уже называем наследником самого Пушкина?
– И это говорите вы... вы, один из самых замечательных наших поэтов, как бы завещанных нам приветом и одобрением великого Пушкина? – Голос Тургенева вновь взвился, – Да вы не знаете себе цены, милейший Тютчев! Вот вы мне только что сказали о якобы главном свойстве моего дарования – умении выразить одинаково верно душу человека и душу природы. Но это свойство в первую очередь относится именно к вам, поэту подлинному, самому серьёзному и самому искреннему! Чувство природы в ваших стихах необыкновенно тонко, живо и верно. И это не сочинительство, свойственное, увы, некоторым авторам. Сравнения человеческого мира с родственным ему миром природы никогда у вас не бывают натянуты и холодны. Не риторика, не сочинительство характерны для лучших ваших пиес, а неподдельность вдохновения и счастливая смелость мысли и – почти пушкинская красота оборотов.
Тургенева теперь нельзя было остановить. Да Фёдор Иванович и не старался это сделать. Он, напротив, всем своим видом как бы выражал явную отрешённость по отношению к предмету разговора. Просто иногда прислушивался к тому, что говорил Тургенев, но воспринимал сии слова как не относящиеся к себе лично. Они ему казались интересными сами по себе, по своей неожиданной форме, но к нему якобы не имеющими совершенно никакого касательства.
– Вы согласны со мною, – продолжал между тем свои мысли вслух автор «Записок охотника», – что из отрубленного, высохшего куска дерева можно выточить какую угодно фигурку? Так ведь? Однако никогда не вырасти на том суку свежему побегу, не раскрыться на нём пахучему листку, как ни согревай его весеннее солнце. Горе поэту, который захочет сделать из своего живого дарования мёртвую игрушку. У вас же почти каждое стихотворение как огненная точка: начинаясь мыслию, оно вспыхивает глубоким чувством, взятым из мира души или природы, проникается им и проникает тем самым в наше, читательское ощущение. Как же такой талант можно прятать от других, числить всё, созданное вами, простите меня великодушно, по кладбищенскому реестру? А господин Некрасов сделал обратное. Он, как бы продолжая пушкинский завет, ввёл снова ваши стихи в живой оборот.
– Ах, как, право, бывают любезны люди, обладающие избытком христианской любви! – не скрывая сарказма, заметил Тютчев. – Следом за публикацией господина Некрасова о моей персоне ко мне обратился мой зять, Николай Васильевич Сушков, с предложением собрать по различным изданиям мои вирши-сироты и издать их в виде книжки. Я сердечно умилился сей поистине неутомимой, неистощимой и всеобъемлющей попечительности. Только... Нет-нет, я благоговею и молчу. Однако и вы, милейший Иван Сергеевич, исполнены тем же христианским милосердием к тому, что я давеча окрестил явно не понравившимся словом «подкидыши»?
Статья Некрасова, называвшаяся «Русские второстепенные поэты», о которой теперь шла речь и которую упомянула в разговоре со своею фрейлиною великая княгиня цесаревна Мария Александровна, появилась в первом номере журнала «Современник» за 1850 год.
Приняв как бы от Пушкина затеянное им издание, Некрасов взял на себя и главную заботу великого поэта: пробудить в обществе любовь к отечественным стихам. Как и во времена Пушкина, очень уж назойливо переходило из одного салона в другой убеждение о том, что поэзия умерла, стихи выродились и выродились-де сами поэты.
А так ли? И на примере только одного, мало кому известного, казалось, давно уж забытого, своего рода второстепенного поэта редактор журнала, некогда основанного гением русской поэзии, решил доказать: нет, господа, поэзия жива и над нею не властно даже время.
Для доказательства собственной мысли Некрасов взял из двух журнальных книг, выпущенных Пушкиным, стихи некоего «Ф. Т – ва» и на их обзоре построил свою статью. И, как бы исправляя название собственной статьи, он отнёс, казалось, давно забытого, так скудно в своё время печатавшегося поэта «к русским первостепенным поэтическим талантам».
Ни сам Некрасов, ни Тургенев, бывший в ту пору одним из сотрудников «Современника», не имели ни малейшего понятия, кто сей действительно первостатейный поэт, некогда открытый Пушкиным.
Должно быть, только перед самой ссылкой автора «Записок охотника» в его родовое имение они могли познакомиться, но не успели близко сойтись.
По приезде в Петербург Тютчев вместе с женою оказался однажды на чтении тургеневской пьесы «Нахлебник». Самого автора, правда, не было. Пьесу читал выдающийся актёр Михаил Щепкин. Однако Эрнестина, ещё плохо знавшая тогда русский, чтобы насладиться достоинствами драмы, тем не менее разобрала фамилию писателя. И вздрогнула: не родственник ли того Александра Тургенева, кто некогда в Мюнхене домогался её взаимности? Оказалось, однофамилец.
Меж тем некоторое время спустя, научившись по-русски, Эрнестина сумела прочитать «Записки охотника» в оригинале и выразила восхищение мужу по поводу прочитанного. Она жила тогда в Овстуге, и Тютчев, получив её письмо, поспешил пригласить Тургенева в свои овстугские края, расположенные невдалеке от Спасского. Может быть, Тургенев и заехал бы к соседям. Но в соседях тогда оказывались одни женщины – мама с дочерью и падчерицами, и, вероятнее всего, свой визит Иван Сергеевич счёл неудобным.
Это уж потом, сойдясь с Тютчевым после своей ссылки, Тургенев вспомнил и пожар на море, и своё в тех адовых обстоятельствах знакомство с первою тютчевскою женою и её дочерьми.
Но главное – теперь пришло время заняться всерьёз поэтическим наследием Тютчева, о чём, вероятнее всего, Тургенев не мог не подумать сразу же после возобновившегося знакомства с Фёдором Ивановичем.
«Прожить до пятидесяти лет, создать к этому времени подлинные поэтические перлы, достойные любого великого поэта, и тем не менее оставаться в забвении. Это ли не насмешка судьбы! – такое убеждение не мог не вынести Тургенев после разговора с Тютчевым. – Что же надобно сделать, дабы развеять предубеждённость Фёдора Ивановича против его же собственных стихов?»
– Милый мой Некрасов! – вошёл Тургенев в кабинет редактора. – Представь себе, с кем из твоих крестников я недавно весьма близко сошёлся?
И он рассказал о том, кто долгое время скрывался ото всех, в том числе и от редактора журнала, за таинственными инициалами.
Меж тем и до самого Некрасова не могло уже тогда не дойти, кто подлинный автор прекрасных стихов.
– Что ж, Тургенев, приходи вместе с Тютчевым ко мне – я жду с нетерпением его новых произведений. То-то, мой друг, обрадуем читающую публику.
Тургенев задумался, потом произнёс:
– Ты знаешь, я до сих пор не пойму тон его разговора со мною. То ли в нём говорит обида, то ли сие проявление подлинной деликатности души? Да нет, о какой обиде речь, коли он сам с упорством, требующим иного приложения, всячески препятствует публикаторству его же собственных стихов. Тут именно поразительная щепетильность и требовательность к тому, что мы называем творчеством. Но поверь мне, Николай: господин Тютчев с полным правом может сказать себе, что он создал речи, которым не суждено умереть! А для истинного художника выше подобного сознания награды нет.
Казалось, Некрасов рассеянно слушал, поскольку сидел, пощипывая бородку, затем живо встал и изрёк:
– Вот что я предлагаю: выпустить его сборник.
– О том же и моя мысль! – воскликнул Тургенев. – Но как это практически осуществить? Он ни в какую на это сам не пойдёт. Хоть на аркане тащи – упрётся.
– Упрётся, говоришь? А всё ж ты с ним ещё раз поговори. Вот что мне пришло на ум...
В феврале 1854 года читатели некрасовского журнала получили такое извещение: «Несколько лет тому назад редакция «Современника» имела случай заметить, что автор стихотворений, которые помещал Пушкин в своём «Современнике» под названием «Стихотворения, присланные из Германии», принадлежит несомненно к замечательнейшим русским поэтам, и изъявляла сожаление, что произведения его не собраны и не изданы в одной книге и оттого не пользуются известностью, которой вполне заслуживают. Теперь нам приятно уведомить читателей, что автор (Фёдор Иванович Тютчев) представил нам право напечатать все его стихотворения, как прежде напечатанные, так и новые, что мы и исполним в следующей книжке «Современника». Всех стихотворений г. Тютчева с лишком девяносто, из которых более половины появятся в первый раз в печати. Мы поместим их в начале III книжки «Современника» с отдельной нумерацией, заглавным листом и оглавлением, чтобы желающие могли переплести стихотворения Ф. Тютчева в отдельную книгу и отвесть им в своей библиотеке место рядом с замечательными русскими поэтами, на которое они имеют неоспоримое право по своему достоинству, признанному за ним ещё Пушкиным».
Как когда-то, проявив завидную настойчивость, Иван Сергеевич Гагарин овладел всё-таки тетрадкою тютчевских стихов, так и его тёзка Тургенев обзавёлся и сушковским списком, и теми вещами, которые автор с неохотою, но всё же уступил. Посему в приложении к мартовской книжке журнала появилось девяносто два стихотворения Тютчева, а в мае – ещё девятнадцать. Из них и образовался сборничек, который редакция советовала сброшюровать.
А в самом конце июня вышла и отдельная, уже по всем типографским правилам первая самостоятельная книга – «Стихотворения Ф. Тютчева».
Анна встретила отца на Невском и сразу не узнала его. Он был побрит, загорел и выглядел довольно свежим старичком, о чём дочь, не скрывая улыбки, сказала ему тут же, на улице.
– До чего же приятно встретить вас, папа, в таком элегантном виде! – Дочь расцеловала его прямо в толпе. – А совсем недавно, не скрою, вы были довольно неряшливы и неопрятны. Вероятно, на вас так счастливо подействовал выход в свет вашей книжки? Цесаревна и великая княгиня Елена Павловна, которая нередко приглашает вас к своему столу, просила передать вам поздравления. Они в восторге от ваших стихов.
– Лучше бы её высочество Елена Павловна была в восторге от моей персоны, а не от тех сочинений, к выходу которых в свет я, увы, не имею никакого отношения. Мне же давеча за обедом великая княгиня прямо сказала, что ежели я по-прежнему стану приходить к ней небритым, в сюртуке, обсыпанном перхотью, и с потёртыми до лоска локтями, она более не станет меня принимать. Так что ты, дочь моя, ошиблась. Причина перемены в моём внешнем виде, которая тебя восхитила, вовсе не в моих сочинениях. Она – исключительно в боязни, что перед неопрятным «старичком», как ты назвала меня при встрече, могут и впрямь захлопнуться двери лучших петербургских домов.







