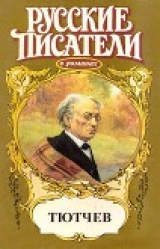
Текст книги "Страсть тайная. Тютчев"
Автор книги: Юрий Когинов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 36 страниц)
21
Солнце только что выкатилось из-за рощи, и тёплые, жёлтые квадраты, косо повторяющие переплёты широкого окна, мягко легли на паркет.
Бирилёв спустил ноги на коврик возле кровати, быстро встал, вытянулся до хруста и тут же ступил на солнечное пятно.
Пол ещё не успел прогреться, но Николаю Алексеевичу медовые паркетные шпоны показались такими тёплыми, приятно ласкающими кожу ступней, как нагретый солнцем речной песок на берегу реки его детства. Он прошёлся по солнцу ещё и ещё раз, ухмыльнулся, довольный, и, распахнув створки окна, выглянул в сад.
Пахнуло настоем трав и горьковатым, не успевшим развеяться с ночи запахом душистого табака и резеды. Где-то вверху, в густой кроне тополей, вспорхнула галка, тонко просвистели крылья невидимых стрижей. А из-за парка, из распадка, в котором струилась Овстуженка, донеслись мерные, звонкие звуки колокольцев и мычание коров.
Сколько за свою жизнь встретил Бирилёв таких вот светлых, ярких начал занимающегося дня!
Ещё кадетом, сонно протирая кулаками глаза, вскакивал в гулкой казарме от зычных, трубных голосищ дядек-дневальных и, топоча тяжёлыми башмаками, бежал вместе с другими однокашниками под холодные струи умывальников и, только растеревшись грубым, колючим полотенцем, понимал: наступил день.
Просыпался потом и до света, пронизанный в ложе траншеи сыростью росы, знобко пробравшейся под шинель, вскакивая на ноги, напрягал слух: не началась ли канонада.
В последние годы первым признаком разгорающегося дня было щедрое, катившее свой огромный, круглый шар по бескрайнему простору солнце и, ни с чем не сравнимый, обвевающий всё тело, пахнущий водорослями, свежий, упругий ветер, рвущийся в приоткрытый иллюминатор. А за дверью каюты, только успевал её толкнуть, – басовитое гудение того же ветра в мачтах, дробное, утробное урчание и посапывание машин под палубой, снизу, сверху, слева и справа разносящийся топот матросских ног, свист боцманских дудок, скрип такелажа и лязганье якорных цепей... Жизнь фрегата не замирала, не останавливалась ни ночью, ни днём, и только люди, поочерёдно меняясь на вахтах, могли провести приметную для них грань занимающегося рассвета.
Первый же рассвет, встреченный в Овстуге, оглушил Бирилёва своей густой и пугающей тишиной. Он быстро оделся и вышел за порог. Свежий воздух наполнял грудь, кровь горячилась, требовала движений. Распахнул конюшню, вскочил на белого жеребца Орлика и пустился рысью, вниз, за Мамаеву рощу. Приметил выводки вальдшнепов и, вместо завтрака наскоро глотнув кофе, в сопровождении ликующих Димы и Вани отправился на охоту.
Однако день впереди оставался ещё почти целым, нерастраченным. И Николай Алексеевич пошёл с Мари на сахарный завод, где с помощью механика осмотрел все машины.
Намётанный глаз обнаружил плохо пригнанные приводные ремни, несмазанные шестерни, еле заметную, но опасную течь в котлах.
Он сбросил охотничью тужурку и, закатав рукава белой сорочки, принялся возиться с механизмами. Дело было привычное: кроме знаний по навигации, астрономии, начертательной геометрии, Бирилёв ещё в морском корпусе успешно занимался теоретической и практической механикой.
Но паровые машины броненосных фрегатов – и сахарный завод... Весь другой день проскучал и за вечерним чаем предложил Мари вернуться в Петербург, а оттуда направиться куда-нибудь во Францию или Швейцарию. Паспорта выправят без проволочки, указано ведь в отпускной бумаге: «лечение вне пределов», а деньгами морской министр снабдил щедро...
Мари потупилась и предложила отложить решение хотя бы на неделю. Но не прошло и недели, как жестокий приступ свалил Бирилёва с ног.
О смерти не думал даже в кромешном севастопольском аду. А здесь открыл глаза, встретил испуганный взгляд Машеньки, бледное, напряжённое лицо Эрнестины Фёдоровны, ощутил влажную, горячую духоту враз промокшей от пота рубашки, решился успокоить стоявших у постели, но не смог выдавить из горла ни звука и впервые в жизни испугался: неужели конец?
Отвернул лицо к стене, хотел, чтобы никто не увидел его испуга и слабости, и тут же забылся...
И вот – снова утро, и солнце, которым он несказанно, по-мальчишески рад. Сколько же таких солнечных дней понапрасну отняла у него болезнь!
– Михаил! Ты где?
В комнату вскочил коренастый, с лихо закрученными кверху гвардейскими усами, одетый в линялую матросскую фланелевую рубаху человек лет тридцати.
– Здрав... желам, ваше!..
Бирилёв застегнул манжеты рубашки.
– Здравствуй, братец. Рад видеть тебя. Орлика оседлал?
– Никак нет, Николай Алексеевич, вы ж не приказывали вчерась...
– Вчера, Михаил, я ещё был, как сам знаешь, на мели.
– Да разве ж можно вам верхами? Я вон и сюртук вам почистил, и ордена мелом натёр. Глядите. – И Михаил, вынырнув за дверь, вернулся, держа в руках парадную форму Бирилёва.
– Что, высочайший смотр? – усмехнулся Бирилёв. – По какому поводу парад?
– Так сегодня того... праздник! Даже два, Николай Алексеевич: престольный день Овстуга и именины Марии Фёдоровны. Извольте вспомнить: нынче пятнадцатый день, август месяц...
– Спасибо, братец, что напомнил. А то я с этой хворобой и счёт дням потерял... Ну, а Орлика всё ж седлай! И Каурую под себя. Вдвоём до завтрака ещё проскачем вёрст с десяток...
– Лошади будут мигом, Николай Алексеевич. Тут – нема делов! – просиял Михаил и по-военному повернулся...
«Праздник и именины Машеньки... – надевая серый сюртук без эполет, подумал Бирилёв. – Как хорошо, что праздники оказались сегодня, когда я уже здоров и когда такое чудесное утро! Я теперь знаю, чем мне наполнить каждый новый день: радостью. Да, обычной человеческой радостью за то, что мне жизнь подарила ещё один день. Один из тех, которые я теперь обязан не просто ждать – бороться за них. Пусть бороться месяц, два, даже целый год, предоставленный в моё распоряжение, только бы снова вернуться в строй, вернуться на флот. И поэтому нельзя ни на минуту терять духа, ни на одно мгновение предаваться страху. Жизнь моя куплена самой дорогой на свете ценой, и отдать мне её так, ни за что, никак нельзя. И все, кто теперь со мною, тоже хотят, чтобы я быстрее поборол свой недуг. Этого ждёт Машенька, этого сердечно хочет Эрнестина Фёдоровна, этого желает Михаил... Его, моряка, будто послало мне само провидение, вернее, мой родной флот. Так что постою за себя и за флот, как стоял не раз там, где было намного труднее и горше...»
Право, Михаила Маркианова точно сама судьба послала Бирилёву – так неожиданно оказался он рядом. Объявился он в тот самый день, когда Дима и Ваня на глазах всего села на руках внесли Николая Алексеевича в дом.
Вечером, когда Бирилёв почувствовал себя легче – отошли сведённые судорогой руки и ноги, – братья Мари помогли ему перейти на балкон. Говорить толком не мог – чужим, будто замороженным, оставался язык. Только кивнул в сторону балконной двери, давая понять, чтобы оставили его одного. Сидел, задумчиво глядя вдаль. Внизу в кустах что-то зашуршало, потом послышался шёпот:
– Да ты не бойсь, стань перед ним и попроси руль.
– Не, не хочу, – ответил детский голос. – Я никогда не прошу. А барин хворый, жалкий совсем.
– Недотёпа ты, Вань, как и все вы, Артюховы. Совестливые больно. А он-то, барин, вишь, умом рехнулся, мычит только и головой трясёт. Видел, как его по улице несли? У такого что хошь можно выпросить. Ну, гляди – я сам...
Чёрный, как цыган, мужик в высоком картузе вышел к клумбе перед балконом.
– Барин, а барин!.. Тут того, твоя лошадь пить просит. Шампанского бы ей ведро. Кинь-ка красненькую, я мигом...
Бирилёв наклонился в кресле, хотел встать, но от волнения не смог, хриплый звук вырвался у него изо рта. На балкон бросилась Мари. Но не успела она переступить порог, как внизу, возле клумбы, затрещали кусты, и мужской твёрдый голос произнёс:
– Ты это о ком, Авдеев, сейчас такие слова сказал? Кого обидеть хотел, на кого мальца несмышлёного подбивал?
Рядом с цыганистым вырос плечистый, в синей фланелевой флотской рубахе. В руках – здоровенный кол.
– А ну, отчаливай отсюда на всех парусах! И чтобы духу твоего больше не было, а то за этого барина я тебе башку снесу!..
Через минуту матрос уже сидел перед Мари.
– Узнал Николая Алексеевича, когда его давеча в дом вводили, да прийти к вам не решился. Дело ведь какое – болезнь. Вот и ходил целый день вокруг: всё думал, пригожусь, потребуюсь. Оно так и вышло... А с Николаем Алексеевичем мы, можно сказать, вместе все четыре года в одной морской купели крестились – к Японии ходили...
То, что говорил этот неожиданно появившийся в их доме человек, для Мари было новостью. Как же оказался этот матрос здесь, в Овстуге? Однако она не перебивала его и слушала.
– Такого командира, как Николай Алексеевич, на всём русском флоте не сыскать. Помню, только вышли на корвете «Посадник» из Кронштадта, Николай Алексеевич перед строем объявил: «Братцы, с этого момента, чтобы вы все знали, отменяю линьки. А увижу, если офицер, унтер или боцман кого ударит линьком, обидчика накажу». Это верёвки такие – линьки. На всех кораблях ими матросов бьют за правду и неправду. А вот у нас Николай Алексеевич начисто запретил... Эх, да что говорить – душа! Вот и читать, и писать теперь я могу – все его, капитана первого ранга, забота.
Мари подалась вперёд, подвинув плетёное кресло к матросу:
– Это же как – читать и писать?
– А просто. Тоже только Балтийское море прошли, появилась на палубе диковина – шар не шар, а что-то вроде. Глобус, говорят, на нём все моря и страны показаны. Зачем, почему глобус? – стали гадать. А это чтобы наш путь к Японии каждый день обозначать. Залюбовались мы этаким чудом, а тут говорят: «Командир сказал, кто хочет учиться грамоте, получай букварь, тетрадку и карандаш, как ребятишки в школе!» На корвете нас сто семьдесят душ. Сто двадцать семь – ни бум-бум, ни одной буковки не знают. А слух такой: Николай Алексеевич, дескать, распорядился – никого силком не заставлять, только добровольно. Тут такое началось! Старослужащие, боцмана особенно, обиделись: эко дело – им в школяры идти! Ну, а мы, молодняк, с охотой стали учиться. Гардемарины, мичмана, младшие офицеры с нами занятия проводили... Вот ведь как мне и другим матросам Николай Алексеевич свет открыл!..
С балкона послышался голос Бирилёва:
– Маша... при... приведи... Марк... Маркианова...
Матрос вскочил, вытянулся в проёме двери:
– Здравия желаем, ваше... Узнали меня?
Бирилёв указал на кресло рядом, попытался улыбнуться:
– Вид... видишь, Маркианов, на якоре я. Вот так, братец, обернулось...
Маркианов продолжал стоять.
– Так и я по чистой отставлен, – сказал он. – Желудок не в порядке нашли. Только нам с вами, ваше благородие, на якоре не век стоять. Выгребем! Не в таких переплётах в Японском море бывали!.. Я ведь овстугской, тутошний. А возвернулся со службы, хозяйство в крайность пришло, старики померли. Налаживать всё заново надо... Так я пока, если дозволите, при вас побуду. А болезнь от вас отведу...
Когда Бирилёв и Маркианов вернулись с верховой прогулки, народу в Овстуге уже было полным-полно. А по большаку всё прибывало и прибывало. Тянулись пешком, ехали на подводах разряженные в вышитые холщовые платья девчата, парни в красных рубахах и в смазанных дёгтем сапогах. Мужики и бабы, те одеты скромно и чинно, но тоже по-праздничному, в костюмы, вынимаемые из сундуков, наверное, раз в год.
А товаров разных, живности – уйма. Не только на гулянье и пляски собрались – в престольный день в Овстуге ярмарка. Хороводами пошли девки с парнями, разнеслось с возов:
– Подходи, подешевело, а то даром отдадим!..
Смех, песни, пиликанье гармошки, выкрики, визг – всё слилось в воздухе.
Но вот, пробиваясь через толпу, загорланили и начали матерно крестить встречных и поперечных двое мужиков. Один – в картузе, сапогах и распахнутой кацавейке, другой – обмызганный, в разбитых лаптях. Навалились бабы, сгребли сердечных и отправили куда-то за ограду церкви, чтобы проспались.
Но сивуха уже ударила в головы и совсем молодым. Схватились пятеро парней, и окровенились у двоих носы. Этих утихомиривать не стали. Окружили, начали подзадоривать:
– А ну, кто кого? Овстугские дятьковичских или дятьковичские овстугских?
– Счас мы, шевординские, разберёмся! – размахивая бутылкой, объявился рябой мужик.
И вдруг бабий визгливый вскрик на всю площадь, заглушивший даже гармони:
– Ратуйте, люди добрые! Речицких бьють...
Когда Бирилёвы и Тютчевы выходили из церкви, народ расступился. Кое-кто из мужиков по привычке снял шапки, бабы стали кланяться. Пьяных постарались оттеснить, как говорится, убрать с глаз.
Бирилёв, проходя по площади, увидел парней, вставших друг против друга стенкой. Кивнул в их сторону:
– Давненько, Машенька, я не сходился в рукопашной... Не попробовать ли?
Мари взяла мужа под руку.
– Я тебя, Николенька, ни на какую войну теперь не отпущу! Погляди вон туда, на луг. Видишь, какие пляски и хороводы? Если не устал, пройдём туда?..
Вышло время возвращаться к обеду.
У ворот усадьбы – две белокаменные башенки под зелёными островерхими козырьками – стояла ватага ребятишек. Рядом с ними, чуть в стороне, женщины в пёстрых сарафанах.
Мари узнала Матрёну, Глашу, Евдокию – подруг детства. В первый же день приезда она свиделась с ними – пришли её приветствовать. Теперь поздравили с днём ангела. Но сегодня праздник не только у неё, Мари, – по обычаю, надо одарить гостей.
– Заходите, заходите в сад! – радушно пригласила она.
Вынесла кому что – расписные платки, косынки, ленты, нарядные бусы, предусмотрительно купленные ещё в Петербурге.
Эрнестина Фёдоровна тем временем, взяв в руки медную полоскательницу для мерочки, оделила ребятню тоже петербургскими гостинцами – грецкими орехами и леденцами. Девочки принимали лакомство прямо в передники, мальчики рассовывали гостинцы по карманам, прятали в картузы.
Несколько мужиков нерешительно перетаптывались у ворот. Маркианов глянул на них неодобрительно, шагнул навстречу, явно намереваясь их выставить. Он никак не мог забыть, как Антип Авдеев обидел Николая Алексеевича, наглым обманом пытаясь выклянчить у него червонец. Ясно, что и теперь мужики пришли в расчёте получить от барина на водку. Однако Бирилёв остановил намерения Маркианова:
– Погоди, Михаил...
Николай Алексеевич вспомнил драку мужиков сегодня на площади и своего вестового Антона, которому долго прощал, но вынужден был уволить за пьянство. И подумал, что, наверное, не надо одобрять дурные склонности. Однако посмотрел на Мари и увидел в её глазах что-то похожее на мольбу.
«Николенька, – как бы прочитал он в её взгляде, – я знаю, что тебе неприятно поощрять пьянство. Только в такой день люди могут дурно истолковать твой отказ. А ты не на водку, ты в честь праздника дай. К тому же разве все мужики пьяницы и драчуны, может быть, кому-то рубль – счастье, на дело он его обратит...»
И тут же вместе с мыслями Мари, которые передались ему, Николай Алексеевич вспомнил лица тех, с кем ходил в штыки на неприятеля в Севастополе, плавал в океанских широтах. Такие же простые лица, как и у его матросов, смотрели сейчас на Бирилёва. Но возникло перед ним и тёмное, заросшее цыганской бородой лицо человека, который подло и низко вымогал у него «красненькую».
«Нет, – тут же решил Бирилёв, – я не имею никакого права думать о людях плохо. Напротив, если бы не эти русские мужики, вряд ли бы я остался живым в том аду. Маша права – пусть у всех сегодня будет праздник». И Бирилёв, достав кошелёк, подошёл к крестьянам.
22
Сели за стол в просторной и светлой комнате, называемой большой столовой в отличие от другой, поменьше, где обедали в будни. Вот тогда и вручили Мари подарки. Николай Алексеевич – тридцать золотых из тех, что выдал ему морской министр «на табак», Эрнестина Фёдоровна – сто рублей ассигнациями, а Фёдор Иванович – новое издание сочинений Тургенева.
Когда внесли обед, оказалось, что Димин и Ванюшин подарок – на столе: в огромном блюде красовалась утка, зажаренная с яблоками. Братьям всё-таки удалось вчера на зорьке поохотиться!
А как вкусно пахнет из супницы ботвинья из свежепросоленной рыбы, розовеет поджаристой корочкой курник, источает нежный аромат слоёный пирог с вареньем!.. Конечно, это мама позаботилась о такой уйме вкусных вещей.
Приступили к обеду, когда в столовую стремительно ворвались Дима и Ваня. И – прямо с порога:
– Там двух мужиков убили... И ещё одному руку искалечили...
– Кто, где? – поднялась с места Эрнестина Фёдоровна.
– Да в драке... как раз возле церкви.
Николай Алексеевич скомкал салфетку, отставил стул:
– Михаил! Собирайся со мной, может, успеем утихомирить...
– Да там уже пристав, жандармы, – мгновенно возник в дверях Маркианов. – Не посмел вас тревожить, Николай Алексеевич, когда узнал. Сам сбегал, а там уже – власть. Не извольте беспокоиться, кушайте...
– Правда, всех буянов привели в чувство, – подтвердили Дима и Ваня. – Да мужиков-то не воскресишь... Вот беда-то какая!..
Мари сначала побледнела, услышав сообщение братьев, потом поднесла ладонь ко лбу, словно хотела умерить жар:
– Господи, сколько я помню, в праздники всегда так: и радость, и беда! И откуда эта дикость – ума не приложу. Говорят: русский разудалый характер, душа нараспашку... Вроде таков, мол, народный обычай...
– Выходит, и я поддержал этот обычай – дал на водку, – произнёс Бирилёв.
Тютчев сверкнул очками, вскинув голову.
– Если быть откровенным, – сказал он, – всё тёмное в народе от нас и идёт. Да, мы не только поддерживаем от доброты душевной дикие обычаи, как признался Николай Алексеевич. Эту дикость мы когда-то сами и породили.
Мари вспыхнула:
– Папа, Николенька просто не хотел обидеть людей. И я здесь говорила не о том.
– Да и я не о том, – отозвался Тютчев и выразительно посмотрел на буфет, стоящий в углу. – Взгляните сюда.
Все непонимающе переглянулись. В буфете стоял роскошный чайный сервиз на двенадцать персон. Дорогой саксонский фарфор, ручки у чайников, сахарниц и чашек с позолотой, в виде мифических сирен.
– Деда моего, Николая Андреевича, секунд-майора и предводителя брянского уездного дворянства, наследство, – кивнул на фарфор Фёдор Иванович, – Однако думаете, он только усадьбу, сервизы и другие ценности оставил по себе? Разгул и безудержное куражество, доходившее до неистовства, царили в доме. А рыба, как известно, – с головы...
– Темень – вот причина народной дикости, – возразила Эрнестина Фёдоровна.
Эрнестину Фёдоровну поддержали Мари и Бирилёв. Николай Алексеевич сослался на пример Европы. Разве там увидишь повальное пьянство и драки? А всё потому, что во многих европейских странах почти поголовная грамотность.
Мари высказалась решительно: надо строить школы для крестьян. И если правительство этого не понимает или не желает делать, те, кто может, обязаны за это взяться. Она вспомнила о том, как муж даже в плавании распорядился обучать матросов грамоте, и конечно же сослалась на пример Ивана Сергеевича Тургенева, который построил в своём Спасском школу для крестьян.
Зашумели, поддерживая сестру и перебивая друг друга, Дима и Иван. Один студент университета, другой – училища правоведения, они конечно же высказались в пользу грамотности. И тут же рассказали о молодых мужиках, их ровесниках, с которыми давеча ходили на охоту: не то что книжку прочесть – расписаться не могут.
Даже головы не повернул в их сторону отец, вроде что там отвечать на азбучные истины. Обратился к дочери:
– Браво, Мари, браво! Советуешь научить всех читать и писать – и сразу исчезнут разгул и пьянство? Полагаешь, что твой прадед, а мой дед, о котором я только что говорил, был неграмотен? Напротив – писал и высказывался по-французски. Тем не менее имя его значилось в деле Салтычихи: как и она, до смерти засекал крестьян, раскалённые докрасна пятаки вот с этого, нашего балкона деревенским ребятишкам вниз бросал...
Худые, костисто выпирающие под сюртучком плечи Тютчева брезгливо передёрнулись.
– Так в чём же дело, папа? – нетерпеливо спросила Мари. – И чем, по-вашему, надо лечить существующее зло?
– Причина народной дикости в порочной нравственности. А способ лечения... Во всяком случае, в педагогической аптеке вряд ли сыщутся лекарства от этого недуга, – с едва заметной иронией произнёс Фёдор Иванович.
Спор с отцом всегда возбуждал Мари. Её ум старался при этом отыскать на острую фразу отца такой же достойный по своей форме ответ, и высшее наслаждение испытывала она от неожиданной беспощадности его суждений. Но на этот раз Мари и не пыталась подобрать эквивалентов его словесным пассажам. В безукоризненной, казалось бы, логике отца она сразу же обнаружила уязвимую ошибку.
Итак, порочная нравственность, переданная по наследству?.. Но уже её дед, отец папа, Иван Николаевич, был человеком, который, по единодушным уверениям многих, кто его знал, отличался необыкновенным благодушием, мягкостью и редкой чистотою нравов. А сам её отец? Или она сама, её сёстры и братья? О каком же влиянии «рыбы, гниющей с головы», может идти речь? И другое: не образование ли дало отцу да и ей самой тот уровень сознания, на который они поднялись как мыслящие существа? А раз так, разве сыновья сегодняшних крестьян, которых водка лишает человеческого обличья, не смогут завтра порвать с привычками своих отцов, с невежеством и дикостью, если дать им знания?
Всё это Мари высказала отцу и вскинула голову, ожидая ответа.
– Неужели, Мари, ты считаешь, что те, кто сидит у нас на самом верху, лишены образования? Не считаешь так? Превосходно. Тогда постарайся ответить мне, почему так лицемерны порою их речи и так низки их поступки?
– Это другой вопрос, – вспыхнула Мари.
– А для меня он – всё тот же.
– Тогда я знаю ваше лекарство от народной дикости, убожества и нищеты, – неожиданно встала Мари и подошла к окну, слегка отведя в сторону штору. Через стекло открылся парк, за ним горбатая улица чёрных крестьянских изб, взбегающих в гору. – Ровно восемь лет назад, день в день, вот здесь, в Овстуге, и тоже по случаю такого же престольного праздника, вы сказали:
Над этой тёмною толпой
Непробуждённого народа
Взойдёшь ли ты когда, свобода,
Блеснёт ли луч твой золотой?..
Блеснёт твой луч и оживит,
И сон разгонит и туманы...
Но старые, гнилые раны,
Рубцы насилий и обид,
Растленье душ и пустота,
Что гложет ум и в сердце ноет, —
Кто их излечит, кто прикроет?..
Голос Мари звучал несколько выше привычного тембра, глаза излучали густую глубину.
Вдруг она смолкла, склонила голову и тихо, выделяя каждое слово, повторила предпоследнюю строчку и закончила:
Кто их излечит, кто прикроет?..
Ты, риза чистая Христа...
Тютчев, казалось, дремал. По крайней мере, он сделал вид, что очнулся от забытья. Он часто позволял себе на какое-то время неожиданно выключаться из разговора, но при этом никогда не терять его нити.
– Самый испытанный и надёжный способ доставить мне несколько неприятных минут – это при мне вслух прочитать мои стихи. А между прочим, мы только сейчас здесь рассуждали о нравственных чувствах, – раздражённо проронил Фёдор Иванович.
– Папа, я вовсе не собиралась доставлять вам неудовольствие, – быстро подошла к нему Мари и опустилась на колено, взяв руку отца в свою. – Вы представить себе не можете, как нравятся мне ваши стихи, какое истинное наслаждение они мне доставляют. Здесь каждая строчка – музыка. Кроме... кроме последней. Нет, нет, не перебивайте меня, я знаю: осознание Бога – высокое чувство, способное очищать человеческую душу. Но люди на земле, разве они сами не в состоянии изменить свою жизнь?
Тютчев встал и сделал несколько шагов по скрипучему, рассохшемуся паркету.
– В нашем споре нет противоречия, – сказал он. – Разница лишь в том, что ты думаешь о тех, кого ты видела сегодня на празднике, я – о России в целом. Чтобы по-настоящему вылечить народ от недугов скотского бытия, кроме образования, необходимо и что-то иное, что могло пробудить и объединить его сознание, возродить нацию. И это иное я вижу в истинно русском и даже общеславянском духе. Вот в чём наша нравственная опора и надежда!
– Иначе, в православии и панславизме? – переспросила Мари.
– Я не знаю, как это лучше назвать, но ты близка к пониманию моей мысли, – согласился Тютчев.
Эрнестина Фёдоровна и братья Мари уже ушли к себе, в столовой остался Бирилёв. Он сидел в кресле, стоявшем в углу, возле больших напольных часов, и внимательно следил за разговором.
– Как вы помните, Фёдор Иванович, – вдруг отозвался он, – десять лет назад на Черном море война как раз и началась лишь потому, что кому-то там, наверху, захотелось создать в противовес Европе могучую российско-византийскую империю, иначе – мощную панславистскую державу.
Тютчев резко обернулся к зятю.
– Да, и меня одурманил тогда тот угар, – ответил он. – Я тоже в числе многих близких мне по духу людей приветствовал так называемый православный крестовый поход. Но я же одним из первых и проклял ту преступную войну! Сейчас речь о другом – о торжестве православного духа без войн и насилия, о возрождении самосознания народа...
Как трудно казалось ему объяснить другим всё то, что для него самого было ясным и понятным! Да, он за просвещение народа, за школы и университеты, за книги, которые несут знания. Именно он, председатель цензурного комитета, ведающего правом запрещать или разрешать переводы с других языков, за то и бьётся, чтобы печатное слово, несущее прогресс, беспрепятственно достигало русской публики.
Но каждой нации нужна своя собственная идея, способная её разбудить и сплотить, сделать здоровой.
– «Риза чистая Христа...» – Тютчев повторил вслух свою же стихотворную строку. – Это, если хотите, не Бог, даже не православие в религиозном, церковном смысле. Так я образно определил именно тот дух нации, на который уповаю. В России он жив, как ни в каком ином народе. На Западе всё уже давно продано и куплено, и ещё раз продано. Там гниль фарисейства и человеконенавистничество, несмотря на образцово поставленное образование. Потому я верю: у России – свой путь, отличный от Европы. И в своём духовном развитии она может не только явить миру образец, но и стать центром православия для всех славянских народов. Да, именно так! Рано или поздно, но наша держава неминуемо достигнет своей цели. И эта цель возродит нацию – и верхи, и низы. Правда, многие из тех, кто считает себя верхами русского общества, думают, что они вполне цивилизованная публика. Но это накипь! А жизнь народная, жизнь историческая осталась ещё нетронутой в массах населения. Она ожидает своего часа и, когда этот час пробьёт, откликнется на призыв и проявит себя вопреки всему.
Горячая убеждённость Тютчева завораживала, а его разоблачение самых верхов уже не удивляло Бирилёва. Но он не привык отдаваться отвлечённым размышлениям, за которыми не видел конкретного дела. В нынешнем же его состоянии, когда он не знал, к чему приложить руки, чем наполнить свои дни, когда отпускала болезнь, мысли тестя казались ему далёкими от реальной жизни мечтаниями.
Из головы не выходили погибшие мужики. И ему, терявшему по необходимости десятки людей в боях, когда жертв нельзя было избежать, сегодняшние жертвы были особенно прискорбны. Потому он согласился с женой, когда она закончила затянувшийся спор:
– Вы правы в одном, папа: народная жизнь ещё не проявила себя, в ней дремлют могучие силы. Однако разбудить их должны только лишь действия людей, поступки, а не одна вера.







