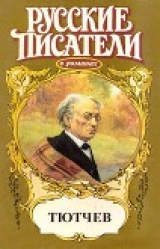
Текст книги "Страсть тайная. Тютчев"
Автор книги: Юрий Когинов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 36 страниц)
23
Иван Сергеевич Аксаков не то чтобы обиделся, но скорее удивился: «Как же так, быть в Москве и не зайти, не пожелать свидеться! Да это Бог знает на что похоже...»
Сколько помнит себя Иван Сергеевич, их дом всегда был центром литературной Москвы. Съезжались все, кому дорого русское слово. Сам великий Гоголь, Белинский, молодой Толстой, актёр Щепкин, соименник Ивана Сергеевича – Тургенев почитали за честь пожаловать к Сергею Тимофеевичу, чтобы провести в его обществе вечер, а то и погостить всю неделю кряду. И теперь отцовские традиции святы, и теперь Иван Сергеевич не упускает случая заманить к себе на огонёк любую более или менее стоящую фигуру. А тут, можно сказать, единомышленник, давний знакомец Тютчев – и нате, побрезговал!
Знает уже: Фёдор Иванович остановился у Сушковых да и укатил, как сказал сушковский человек, на целых два месяца в Овстуг. Почему на два? Не бывало ещё, чтобы Тютчев гостил подолгу в деревне, от силы неделю – и домой, в Петербург. Тут явно что-то не так! Не прослышал ли что об их с Анной намерениях?..
Иван Сергеевич не сдержался, написал Анне Фёдоровне Тютчевой, просил ответить, как понимать поведение её отца. Ответа не дождался, сам направился в Петербург. А вернулся, узнал от маменьки, что был, был у них Фёдор Иванович, только разминулись они с Аксаковым! Маменька успокоила, сказав, что Тютчев обещал вскорости, по возвращении из Овстуга, снова остановиться в Москве и тогда уже непременно свидеться.
– Фёдор Иванович, – передавала маменька, – так и сказал: «Сам хочу увидеть Ивана Сергеевича и говорить с ним...»
«Выходит, что-то уже знает Фёдор Иванович, если так заявил! – теперь уже по другому поводу переполошился Аксаков. – Как же себя с ним вести?»
Снова написал Анне Фёдоровне, прося совета. Однако сомнения и тревоги разрешились сами собой, и наилучшим образом.
День выдался сухой, тёплый, какие только и выпадают в пору спокойного и прозрачного бабьего лета. Иван Сергеевич утром вышел из дома и направился в церковь, к обедне. Но не успел сделать и нескольких шагов – навстречу Фёдор Иванович.
– А я к вам, милейший Иван Сергеевич, – приветливо произнёс Тютчев и взял Аксакова под руку. – Не погулять ли нам?..
Поехали на Воробьёвы горы, чтобы подышать чистым воздухом и вдоволь насладиться видом матушки-Москвы.
Ах, какая великолепная картина открылась с этого, самого высокого, места Москвы! Город – как на ладони. Золотится маковками церквей, сверкает стёклами веранд и богатых хором, пестрит красными, зелёными и голубыми крышами, жёлтыми, розовыми и белыми фасадами дворцов... Прямо внизу – купола и стены Новодевичьего монастыря, дальше – храм Христа Спасителя, Василий Блаженный, Кремль... Особняки, сады, улицы и улочки и снова сады сплошной опояской вокруг города. А под ноги глянешь – голубая излука Москвы-реки. Неспешно течёт она вдоль широко затопляемых каждой весною Лужников...
Фёдор Иванович стоял молча, без шляпы на голове. Снял её и держал в руках, заведённых за спину. Красоту Москвы только и созерцать с обнажённой головой. Какой он петербуржец, какой европеец – с самого детства исконный москвич! По зимам семья всегда перебиралась из Овстуга в первопрестольную, в собственный дом в Армянском переулке. Здесь, в Москве, и в университете учился, здесь познал и первые увлечения стихотворством. И отсюда, благословлённый матушкой, Екатериной Львовной, вышедшей с иконой Казанской Божьей матери в руках проводить сына до самой коляски, отправился на службу в иноземный Мюнхен...
Да, Москва, как никакой иной город в России, – самая русская. Что там Петербург! Конечно, он не худшее, но в какой-то степени определённое соединение Парижа и Венеции, Рима и Берлина... А вот Москва ни на какой город в целом мире не походит. Она, как матушка, одна на белом свете...
– Как покойно и умиротворённо у меня на душе, – выразил своё состояние Тютчев. – И Москва, и вы, Иван Сергеевич, – все нынче рядом, все в моем сердце. Как, право, хорошо мне с вами!..
Тютчев и сегодня, и в любой свой приезд на самом деле искренне радовался встрече с Иваном Сергеевичем Аксаковым. Он знал его давно как сына почтенного и всеми уважаемого Сергея Тимофеевича – истинно русского писателя, а ещё более горячего, ревностного хранителя первородной русской старины. Всё в доме Аксаковых было поставлено на русский манер – и иконы, и стол, возродивший давно забытые кушанья, и кафтаны с поддёвками вместо узких, немецких или французского кроя сюртуков и пальто. Старший сын Аксакова – Константен – нарочито появлялся со своими единомышленниками на улицах, в залах дворянского собрания, в редакциях газет и журналов в красной рубахе, суконной или плисовой поддёвке, с окладистой бородой и волосами, остриженными в кружок.
Славянофилы – так окрестили ревностных любителей русской старины тоже убеждённые в своей правоте сторонники противоположного лагеря – западники. Славянофилы гордились тем, что они не чужого ума люди, а наследники убеждений и веры своих пращуров. Горячо доказывали: века и века жила Русь по своим, кровным законам, оберегаемым из поколения в поколение, а настали петровские времена, многое полетело вверх тормашками. И, дескать, стал забывать, терять русский человек традиции дедов и прадедов, с одёжки и до манер – все с чужого, европейского плеча. Только гоже ли это россиянам с их собственной, исстари незаёмной самобытностью? Вот и заставили задуматься русскую публику Константин Аксаков, литераторы Хомяков, Григорьев и другие.
Тютчев потянулся к славянофилам. Точнее сказать, не принимая поддёвочного маскарада и крайнего, слепого неприятия всего западного, Фёдор Иванович разделил с ними идеи охранения русского и общеславянского первородства. На этот счёт, думается, имелась глубокая причина. Известно, что большое лучше видится на расстоянии. А расстояние – и в вёрстах, и во времени отделившее Тютчева от России – было немалое. Вот и увиделось, укрупнилось из дальнего далека всё, что он оставил дома. И по своеобразному закону контраста – каждый день перед глазами иноземное, в ушах час за часом чужая речь – проявилось в тютчевской душе с огромной силой, как бы сдерживаемой целых два десятилетия с лишком, это гордое русское самосознание.
Но и опыт, обретённый за рубежом, то, что можно назвать хотя бы европейским бытом, точнее, общим для всех цивилизованных народов течением жизни, оставил свой след, с которого Тютчев конечно же не мог теперь сойти. Потому-то, след к следу, и образовалась вроде бы своя тропа. Однако оказалось, что и младший сын Аксакова, Иван Сергеевич, после смерти отца и старшего брата зашагал своим путём, совсем понятным и близким Тютчеву.
Чуть ли не в первую встречу с Тютчевым Иван Сергеевич признался:
– Я – в своей комнате, Константин – в своей. А читаем, к примеру, одну и ту же грамоту Древней Руси. Брат в восторге от всех устоев и правил, по которым жили предки. Я же спорю, отрицаю... В самом деле, к чему мне, правоведу, юристу, да борода по пояс, брюхо, готовое вот-вот лопнуть от сытости? За это ли следует держаться, это ли прославлять?
С несогласий началось, а затем появилась мысль: не в дремучем прошлом, а в сегодняшнем дне следует искать то исконно русское, что одно только и может повести Россию по её собственному пути.
Иван Сергеевич, как он сам высказывался и устно, и печатно, силился найти современные «зиждительные силы», способные обновить «дряхлый мир». Таким, ищущим, он и понравился Белинскому: «Славный юноша! Славянофил, а так хорош...»
И Иван Сергеевич Тургенев, любивший главу аксаковской семьи за сердечную доброту и почитавший его за удивительный писательский слог, счёл за праздник знакомство и разговоры со своим полным соименником.
Конечно, Тургенев никогда не мог принять даже подновлённую славянофильскую программу Аксакова-младшего. Как только дело доходило до взглядов славянофила Ивана Сергеевича Аксакова и его ближайшего окружения, Тургенев заявлял, что от них отдаёт лампадным маслом. Кстати, первой лампадкой России он в своё время назовёт и дочь Тютчева Анну, в письме Герцену.
Итак, младший Аксаков, переняв после брата знамя славянофильства, понёс его своим путём.
Ещё в молодости он решил не столько вглядываться в древние грамоты, сколько изучать живую действительность. После окончания Петербургского училища правоведения служил в московском сенате, товарищем председателя уголовной палаты в Калуге, подался, наконец, собирать статистику украинских ярмарок.
Крымскую войну он встретил, как все в его семье, как многие единоверцы-славянофилы, восторженно. Но, дав зарок ничего не принимать на слово, решил вступить в ополчение: дескать, пощупаю сам, какой там, среди самых ярых русских патриотов, народный дух. А духа-то в серпуховской дружине, где он стал казначеем и квартирмейстером, оказалось мало. Даже вовсе его не оказалось. Прикрываясь ура-патриотическими фразами, начальники в дружине занимались пьянством, ловчили, воровали казённое добро, короче, жили за счёт святой матушки-Руси.
Написал, ничего не утаив, домой: мол, все мы хотим видеть каждого русского человека праведником, а он на самом деле вон каков...
Где же выход? Став уже издателем, публицистом, Иван Сергеевич публично, чтобы не было кривотолков и чтобы собрать в свои ряды не просто вздыхателей по старине, а людей, способных не чураться фактов, открыто изложил свою программу:
«Наше направление: из заоблачной сферы – в жизнь, из отвлечённой среды – в действительность, из области исторической – в современность».
В славянофильских кругах родилась молва: «От отцовского дела отступник...» Заколебалось в руках Аксакова знамя, вот-вот мог уронить. Расчёт подсказал: укрепить позиции «династическим браком». Заметался, ни с того ни с сего предложил руку и сердце дочери Хомякова, одного из столпов славянофильского учения. Та искренне удивилась: «Мало знакомы» – и отказала.
Что ж сбило с толку ревнителей старины, было ли на самом деле у Аксакова-младшего отступничество?
Иван Сергеевич по сравнению со своими предшественниками оказался всего-навсего более практичным идеологом славянофильства. Если раньше считалось, что народ во главе с дворянством должен крепко охранять устои православия, то теперь на смену дворянству появился в России по-настоящему деятельный класс – купечество и промышленники. Вот их-то и углядел в жизни в качестве «зиждительной силы» Иван Сергеевич. Ещё лучшую опору для своих воззрений нашёл – у нового класса в руках деньги, фабрики, железные дороги. А охранители старины они не в меньшей степени, чем дворянство. Наоборот, ближе к простому народу, потому что и сами вчера ещё были мужиками. А ну, если они силу в государстве возьмут? – размышлял Аксаков. А к тому всё и идёт, пожалуй.
Как бы так ни было, идеи православия подкреплялись теперь рублём. Аксаков и свои газеты завёл на деньги купцов, и банки новые поддерживал. Только выглядело всё это, как и в убеждениях Тютчева: делал Аксаков вид, что Россия идёт своим путём, звал её стать центром панславизма, а великая Русь, ведала она это или нет, начинала строить свою жизнь с помощью капитала, как ранее это принялась делать Европа. Тем не менее знамя славянофильства ещё реяло и манило под свою сень новых единоверцев.
Неудачливую попытку жениться на Хомяковой Аксаков предпринял в самом начале шестидесятых годов, а потом вспомнил, что ещё в пятьдесят восьмом познакомился с Анной Тютчевой, которая понравилась ему своими симпатиями к славянофилам. Она с огромной верой говорила о неминуемой победе панславизма, о едином русском и всеславянском царе.
Завязалась переписка, а вскоре отношения приняли и не просто обычный дружеский характер. К последнему свиданию Аксакова с Тютчевым судьба Анны была уже решена. Вот почему Иван Сергеевич с таким беспокойством ждал встречи с Фёдором Ивановичем: как он отнесётся к будущему союзу, не воспротивится ли?
Тютчев чувствовал, что разговора об этом союзе сегодня не избежать. Затем они оба и жаждали быстрее свидеться. Но как случается у людей, посвятивших идее всё своё существование, перво-наперво повели речь о главном, что тревожило сейчас Аксакова и о чём с беспокойством он и Тютчев в последнее время вели речь в своей переписке.
Газета «День», которую Аксаков издавал четыре года, прекратила своё существование. Правительство неоднократно приостанавливало её издание то на три, то на шесть месяцев, и вот – запрет.
Фёдор Иванович не раз помогал сглаживать острые углы в отношениях Аксакова с цензурой, советовал Ивану Сергеевичу быть поосторожнее. Но тог стоял на своём: уж коль критика существующих правительственных порядков, то – наотмашь.
– «День» сделал своё дело, – убеждённо произнёс Иван Сергеевич, глядя вдаль, где в дымке лежала пред ними древняя русская столица. – Теперь подумываю завести новую газету. И знаете, как решился её назвать? «Москва». Да, пусть она, «Москва», станет теперь глашатаем нашей борьбы с казённой и бездушной петербургской империей за изменение общественной жизни страны, за торжество истинно народного русского самосознания.
«Всем со стороны вроде бы казалось, – отметил про себя Тютчев, – что началось с поддёвок и кафтанов, с наивных споров, надо или не надо принимать всё, что идёт с Запада, а вылилось в противоборство с тупой, чиновничьей империей. Впрочем, если отбросить иронию, началось-то и не с кафтанов вовсе. То был маскарад, а мысль с самого начала билась иная, частая и благородная. «Современное состояние России представляет внутренний разлад, прикрываемый бессовестною ложью. Правительство, а с ним и верхние классы, отдалилось от народа и стало ему чужим...» Ещё в пятьдесят пятом году эти слова написал в своей «Записке» брат Ивана Сергеевича, Константин, которую и подал только что воцарившемуся императору Александру Второму. Да, ломались копья в жарких распрях о том, что носить, во что русскому человеку приличнее одеваться, не было числа издевательским наскокам на вроде бы неуклюжие программы тех, кто впервые громко заявил о необходимости пробуждения национального сознания. Но суть их призывов заметили все: Россия должна проснуться, должна стать на путь самостоятельного развития, а для этого необходимо решительно изменить неразумность течения событий, иначе говоря, существующее государственное устройство...»
Аксаковы!.. Всего лишь одна русская семья. А каких она дала недюжинных самородков, какого неукротимого духа людей! Да вот Константин. Ведь это Герцен сказал о нём, что за свою веру он пошёл бы на площадь, пошёл бы на плаху. Эта вера жила в каждом его слове, которое удавалось высказать печатно. «Публика выписывает из-за моря мысли и чувства, мазурки и польки: народ черпает жизнь из родного источника, – писал в одной из своих статей накануне отмены крепостного права Константин Аксаков. – Публика работает (большею частию ногами по паркету), народ спит или уже встаёт опять работать. Публика презирает народ, народ прощает публике. Публике всего полтораста лет, а народу годов не сочтёшь. Публика преходяща – народ вечен. И в публике есть золото и грязь, и в народе есть золото и грязь; но в публике грязь в золоте; в народе – золото в грязи...»
«Что ж советовать Ивану Сергеевичу об осторожности и осмотрительности, если через свои газеты он только и может изобличать грязь петербургской публики?» – подумал Тютчев и с восхищением посмотрел в открытое, пышущее здоровьем лицо Аксакова.
А тот убеждённо продолжал:
– Пусть приостановят и «Москву» на месяц-другой – статьи разойдутся в списках. Разве с «Днём» такого не бывало? Зато буду знать: бью в одну точку. Свалилось ведь позорное крепостное право... А вообще-то, Фёдор Иванович, как трудно жить на Руси... Постоянно ощущаешь нравственный гнёт, какой-то подлинный духовный измор. Ну да нельзя сломиться: фальшь и пошлость нашей общественной атмосферы сами не исчезнут...
Гуляли с лишком полтора часа. Казалось, оба в разговоре забыли о том, что надлежало вроде бы в первую очередь обсудить.
Только уже дома, когда вошли в кабинет, у Ивана Сергеевича само собой прорвалось:
– Как вам, Фёдор Иванович, известно, я уже не молод. Мне сорок два. И Анне Фёдоровне тридцать шесть. Тем не менее я хотел бы просить вас...
Тютчев не дал Аксакову договорить и горячо обнял будущего зятя.
Произошло это в сентябре 1865 года, а в январе будущего состоялась свадьба.
24
«Итак, свадьба Анны, эта свадьба, предмет столь долгих забот, стала наконец совершившимся фактом...
Как всё, что представляется нашему уму несоразмерно значительным, будь то ожидание или позже воспоминание, занимает мало места в действительности! Сегодня утром, в 9 часов, я отправился к Сушковым, где нашёл всех уже на ногах и во всеоружии. Анна только что окончила свой туалет, и в волосах у неё уже была веточка флёрдоранжа, столь медлившего распуститься... Ещё раз мне пришлось, как и всем отцам в подобных обстоятельствах – прошедшим, настоящим и будущим, держать в руках образ, стараясь с такой же убеждённостью исполнить свою роль, как и в прошлом году. Затем я проводил Анну к моей бедной старой матери, которая удивила и тронула меня остатком жизненной силы, проявившейся в ней в ту минуту, когда она благословляла её своим знаменитым образом Казанской Божией матери. Это была одна из последних вспышек лампады, которая скоро угаснет. Затем мы отправились в церковь: Анна в одной карете с моей сестрой, я – в другой следовал за ними, и остальные за нами, как полагается. Обедня началась тотчас по нашем приезде. В очень хорошенькой домовой церкви было не более двадцати человек. Было просто, прилично, сосредоточенно. Во время свадебной церемонии мысль моя постоянно переносилась от настоящей минуты к прошлогодним воспоминаниям... Когда возложили венцы на головы брачующихся, милейший Аксаков в своём огромном венце, надвинутом прямо на голову, смутно напомнил мне раскрашенные деревянные фигуры, изображающие императора Карла Великого. Он произнёс установленные обрядом слова с большой убеждённостью, – и я полагаю, или, вернее, уверен, что беспокойный дух Анны найдёт наконец свою тихую пристань. По окончании церемонии, после того как иссяк перекрёстный огонь поздравлений и объятий, все направились к Аксаковым, я – в карете Антуанетты, и по дороге мы не преминули обменяться меланхолическими думами о бедной Дарье.
Обильный и совершенно несвоевременный завтрак ожидал нас в семье Аксаковых, славных и добрейших людей, у которых, благодаря их литературной известности, все чувствуют себя, как в своей семье. Это я и сказал старушке, напомнив ей о её покойном муже, которого очень недоставало на этом торжестве. Затем я попросил позволения уклониться от завтрака, ибо с утра испытывал весьма определённое и весьма неприятное ощущение нездоровья. Иван, только что вернувшийся, уверяет меня, что он с избытком заменил меня на этом завтраке...»
Письмо окрашено юмором, но волнение проступает, как Тютчев ни пытается его приглушить, спрятать за якобы беспристрастным описанием. Дескать, куда в подобных случаях деться отцам – прошедшим, настоящим и будущим! Я, мол, честно выполнил свой долг, побывал на самой существенной, торжественной церемонии, а что было потом, после церкви, меня не очень-то волновало. Отказался от стола, оставив за себя сына Ивана. И дважды в письме упоминается прошлогодняя свадьба Мари: там и здесь одни и те же хлопоты и заботы...
Письмо из Москвы адресовано Эрнестине Фёдоровне, остававшейся в Петербурге. И тон, и содержание – всё следовало автору скрупулёзно выверить.
Да вот такая фраза в письме: «Беспокойный дух Анны найдёт, наконец, свою тихую пристань».
Вроде бы обычные, житейские слова. Выдал дочь замуж, сдал на руки порядочному, надёжному человеку – и гора с плеч. Всё так. Об этом пишет и Тютчев. И ещё об одном, что не всякий прочтёт между строк, но что поймёт Нести. Это ведь он, отец, двенадцать лет назад сам выбрал судьбу своей дочери. Судьбу, которая – увы! – не привела её к счастью.
И потому свадьба – поправка. Пусть запоздалая, пришедшая не в лучшие для Анны годы, но тяжесть с отцовской души снята. Наконец-то!..
Не прошло и месяца со времени назначения Анны фрейлиной, как Тютчев спешил сообщить Эрнестине Фёдоровне в Овстуг:
«Анна совсем акклиматизировалась; со всех сторон, по поводу её, сыпятся на меня комплименты и похвалы, на которые я не знаю, как реагировать. Люди, как-никак, необычайно тщеславное и легкомысленное порождение, их благочестивое раболепство в отношении тех, кто имеет успех, совершенно непостижимо. Те, кто в прошлом году не потрудился бы спросить меня о здоровье той же Анны, готовы теперь присудить мне чуть ли не лавровый венок за то, что я произвёл на свет Божий подобный шедевр...»
Но так ли чувствовала себя Анна? Умная и проницательная двадцатитрёхлетняя фрейлина понимала: ей уготована золотая клетка.
Фрейлинский коридор на мансардах Зимнего дворца, куда ведут восемьдесят ступеней... Как во французской песенке: «Я живу в четвёртом этаже, где кончается лестница...» И с утра до вечера – начеку, в полном туалете.
Молебны и интимные беседы, легкомысленные и серьёзные разговоры, чтение вслух и чай, который надо приготовить, обсуждение важных политических вопросов – всё одно за другим изо дня в день, как нескончаемо крутящееся колесо.
Часы бьют – значит, парад, прогулка, театр, приём... И ни минуты для того, чтобы самой погрузиться в любимую книгу, спокойно посидеть, подумать.
Но суматошные, отнимающие все силы служебные обязанности – не вся беда. Кто они, кому Анна должна служить, кто вообще эти сильные мира сего? Вблизи видно: император, цесаревич, великие князья и княгини – посредственные, недалёкие натуры. Обыкновенным людям это можно простить, но ведь те, кому служит Анна, управляют великой страной!
С первого же дня требования цесаревны Марии Александровны к милой, умной Анне:
– Вы обязаны быть со мною откровенны и говорить всегда только правду. Вы – рупор, который должен беспристрастно передавать мнения общества.
Лицо Анны бледнеет. Она всегда привыкла говорить одну правду, но поймут ли её те, кто требует искренности? Нужна ли правда им, заточившим себя в покоях дворца, словно в футляре?
Весь свой природный ум собрала Анна, чтобы честно выполнять долг. А в чём её долг? Отец наставляет, да она понимает и сама: надо способствовать тому, чтобы благотворно влиять на образ мыслей и поступки власть предержащих. Себя переделать нельзя, и ни к чему. Значит, оставаясь неизменной в образе мыслей, помогать тем, кому служишь, возвышаться до осознания своего великого предназначения. Короче, «и истину царям с улыбкой говорить...».
За Анной во дворце утвердилось прозвище «Ёрш». Но колкости её нравятся, поначалу даже приводят в восторг: неординарный, изящный ум и совершенно открытый характер!
Один из тех, кто не однажды видел Анну при дворе, литератор и издатель газеты «Гражданин», князь Владимир Петрович Мещёрский, свидетельствовал:
«Не то что словами, но улыбкой, глазами она умела выразить то, что думала, а зато, что думала, то высказывала всегда прямо и безбоязненно. Сколько раз помню, в молодые годы, приходилось на царскосельских вечерних собраниях слышать, как говорит Анна Фёдоровна Тютчева; бывало, она, склонив голову и глядя на скатерть, такие вещи высказывала в правдивой речи, что, с одной стороны, и страх брал, ибо государь слышал эти речи, и смех брал при виде испуганных этой правдой физиономий царедворцев; но государь искренно любил и уважал Анну Фёдоровну Тютчеву и не стеснял её свободы речи; я не замечал, чтобы он сердился, хотя иногда он отвечал ей колкости... В долгу перед Анной Фёдоровной не оставался».
Но сама Анна записывала в своём дневнике:
«Мой дух слишком демократичен, чтобы я могла чувствовать себя хорошо в этих собраниях полубогов, где постоянно боишься некстати повернуться спиной к кому-нибудь из великих мира сего или пропустить случай сделать глубокий реверанс тем, кому подобает».
Нет, она не могла до конца смириться с тем положением, в котором оказалась. С каждым годом всё более её тяготила обязанность играть одновременно роль друга и холопа, легко и весело переходить из гостиной в лакейскую, всегда быть готовой выслушать самые интимные откровения владык и нести за ними пальто и галоши.
Дочь оказалась достойной своего умного отца. Но ведь ум дан человеку не только для того, чтобы, один раз твёрдо поняв ситуацию, в которой вдруг оказался, тут же твёрдо и окончательно решить: положение это не для меня. Тютчев прекрасно видел, чем обернулось для Анны счастье, которое он ей уготовил. Но куда было деться? И он, сочувствуя дочери, стремился укрепить в ней веру в правильности пути, которым она идёт:
Нет, Жизнь тебя не победила,
И ты в отчаянной борьбе
Ни разу, друг, не изменила
Ни правде сердца, ни себе.
Другой раз в письме:
«Хотя я сам, конечно, жалкое создание, отнюдь не героическое, но никто выше меня не оценит нравственной заслуги человека, который за отсутствием счастья умеет, когда нужно, заменить его долгом...»
Однако «отчаянная борьба» подходила к концу, Анна не хотела жить долгом, который ей стал совершенно чужд. За полгода до свадьбы она откровенно высказала свои настроения Аксакову:
«...Дети играли в саду. К вечернему чаю прибыли император, императрица и великие князья Константин и Михаил с супругами. Пришлось стоять, топчась на месте, говорить остроты, раз десять вставать со стула при малейшем движении августейших особ, наконец, проделывать всю позорную и нелепую процедуру, характерную для придворных собраний, на которых сознаешь себя живым только постольку, поскольку испытываешь невольную неловкость оттого, что представляешь собою не личность, а только вещь, составляющую число, – более или менее плотное тело, задерживающее воздух и свет. Вот 12 лет, как я при дворе, и в течение этих 12 лет я всегда испытываю с одинаковой силой ужас социального положения чего-то среднего между домашним животным и мебелью, т. е. несколько ниже любимой собаки и несколько выше кресла. Проходя по залитым зеленью и солнцем петергофским садам с их фонтанами и цветущими газонами, я чувствую, при виде этих павильонов, коттеджей, ферм, маленьких мельниц, этих бесчисленных проявлений императорских фантазий, чрезмерно красивых самих по себе, такое душевное отвращение, что вид их сжимает моё сердце, как боль физическая. Воспоминание о том, как я в этих местах дожидалась, торчала в прихожих, разливала чай, делала реверансы, стояла, умирая от усталости, улыбаясь, умирая от скуки, – делает эти места для меня противными...»
Вся жизнь Анны прошла перед Тютчевым, пока он, отказавшийся от свадебного завтрака у Аксаковых и поджидавший Ивана, сидел над письмом домой.
«Что ж, – подумал Фёдор Иванович, – хорошо то, что хорошо кончается. Обмануло Анну ложное, призрачное счастье, зато теперь уж придёт настоящее. Да оно уже и пришло. И оно не обманет...»
Однако там, в «золотой клетке», теперь оставалась другая дочь – Дарья. Тютчев невольно вздрогнул, вспомнив о ней. Умное, ласковое, предельно искреннее существо. Но достанет ли у неё сил противостоять тому, с чем столкнулась её чистая душа?
Ровно год назад, прогуливаясь с Дарьей вечером по набережной Ниццы, Фёдор Иванович услыхал от неё признание, которое буквально его ошеломило. Со слезами на глазах дочь призналась в том, что влюблена. И предмет её чувства не кто иной, как сам император Александр Николаевич!
Как было поступить отцу? Здесь, в Ницце, совсем недавно он уже пережил признание другой своей дочери, Мари, и вместе с женою не одобрил её выбора. Но что из этого вышло? Мари поступила наперекор родительским слезам и увещеваниям и обвенчалась с человеком, которому отдала своё сердце. Но как следовало поступить в случае с Дарьей? В случае, который мог привести не к браку, а лишь к греховной связи с самим царём.
И тут перед отцом был пример – сломленная судьба его Лели. Так как же он должен был поступить со своею дочерью – вновь, как с Мари, устроить ей скандал или раскрыть перед нею несчастную судьбу женщины, которую он сам же и погубил?
В тот вечер он не сделал ни того, ни другого. Они лишь поплакали вместе, и Дарья почувствовала, как любит её отец и как безраздельно верит ей.
А утром он передал ей листок бумаги со словами: «Моя милая дочь, храни это на память о нашей вчерашней прогулке и разговоре, но не показывая никому...» И под этой французской фразой – стихи, написанные, как всегда, на русском языке, и, без сомнения, сочинённые бессонной ночью после вчерашнего разговора.
Когда на то нет Божьего согласья,
Как ни страдай она, любя, —
Душа, увы, не выстрадает счастья,
Но может выстрадать себя...
Душа, душа, которая всецело
Одной заветной отдалась любви
И ей одной дышала и болела,
Господь тебя благослови!
Он милосердый, всемогущий,
Он, греющий Своим лучом
И пышный цвет, на воздухе растущий,
И чистый перл на дне морском.
Слёзы снова выступили на глазах дочери, и она, обняв отца, прошептала:
– Спасибо вам за эти слова и за то, что вы поняли меня. Мне обязательно надо было излить свою душу, чтобы обрести силы. И вы, папа, такой тонкий, такой тактичный и милый человек, помогли мне понять самою себя. Да, я поступлю так, как повелел бы мне Бог. Я переборю своё чувство...
«Ах, милая моя Дарья, как бы я хотел, чтобы и тебя когда-нибудь посетило такое же счастье, какое пришло теперь к твоей старшей сестре! Несомненно, Анна будет счастлива. Её беспокойный дух наконец обретёт тихую пристань», – удовлетворённо отметил про себя ещё раз Фёдор Иванович. Но это слово «пристань» как-то внезапно в его уме обрело неприятный и тревожный оттенок. Пристань... Бухта... Причал...
Пароходы подходят к пристани, завершая свой рейс, бросая якорь. Но разве жизнь Анны закончилась? И разве её предназначение на земле – один лишь покой?
И вдруг, неизвестно как, в голове зазвучали стихи, которые Тютчев не сразу узнал:
Счастливый бег! И путь просторный
Без мелей, бурь и грозной тьмы,
Пусть будут волны вам покорны...
Нервная, острая дрожь пробежала по всему телу, и Фёдор Иванович вспомнил, где он слышал эти стихи.
Он вспомнил другую свадьбу, свадьбу в Ницце. Возникло милое, сияющее лицо Мари. Это ей предрекали тогда счастливый бег и путь просторный... Не пристань, не бухту, где можно отсидеться, а покорный её воле океан как символ безбрежного счастья.
Но где эта необъятная и лучезарная ширь океана, где она?
Какой непостижимый, загадочный парадокс – судьба! Всеми помыслами, всей энергией сердца и ума именно Анне готовил отец нескончаемый, не обрывающийся даже за горизонтом, широкий, как океан, жизненный путь. Мари, думал он, будет удовлетворена уютным и тихим пристанищем.







