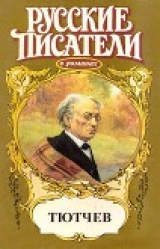
Текст книги "Страсть тайная. Тютчев"
Автор книги: Юрий Когинов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 36 страниц)
17
В Петербурге Сергея Петровича Боткина знали повсюду – в богатых особняках и грязных, сырых подвалах, в Царском Селе и на фабричных окраинах. Доступный всем доктор делал чудеса. Казалось, не существовало такой болезни, которую он не сумел бы распознать и излечить.
Тонкая, основанная на множестве наблюдений диагностика являлась главной страстью Боткина ещё со студенческих лет. Теперь же он основал собственную клинику, где продолжал учиться сам, постоянно проверяя и пополняя свои знания, и обучал многочисленных последователей-врачей. Это были ежедневные упражнения по многу часов кряду – под стать обретению великими музыкантами виртуозного мастерства.
Но с тем же рвением, с каким Боткин занимался наукой, он посвящал себя и лечебной практике. После дневных занятий в клинике он с пяти до семи вечера совершал обход лежащих там больных. Затем ехал домой, обедал и уже в домашнем кабинете начинал приём, который, как правило, длился до одиннадцати. Из каждых пяти-шести приёмов на дому один или два обязательно были бесплатные – для тех, кто не имел лишнего гроша.
Как только Бирилёвы прибыли в Петербург, Мари упросила Анну свести её с Боткиным. Николай Алексеевич, ежедневно выезжавший в Кронштадт, к своему фрегату, занятый службой, откладывал визит. Однако Мари настояла, и они отправились в Царское Село, предупреждённые Анной о том, что Боткин должен там появиться. В то время официально он ещё не был лейб-медиком царской семьи, но тем не менее часто приглашался ко двору.
Врача в летней царской резиденции они не застали, хотя приезжали туда и на второй, и на третий день. Наконец решили отправиться к доктору на квартиру.
Возле большого дома у Пяти Углов толпился народ. Поднявшись на третий этаж, где находилась квартира Боткина, Бирилёвы доложили о себе и принялись терпеливо ждать. Надежд было мало – в регистрационной книге фамилиями пациентов была исписана не одна страница. Николай Алексеевич уже намерился встать, чтобы уйти, когда дверь кабинета распахнулась и на пороге появился Боткин – приземистый и широкий в плечах.
– Мария Фёдоровна, Николай Алексеевич, прошу! – пригласил он.
Бирилёвы вошли в просторную комнату, где всё сверкало белизной. Сергей Петрович предложил сесть, но сам остался на ногах. Было заметно, что Сергей Петрович обладает привычкой постоянно двигаться, не задерживаясь подолгу на одном месте.
– Ну-с... – Боткин что-то передвинул на столе, быстро просеменил к окну и наконец, сев рядом, поднёс по своей привычной манере к глазам, прикрытым очками, ещё и пенсне. – А я вас, милейший Николай Алексеевич, знаю. Помните: лето пятьдесят пятого года, Симферопольский госпиталь и вы после лёгкой контузии? Нет, я вас не лечил, я, извините, тогда в холерных бараках работал. Но слышал от коллег-врачей о вас и ещё подумал, как легко вы отделались от летального исхода. Картечная пуля – в самую голову! Не будь она на излёте, смерть неминуема... А ведь сколько раз с вами могло такое случиться! Наверное, вы сами не знаете, какие легенды о вашей храбрости ходили в Севастополе. Да вот вам реликвия тех лет...
Боткин проворно вскочил и, порывшись в ящике стола, вытащил завязанную тесёмками папку.
– Мои врачебные отчёты. Всё никак не приведу в систему, – пояснил он. – Но дело не в них. Смотрите. Узнаете себя на этом рисунке?
Сергей Петрович протянул литографический рисунок, на котором был изображён молодой, с весёлыми глазами офицер в лихо заломленной фуражке.
В альбомах мужа Мари уже видела этот портрет. Собственно, «Иллюстрированный листок», на странице которого был изображён Бирилёв, она запомнила с детства. Выпуски этого журнала продавались во время войны по всей России и, конечно, были в тютчевском доме. Издатель и главный художник журнала Тимм спешил показать читающей публике в Петербурге, Москве и других городах, какие они, русские герои, насмерть стоящие в осаждённом Севастополе. Тогда впервые появился в печати портрет адмирала Нахимова, зарисовки офицеров, матросов и солдат. И наверное, впервые запечатлел тогда художник сцены боев – не парадные, а обнажающие своей правдой все тяготы и ужасы войны.
Бирилёв перевернул страницы журнала и остановился на портрете Нахимова. Адмирал стоял на осаждённом бастионе – во весь рост, в профиль, в знаменитой «нахимовке» – фуражке с коротким, круто спущенным козырьком.
– Спасибо художнику за то, что оставил нам единственный прижизненный портрет Павла Степановича, – сказал Бирилёв. – Вот так он и погиб тогда – стоя во весь рост у амбразуры... А позировать наотрез отказывался: «Что я вам – дама, чтобы писать с меня портреты?» Наверное, художнику всё-таки удалось сделать набросок прямо на бастионе... Да и у нас разве была возможность сидеть перед художником? Вероятно, тоже где-то подсмотрел, что-то наспех набросал в альбомчике, а потом уже воспроизвёл, скорее по памяти.
– А в точности схвачены – и вы, и Нахимов, – сказал Боткин. – Ну, а ваши матросы, каковы, а!
С журнальной страницы смотрели на Бирилёва его орлы, его бесстрашные товарищи. Нос пуговкой, неказистый с виду квартирмейстер тридцатого флотского экипажа Пётр Кошка... Из этого же экипажа рослый боцман Аксений Рыбаков и матросы Фёдор Заика и Иван Димченко... С пушистыми бакенбардами на волевом лице унтер-офицер резервного батальона Волынского пехотного полка Афанасий Елисеев.
Бирилёв на мгновение прикрыл ладонью глаза, и вдруг всё давнее с поразительной ясностью всплыло в памяти.
Вот они все вместе – Кошка, Рыбаков, Заика, Димченко, Елисеев, а за ними ещё двести пятьдесят таких же отчаянных голов, добровольцев-охотников.
И конечно же, как всегда, неотступен от своего лейтенанта матрос богатырского роста Игнатий Шевченко. Он, как и многие другие, тоже из родного тридцатого экипажа и тоже с первой дерзкой вылазки неотлучно при Бирилёве. Ординарец, или, лучше сказать, дядька, при молодом, горячем лейтенанте.
Ещё не тронулись, ещё только проверяют ружья и амуницию, готовятся к вылазке, а Шевченко уже ворчит:
– Ваше благородие, нельзя вам, как в прошлый раз, впереди всех. Идите себе опозаду. Нехай уж мы передом пойдём. А вы только за порядком глядите...
В ответ смеётся Бирилёв, а Шевченко неодобрительно качает головой.
Шевченко силы необыкновенной. Однажды ворвался во вражескую траншею, иначе ложемент, захватил мортиру и на спине приволок её к своим. А пушечка та не менее пуда весом. Таким же путём – на закорках – этот богатырь доставил с поля боя в плен английского полковника Келли. Не успел Бирилёв шпагу у офицера забрать, как тот уже оказался на могучей спине Игната.
Построились, подтянулись к самым передним своим линиям. Только, как всегда, надо ждать, пока смеркнется и взойдёт луна. Она – проводник. С ней веселее! В лунном свете охотникам хорошо видать и своих, и неприятеля. А врагу, который не знает, с какой стороны на этот раз подберутся русские, слабое лунное сияние – не союзник. Тут все фонари запали, тогда лишь углядишь, как, прижавшись к земле, прячась, словно ящерицы за камнями, подкрадываются матросы и солдаты.
– Вольно, ребята, пока разойдись! – командует Бирилёв. – Кто не выспался днём, подремли, кто хочет курить – смоли в рукав, чтобы огня не видать...
Где там дремать! Свернув самокрутки, сгрудились возле своего кареглазого лейтенанта. Многие только здесь, под Севастополем, начали ходить на вылазки, а их командир ещё на Кавказском побережье водил в бой пластунов. Ещё до этой, Крымской войны. А потом на море воевал и в Синопском бою сражался с вражеским фрегатом «Таиф».
– Эх, сейчас бы, ваше благородие, кабы наш флот был цел, зайти бы французику и англичанину с тыла и все их корабли взять на абордаж! – мечтательно произнёс Пётр Кошка.
– А ты здесь, на суше, вон какого коня на абордаж подцепил, – под общий хохот матросов и солдат сострил записной балагур Елисеев.
Все вспомнили, как на глазах у неприятеля, из-под самого его носа Кошка пригнал к своим великолепного, арабской стати офицерского коня. Стреляли по смелому всаднику, но догони ветра в поле!..
– А ну, служивые, кажись, наша летит! – прокричал Рыбаков. – Поберегись!
Очерчивая в небе огненный след, со свистом рассекая воздух, с неприятельской стороны стремительно неслась бомба. Многие предусмотрительно легли, лишь Бирилёв, Кошка и Елисеев продолжали сидеть на земле, как ни в чём не бывало.
– Не к нам, – спокойно произнёс Бирилёв, определив по слуху направление полёта бомбы.
– Чужая, вашблагородь, к другим в гости собралась, – подтвердил Елисеев, и все обернулись назад, в тыл наших позиций, где через несколько мгновений поднялся столб дыма и вздрогнула под ногами земля.
Шевченко не одобрил поведение лейтенанта и других смельчаков:
– Вы, ваше благородие, того... Не глядите на этих зубоскалов, а то не ровен час...
– Двум смертям не бывать, а одной!.. – Бирилёв подхватился на ноги и скомандовал: – Стройся!
Зашевелились, оборвалась припевка, которую кто-то успел тихонечко затянуть:
Бейтесь, бейтесь, каблучки,
Разбивайтесь, башмачки.
Мне не матушка дала,
Я сама их добыла.
И-эх!..
– Вот что, братцы. Держать строй – локоть к локтю, плечо к плечу, – оглядел охотников Бирилёв. – Иначе перебьют по одному. А так, колонной, навалимся все разом – и не одолеть нас... Если я буду убит, слушать команду подпоручика Игнатьева... Вперёд, марш!
Сначала строем, потом цепью, и вот уже рядом вражеские ложементы.
– Кто идёт? – испуганно вскрикивает французский часовой.
– Русские! – по-французски отвечает Бирилёв и, обернувшись к своим: – На штурм, молодцы!
Слитный треск ружейных залпов разносится над высотами, занятыми врагом. Но напорист, неудержим натиск охотников. Уже захвачены две линии ложементов. У самых проворных – в руках ерши и молотки. Металлический ёрш – в дуло вражеской пушки, удар молотком – и заклёпаны их жерла. Стучат кирки и лопаты – срыты в одно мгновение платформы, на которых стояли орудия.
– Отходи! – приказывает Бирилёв. – Доложить об убитых, раненых и пленных. – И обгоняя колонну: – Благодарю за службу, спасибо, братцы!..
Боткин встал и заходил по кабинету.
– Да-с, было время, – произнёс он, – Я как раз закончил университетский курс – и в Крым. Знаменитый наш Пирогов направил меня в Симферополь. Что там творилось! Каждый день из Севастополя прибывало по тысяче раненых, а госпитальных помещений в общепринятом смысле нет. Под палаты заняты все мало-мальски пригодные дома. В них выбиты стёкла, грязь. Начались инфекции... Впрочем, не мне вам это рассказывать. Вы видели всё собственными глазами. Но вам-то самим каково было в севастопольском аду! Канонада днём и ночью. Не город, а ступа, как метко говорили тогда солдаты. А вы ночами выходите со своими богатырями на вылазку! Это же надо – подойти вплотную к укреплениям противника, «ура» – и враг разбит... Что ни говорите, перед такими, как вы и ваши товарищи, Россия и сейчас должна шапку снимать!..
Лицо Бирилёва слегка побледнело, и это заметила Мари, привставшая со стула. Но Николай Алексеевич жестом показал, чтобы она не беспокоилась и села.
– К сожалению, те, перед которыми я не только обнажил бы голову, но и припал бы к земле, остались навечно там... – глухо, как бы запинаясь, произнёс Бирилёв.
– Несметны жертвы России в той войне, – поддержал Боткин. – И что всего обиднее – напрасны...
«Вот оно, главное сомнение, которое уже десять лет не покидает меня ни на один день! – подумал Бирилёв. – Значит, и тогда всё было понапрасну?.. Тогда, в ту самую ночь?..»
Перед глазами Бирилёва кружатся стены комнаты, медленно плывут пол и потолок. Но нет, это не очередной приступ болезни. Она пока не подкралась, не подошла вплотную.
Прямо перед ним – грудь в грудь – цепь чужих солдат.
– Ваше благородие, назад! У них ружья, целят прямо в вас!..
Сколько раз слышал лейтенант Бирилёв от своего денщика, от своего заботливого дядьки:
– Поберегите себя, вашбродь...
Но о чём Шевченко предупреждает сейчас, о каких солдатах и ружьях, когда надо выбить противника из его укреплений? Вот же близко, совсем рядом они.
Сабля наголо, в левой руке пистолет:
– Вперёд, на штурм, братцы!
Ударили в лицо всплески огня. Только краешком глаза успел заметить пламя из неприятельских стволов, и заслонились они чем-то плотным, возникшим перед ним. И следом оглушающий треск в ушах: «Та-та, трах!..»
Что-то тяжёлое падает Бирилёву на грудь, сбивает с ног. Шевченко! Игнат! Что с ним?
Бирилёв упал на колени, разорвал матросскую рубаху – кровь.
И доходит до сознания, прожигает всего с головы до пят: «Он заслонил меня от залпа, спас от пуль. Он не пожалел своей жизни, чтобы спасти меня...»
Матросы поднимают тело Шевченко, помогают встать лейтенанту...
Медленно движутся стены и потолок. И так же медленно останавливают своё кружение.
Никто не ответит ему на главный, мучительный вопрос: зачем Игнат тогда?.. Наверное, никто никогда не ответит...
– Ну-с, чему обязан? – прерывает видения Бирилёва голос Боткина. – Кто мой пациент? Не вы ли, очаровательная Мария Фёдоровна?
– Благодарю, пока не я, – старается улыбнуться Мари и говорит о цели визита.
Боткин подносит к глазам пенсне, просит Николая Алексеевича рассказать о симптомах, а сам в это время быстро ощупывает затылочную кость Бирилёва.
– Не больно? А так?.. Нет, нет, вы сидите спокойно, дайте мне как следует потрогать это место...
– Простите, но этого не может быть! – вдруг изумлённо произносит Бирилёв. – Прошло десять лет после контузии. Неужели это она, та картечная пуля?
Севастополь... Шестое мая пятьдесят пятого года... Бирилёв, уже капитан-лейтенант, пожалованный званием флигель-адъютанта свиты императора, назначен заведовать аванпостами против Зелёной горы. Там – сильно укреплённые позиции неприятеля, которые следует атаковать предстоящей ночью.
Вышел на разведку, чтобы лучше изучить местность, выбрать удобные подходы, и вдруг рядом разорвался снаряд. Отбросило взрывной волной, ни один осколок не зацепил. Только тупо ударило в затылок. Когда пришёл в себя, рядом с фуражкой, лежащей на земле, увидел круглую, размером с вишенку, картечную пулю. И опять потерял сознание. Очнулся только на госпитальной койке, куда его на шинели принесли друзья-матросы.
В госпитале – до конца июля, а затем трёхмесячное лечение за границей, на курорте в Висбадене. И снова – служба. Так неужели через десять лет та круглая маленькая пуля опять догнала его, уже забывшего и о ней самой, и о том далёком дне?..
– Неужели это она, та пуля? – повторяет Бирилёв.
– Пока ничего определённого сказать не могу, – разводит руками Боткин. – Я сам полагал, что вы счастливо выкарабкались тогда из объятий смерти. Всё это так. Но – не скрою от вас – иногда рецидивы контузий возникают спустя многие годы. Поэтому мой совет – немедленно отпуск. Да, отпуск, по крайней мере на полгода или даже год. Спокойная, без напряжения жизнь в деревне.
Доктор быстро написал рецепт.
– Если болезнь обострится, принимать йод. Надеюсь, ваше состояние скоро придёт в норму – и тогда, уверен, мы продолжим наши крымские воспоминания не в этом кабинете, а в более непринуждённой обстановке...
Когда простились и Сергей Петрович уже проводил Бирилёвых до выхода, Мари остановилась:
– Извини, Николенька, я забыла у Сергея Петровича свою сумочку.
Она вернулась в кабинет и, глядя прямо в глаза Боткину, спросила:
– Это серьёзно?
Боткин только на мгновение задумался, потом широко улыбнулся:
– Ну что вы, Мария Фёдоровна! Не волнуйтесь, пожалуйста. Покой – лучший лекарь. Надеюсь, всё обойдётся. Но помните, я всегда к услугам Николая Алексеевича. Нельзя и думать, чтобы такого человека мы отдали болезни...
18
5 июля 1865 года управляющий морским министерством адмирал Краббе подписал приказ о предоставлении Бирилёву отпуска по болезни на одиннадцать месяцев для излечения внутри империи и за границей с сохранением содержания и единовременной выплатой одной тысячи рублей серебром. Кроме того, Николай Карлович – эмоциональный до экстравагантности, лишённый и намёка на официальную сухость – к нему в любой момент можно было входить без доклада не только офицерам, но даже курьерам и вестовым, – не поскупился и выдал из министерской казны ещё триста золотых, как он выразился, «на табак».
Уложились быстро и вскоре в семейном вагоне отбыли из Петербурга в Москву, чтобы оттуда проследовать в Овстуг.
Вместе с Бирилёвыми отправились Дима и Ваня, которые очень подружились со своим новым родственником и были без ума от его морских рассказов.
Николай Алексеевич в первый же день появления в петербургском доме Тютчевых подарил братьям Мари доспехи японских самураев, огромные ракушки, ещё хранящие шум океана, если их поднести близко к уху, и много других экзотических вещей.
Это были остатки огромной коллекции, которую Бирилёв с командою своего корабля собрал в плавании к берегам Японии, а затем преподнёс в дар Академии наук, за что получил от учёных благодарность.
Смотреть коллекцию ходили все вместе в кунсткамеру на Васильевский остров.
Каких только неведомых диковин не оказалось здесь! И длиннолапый японский краб, размах клешней которого три метра, и розовые, кремовые, сизо-голубые, зелёные, синие морские звёзды, и гигантская дальневосточная черепаха, похожая на огромный, иссечённый сверху валун... А коралловые рифы! Ни Мари, ни Дима с Ванюшей и представить себе до этого не могли, что коралловые заросли – вроде цветочной клумбы, только клумбы эти во много-много этажей...
А рыбы какие! У одной голова круглая, у другой она кончается длинной, как нож, иглой, иные напоминают разноцветных петухов – такое необычное у них оперение.
Николай Алексеевич, показывая рыб, черепах и крабов, препарированных в плавании, подробно объяснял особенности каждого экспоната, и в глазах юношей всё больше разгоралось восхищение мужем их любимой сестры.
В Москве остановились у Дарьи Ивановны Сушковой – родной сестры Фёдора Ивановича.
Какую радость выказала тётя, как принялась хлопотать, чтобы достойнее принять дорогих родственников!
Хлебосольство у Дарьи Ивановны чисто русское, московское. Так было заведено ещё при отце Иване Николаевиче и здесь, в первопрестольной, и в родовом Овстуге. Двери – настежь, столы ломятся от снеди. Только вот Фёдор Иванович таких порядков будто и не признает. Погостит денёк, на другой уже к кому-то перепорхнул. Да и племянницы с племянниками наезжают не часто, лишь проездом или по делам. Одна Екатерина, можно сказать; выросла в сушковском доме.
А это хорошо, что Мари на перемене своей судьбы – сразу к тётке. Как же ещё? Вон тому уже лет двенадцать, как Анна по дороге из Овстуга в Петербург так же получила здесь благословение Дарьи Ивановны.
Спешила, торопилась Анна во дворец, где её уже ждала почётная должность, да перевернулся возок в глубоком овраге под Подольском. Что будешь делать? Анна вся в синяках, ссадинах. Как заявиться к царице в таком виде? Не то что во фрейлины, в кухарки не определят. И давай тётушка выхаживать племянницу. К голове – пиявки, на лицо разные примочки, компрессы. Нельзя было не принять срочных мер: Анна уже не сама по себе, а, считай, казённое имущество!
– Ну, молодожёны, как доехали, помощь не нужна?
Узнала о болезни Николая Алексеевича, всплеснула руками:
– Вот напасть-то! Ну, это я мигом распоряжусь, главную знаменитость Москвы приглашу. Не чета вашему Боткину – сам Фёдор Иванович Иноземцев, профессор университета!
Иноземцев – глаза, как две маслины, удлинённый нос, тонкие кривящиеся губы – жалобы выслушал, осматривать же не стал.
– Характер болезни ясен. Воспалительные явления узловатой системы симпатического нерва, – заключил он и добавил слова, уже понятные всем: – Иначе катар желудка. Прописываю микстуру из нашатыря и корней лакрицы и капли уксусно-кислого аммония с лавровишневой водой. Лечение же, определённое Серёгой Боткиным, отменить...
У Мари будто пуды с плеч. Так она перепугалась, услышав от Сергея Петровича о сильно действующем на организм йоде! А оказалось, всё проще. И никак нельзя не поверить Иноземцеву, который и самого Боткина когда-то учил. Кроме того, ведь это он, Фёдор Иванович, первым в России сделал больному хирургическую операцию, применив эфирный наркоз, о котором до него никто и не ведал. Уж если такой врач даёт указания, им и надо следовать.
А главное, видно, не страшная контузия всему виной, а временное расстройство желудка и на этой почве – нервной системы. Значит, не так всё опасно...
Запаслись новыми лекарствами и, не теряя времени, несмотря на уговоры тётушки ещё погостить в Москве, направились в Овстуг.







